В общем вагоне тесно и душно. Проход заставлен сумками, узлами, корзинами... На каждой остановке, когда кто-то шёл к выходу, слышались незлая ругань, воркотня. Напротив меня – двое мужчин. Один уж старик, седой и сутулый, другому, рыжеусому, с живыми серыми глазами, не более сорока.
С рассветом всё чётче вырисовывались проплывавшие мимо поля, заросшие терновником буераки да редкие хутора, от которых даже сквозь вагонные окна просачивался запах осенних костров.
– А ведь не переживёт нонишнию зиму озимь – навернётся, – глядя на неровную бледную зелень полей, говорил старик.
– Навернётся и навернётся... на то начальство есть, чтоб болеть... – равнодушно отвечал рыжеусый. – А то оно сразу неясно было, когда в сухие глудки сеяли...
– То так – неведомо чему соглашался старик.
От этого простого негромкого разговора незнакомых людей, от вагонной суеты и туманного рассвета в запотевшем окне веяло родной Дурновкой, где я когда-то родился и куда после долгих лет неприкаянной бродячей жизни возвращался. Той самой Дурновкой, которая в дальних краях снилась мне вьюжными ночами в яблоневом цвету, в птичьем щебете и с розовой дымкой заката, подолгу не угасающей за Барсучьей балкой.
Сейчас, неотрывно вглядываясь в мерно текущую равнину, я искал глазами знакомые приметы.
От долгого ожидания щемило в груди, тело моё ломало, и я с трудом сдерживал в себе желание выскочить из вагона и бежать впереди поезда.
К своим тридцати трём годам я всё ещё не обзавёлся семьёй, не имел своего дома и хотел наконец-то осесть и начать новую жизнь в родимом краю.
Единственный человек, которого я хорошо знал, помнил и любил и к которому сейчас ехал, – это мой двоюродный дядя, воспитывавший меня до семи лет, и от которого потом меня забрали в детдом.
Дядю моего называли в хуторе Макеичем, и я, вслед за всеми, тоже звал его Макеичем.
– Слухай, Макеич, – говорил я. – В лавку товар привезли.
– Ну?..
– Конфет целых два ящика!
– Так...
– Я у продавщихи просил, а она: «Заматюхнись, тогда дам...»
– Так за чем дело – матюхнулся б...
– С самого утра матюхаюсь. Она три штуки дала и всё.
Задумавшись, Макеич подолгу жуёт цигарку и наконец выскребает из кармана несколько медяков и, отдав их мне, говорит:
– Дуй!..
Жили мы в высоком рубленом доме под совковой, позеленевшей от времени черепицей. Кроме меня и Макеича жила в доме ещё бабка Фенька – дальняя родственница и полная хозяйка нашего дома.
Был Макеич инвалидом. Ещё в начале тридцатых годов, тринадцатилетним мальчишкой пас он колхозных коней; набегался, прилёг, взмыленный, на весеннюю паркую землю, да и заснул. Тогда и парализовало его. «Отхватило» Макеичу весь левый бок – ногу и руку, и когда он ходил, негнущееся туловище его попеременно поворачивалось то в одну, то в другую сторону.
С тех самых, не благополучных для Макеича тридцатых годов, работал он в бригаде дневным сторожем. Вообще-то бригада в стороже не нуждалась: кто позарится на сеялки, плуги, культиваторы, прочий ржавеющий инвентарь? Но бригадир всё же держал при бригаде Макеича, зачем-то выдумывая в нём нужду.
Макеича знали все. Знали его и в родной Дурновке, и в других хуторах. Знали его даже в районе. Не одно поколение выросло на его глазах; и почти всё районное начальство помнил и знал Макеич ещё по ребячьим кличкам или, как он сам говорил, «ещё беспартошными».
Правил субординации Макеич не признавал и поэтому общался с начальством запросто. Если уважал кого – называл по имени, иногда даже по отчеству, если испытывал неприязнь – не скрывал этого и мог обойтись и старой, всеми забытой кличкой. Макеичу всё сходило, и порой грозный начальник при встрече с ним вдруг начинал робеть.
Каждое утро, ещё затемно, Макеич будил меня и, усаживая в кровати, спрашивал:
– Митрий, на службу идёшь?
Оставаться на весь день с бабкой Фенькой и слушать её бесконечное ворчание мне не хотелось, и я, ещё не в силах раскрыть глаза, утвердительно кивал ему.
Взяв приготовленную старухой сумку с харчами, Макеич выходил на улицу, и я, чтобы не потеряться в потёмках, держался за полу его пиджака. В сумерках, спотыкаясь о сухие комья застывшей грязи, мы вихляли по разбитой дороге. В предутренней тишине ещё дремали хуторские собаки, но бесконечное сиплое похрипыванье молодых петухов предвещало скорый рассвет. Вот где-то скрипнула дверь, звякнул чей-то подойник, послышались голоса – кончилось ночное безмолвие.
В бригаду мы обычно приходили первыми, и если нас всё-таки кто-то опережал, Макеич был очень недоволен и вину за такое ЧП взваливал на меня.
– Молодёжь, вечером не укладёшь, утром не добудишься, – ворчал он, поглядывая в мою сторону и большими негнущимися пальцами левой руки сворачивал цигарку.
Так начинался у нас день. Скоро бригадный домик заполнялся людьми, махорочным дымом, множеством голосов, из которых нет-нет да и выплывало «крепкое» слово, и тогда бригадир Тихан, выразительно поглядывая на меня, кашлял.
Бойкое время наряда проходило быстро. Трактора уезжали в степь, и мы с Макеичем оставались одни. Пока Макеич перечитывал принесённые из дому газеты, я скучал.
Макеич прочитывал всё до последней строчки и тоже скучал. И тогда он начинал рассуждать о политике, причём все его рассуждения начинались так:
«Как думаешь, Митрий?..» Выяснив, как я думаю, Макеич вздыхал: – Эхе-хе-хе-хе-хе, кто нынче в политике разбирается... Возьми хоть в пример агронома... или тебя. Ты, Митрий, в политике понимаешь? То-то. А раньше с этим строго было. Вспомни, Митрий, как при эмтээсе... При эмтээсе собирает Макрида бригаду и, прежде чем наряд дать, к политике приступает. При этом каждому вопрос даст. Вот, к примеру, Кочеток, – Макеич указывает на пустую лавку. – «Кто такой Будённый и какой пост занимает?» Ты, Митрий, знаешь, какой пост занимает Будённый? А Кочетков – тот знает и отвечает. Как положено, отвечает, по всем статьям. Тада Макрида Оведика спрашует, – Макеич указывает на другую лавку. – «Скажи, Оведик, кто такой есть Ворошилов и что поручено ему нынче партией?» И Оведик отвечает. Были, конечно, и такие... – Макеич задумывается и указывает на пустующий в углу стул. – Вот, к примеру, Горшок – тот сроду книжки в руках не держал и если и выписывал какую газету, то для «нужды» лишь. Путного ответа Горшок никогда не давал. Вот Макрида его и спрашивает: «Скажи нам, Горшок, какой пост нынче поручен товарищу Молотову?» Горшок глаза выпучит и лупает в потолок А Федька Саладун сзади него сидит и для веселья чё-нибудь приплетает ему тихонько. Макрида опять с тем же вопросом. Горшок помолчит-помолчит, поинёт в руках картуз, да и скажет, как ему Федька нашёптывал: я, мол, точно знать не могу, какой пост товарищ Молотов занимает, но думаю, что устроился он там неплохо. А Макрида – в «мать» и кулаком о стол, и... на самый дальний участок Горшкову наряд. Дальний участок, бывало, за Горшком всегда оставался.
– А в сорок девятом году, – продолжал Макеич, – это уже как Макриду посадили (напутал чего-то в политике), в бригадиры Мишка Алябьев выдвинулся. Ребячья кличка – Сорока, с мальства крикливый был. Его за глаза так Сорокой и звали. Был Сорока не то чтоб совсем дурак, но и не шибко умный. Любой спор глоткой брал. А глотка-то у него, Митрий, была!.. за эту глотку его и в бригадиры выпнули. Думали, раз глотка есть, значит, справится с руководством.
Пуще всего любил Сорока всякие бумаги подписывать.Что ни принесут – на всё свою руку наложит. Всё подпишет и в бумагу не глянет. Вот и сообразили ребята. Сочинили бумагу, а в ней: «Я, такой-то и такой-то, Мишка Алябьев, по прозвищу Сорока, заявляю, что являюсь форменным дураком и по этой причине объявляю в бригаде выходной. В чём и подписываюсь». Сунул Федька ему эту бумагу. Он и подписал. На следующий день ребята её на самом видном месте вывесили. Вон там и прилепили, – Макеич указал костылём на серый деревянный щит, где обычно вывешивались объявления. – Народ гогочет, да не торопится наряд выполнять. Вот он, Сорока, прилетает: «Почему, мать-перемать, к работе не приступаете?» – «Да ты ж выходной объявил...» Ох, што тада было, Митрий!.. Три дня у Сороки глотка не остывала. Да-а...
А с пятьдесят второго бригаду уж Тихан принял. Ну Тихан, сам понимаешь, Митрий, мужик толковый, с головой. Тихан, я тебе скажу, ежли трошки подучится – председателем будет.
Почему Тихан «мужик толковый», я не понимал. Каждое утро, когда дело доходило до «крепких» слов, он выводил меня на улицу, и, указывая в сторону Барсучьей балки, говорил:
– Ну-ка, Митрий, видишь вон ту вербину? Сорочье гнездо на ней. Проверь, не нанесла она там яиц.
– Проверял уже, – упрямился я, но Тихан уж прикрывал за мной дверь. Был Тихан высокого роста, сухой. Офицерский китель подчёркивал армейскую выправку. Карие глаза его всё время поблёскивали, и было непонятно, когда он весел и когда зол. ….............................................................................................................................................
Дома я становился свидетелем каждодневных споров моего Макеича с бабкой Фенькой. А дело всё заключалось в том, что старуха решительно не хотела признавать в Макеиче работника и вообще чем-либо полезного человека.
– И за что ему только плотют? – ворчала она. – Он и задаром туда кажен день летал бы...
Макеич работой своей гордился, с подобным рассуждением мириться не мог и на правах мужика-добытчка ещё с порога повышал голос:
– Те-та-а! – кричал он, – Ну-кась, ставь живо воду, мне после службы умыться надо.
Старуха, поджав обиженно губы, нарочито не замечала его.
– Оглохла, что ли? – сердится Макеич. – Вот же холера старая... Нарочно, что ли, оглохла...
– Макеич, не матерись, – шептал я. – Она ж не глухая – всё слышит.
– Ну слышит... Для неё и говорю...
– Вот помру, – грозилась Фенька, – тада узнаешь... Такой работничек-то, чай, не каждому нужон. Сразу гонору поубавится.
Макеич же усаживал меня на колени и, ища во мне молчаливую поддержку, разговаривал только со мной.
– Ну вот прикинь, Митрий, – говорил он. – Семнадцать рублей мне плотят. Семнадцать! Как думаешь, зазря такие деньги раздаёт кто? То-то. Нужный в бригаде я человек, вот и плотят! Без меня, может, уже б и бригаду-то обобрали, а я вот... А ей, холере, разве устреляешь – упёрлась на своём и хочь што ей...
Единственный человек, с кем Макеич никогда не спорил, – это его отец, сутулый сухой старик. При отце Макеич не чтоб сквернословить – курить не смел. И когда бабка Фенька жаловалась на произвол Макеича, старик хмурился и, глядя на него из-под нависших бровей, говорил:
– Иван, это что же ты такое вытворяешь, а?
А Макеич, как мог, тянулся перед девяностолетним стариком и не смел оправдываться, ни глаз на него поднять.
– Он тебя что, лупит? – спрашивал я, когда мы оставались одни.
– С чего ты придумал? – смущался Макеич.
– А зачем тогда боишься его?
– Не боюсь. Почитаю.
Я всё смотрел в окно. Те же поля так же мелькали за стеклом, как и двадцать пять лет назад, когда меня по этой же дороге увозили в детдом.
«Как там сейчас мой Макеич? – думал я. – Постарел, наверное... А Феньки, пожалуй, и нет давно».
Тут моё внимание привлёк разговор моих попутчиков:
– Дело давнее... Ты тогда без штанов ещё бегал, – говорил старик молодому. – В году пятьдесят первом или втором вернулся домой Тихан Алимов, – звёзды во все погоны, три «Славы» на груди – такого под ногтём не удержишь. Глянул, как мы тут коптимся, – заблестели глаза. Я, говорит, всё на свой лад поверну. Хватит нам голову морочить.
Мы Алимова в бригадиры, а начальство его невзлюбило. Как им любить такого: ему звонят – выезжай боронить, а он без спросу уже ячмени досевает; ему: приступай к севу пропашных, так как район отрапортовал уже. А он в степь выйдет, земельку помнёт в руках – нет, не время ещё. Ему рожь засевать велят, а он: «Осень сухая, не выйдет рожь». И весной яровыми засеет. И так всё по-своему, всё по-неписанному. Кому ж такое понравится? Взъелось на него всё начальство. Съехались всем районом и по этому поводу собрание назначают, с тем чтоб Алимова с бригадиров сковырнуть и дабы другим неповадно было дерзить – наказать примерно.
Заправлял всем этим делом Илья Коржов. Он в те годы исполкомом председательствовал. Пантелей Горевский – секретарь райкома, тоже приехал. Он, Пантелей- то, из наших, из дурновских родом. Его вроде и не ждали тогда, а он вне всякого плана явился.
– Да, в те годы случалось такое, – поддержал разговор ещё кто-то в вагоне. – Это сщас за месяц вперёд сопли утираем, как загодя знаем: кто, куда, когда и зачем припрётся...
– Вот началось собрание, – продолжал старик. – Всё, как надо, по намеченному графику идёт. Там уж наперёд всё известно: кто когда выступит и чего скажет. Лупцуют Алимова – места живого нет: и такой он, и растакой, и самоуправ... И чего только не городят.
Сидим, присмирели и только диву даёмся: какой-сякой у нас бригадир. Тогда не модно было в разговоры встревать. Так не так, самого не зымают, и слава Богу. Сиди тихонько, дуй в две дырки да помалкивай. Федька Саладун один лишь и препинался, но так как складно изъяснять умел на одних матюхах, его быстренько и выпхали вон. А Коржов уж черту подводит: «В трудное, мол, время живём, товарищи. Враг не дремлет – всюду разруха и саботаж. То, что творит ваш Алимов, и есть саботаж против Советской власти, а за такое не только с бригадиров и с партии гнать, под суд!»
Тихо в зале, как вымерли. Тут на заднем ряду – громых! – стул упал. Глядь – Макеич к трибуне правится. Там:
«В чём дело?»
«Слово имею».
«Ты не записан».
«Так пишите».
«Нельзя, ты под регламент не подходишь».
А Горевский: «Почему же нельзя? Давайте, товарищи, послушаем, что нам по этому вопросу рядовой колхозник скажет».
Повернулся Макеич к Коржову:
«Вот ты только что говорил здесь... Долго говорил, складно про саботаж и прочие козни, а мне всё хотелось спросить тебя, наш дорогой товарищ Коржов: скажи, а почему в этот, вроде б и неплохой год, рожь по району не дала?»
Тут из районного начальства как застучит кто-то карандашом:
«Прошу вопросы по существу!»
А Макеич смеётся ему:
«Не тарахти. Мне тоже есть чем тарахтеть, – палку показывает. – Я по сути и спрашиваю. Только не схочет товарищ Коржов ответить нам. А потому не схочет, что всем наперёд известно было – не уродит рожь, и сам Коржов об этом знал – осень-то без дождя, в сухую землю сеять пришлось. Её б, ту земельку, до весны оставить, под ячмени пустить... Но не оставили, потому как ему, Коржову-то, план сверху пришёл, и от этого плану он никак отступить не может – не саботажник же. А там, наверху, планы те такие ж коржовы нам сочиняют. На бумаге всё складно в них порасписано, да только с Господом те планы не слажены. И выходит так: где в осень дождь на дожде лил, рожь не планировалась – под ячмени земли оставили, а там, где и оставить бы их, по этому плану рожь сеять вышло. Такая вот карусель...»
«Короче давай, короче!» – обрывают Макеича.
«Да уж куда короче. Один со здравым рассудком нашёлся, не пострашился ответ держать. Радовались мы: хоть не по плану, а ячмени уродились. И вот, дорадовались...»
Тут Коржов поднимается:
«Не нами план выдуман, не нам и отменять его. Не будет плана – не будет порядка. Представьте, если каждый засевать будет то, что ему вздумается».
«Если с умом будет вздумываться – не будет страна голодной, – отвечает Макеич. – Отцы наши без вожжей управлялись и полмира кормили».
Тут президиум как подпрянет:
«Это ты куда загибаешь?! Советская власть хозяйвами вас сделала».
«Мы, конечно же, хозяйва, – соглашается Макеич. – Хозяйва замка, да ключи не у нас».
– И что, послушались вашего Макеича? – спросил кто-то из попутчиков.
– Послухали, не послухали, а Тихана не сняли, – отвечал старик. – Горевский вступился. Выговором обошлось. Потом, конечно, подсидели да под одно бедствие и влупили на всю катушку. А тогда не посмели...
Обрадованный тем, что со мной едут мои земляки-хуторяне, я не мог удержать в себе желания заговорить с ними, и, ещё не зная, с чего начать разговор, спросил, скоро ли будет Дурновка.
– Х-х, Дурновка, а на что она тебе? – неожиданно спросил старик.
– То есть как на что? – растерялся я. – Жить, работать...
– Тогда тебе нужно в Степановку, – сказал рыжеусый. – Туда бригаду перевели. И правление тоже.
– А Дурновка?..
– А что Дурновка, за одиннадцать вёрст на работу бегать не будешь. Это одно, а второе: в Степановке квартиры дают, газ, вода... Вот и перебегли. Старики, конечно, выкобенивались, им что... Я вот своего еле перетянул. Тоже упирался. А теперь в ванне скупается: «Как это мы раньше под соломой жили? Сейчас как заново на свет народился».
– А Макеич? – спросил я. – Макеич в Дурновке остался?
– Макеич? – удивился рыжеусый. – Так нет Макеича. Уж лет десять, как умер.
– Да, так, – подтвердил старик. – Как бригаду в Степановку перекинули – затосковал без дела, запечалился, да в один год и помер.
Я совсем растерялся.
– Это ты, что ли, Митрий? – спросил вдруг старик.
– Митрий, – подтвердил я. – А вы откуда знаете?
– Знаю... Это ты уже всех позабыл. Макеич-то напоследок сгадывал про тебя. Вы, говорит, Митрию отпишите... Да где тебя сыщешь?
Вскоре попутчики мои вышли, и передо мной проплыла Степановка. Широкие прямве улицы, асфальт, серые, не выделяющиеся друг перед другом, словно для смирения построенные по одному проекту, дома, редкая зелень и густой лес антенн, запах городской пыли...
Дурновка встретила меня узкими, заросшими татарником и полынью улочками, заброшенными, одичавшими садами, пустующими развалинами домов. Низкие обрывистые облака катились над мёртвым хутором; зазывая скорую непогоду, неровно галдели мечущиеся в вышине грачиные стаи.
Наш дом я узнал сразу, Он не успел ещё рухнуть, лишь только крыша осела и провалилась во многих местах. Сквозь густые заросли молодого караича и клёна я пробрался к крыльцу. В неживой тишине одиноко хлопала ставня да, играя распахнутой дверью, шелестел ветер.
Сбив пыльную паутину, я вошёл в дом. Низкие серые стены, маленькие комнатки, раньше казавшиеся мне большими, неровный земляной пол... В правом дальнем углу «на всходе» всё также висит помрачневший от наслоившейся грязи образ Божьей Матери- Заступницы, у которого, каждодневно отбивая поклоны, вымаливала прощения каких-то своих грехов бабка Фенька.
Каждый шаг гулким эхом отдаётся во мне. Неуклюже осеняя себя крестным знамением, снимаю икону. Сегодня это всё моё достояние.
В ближнем углу всё так же, как и прежде, стоял иссечённый ножами стол. Когда-то у этого стола мы посиживали с Макеичем на высокой широкой лавке.
– Макеич, расскажи чего-нибудь, – просил я.
– Вот расскажу тебе, Митрий случай... При моей памяти дело было, – начинал обычно Макеич.
Томя моё ожидание, он подолгу крутил цигарку, прикуривал, кашлял в рукав и уж затем рассказывал истории, которые присходили явно до его памяти, но в которые я верил.
Моя низкая кровать стояла всё там же, у печки, сейчас уже рухнувшей. Неожиданно из- под неё с шипом метнулась одинокая кошка, и я, уступая ей путь, отпрыгнул в сторону. Полумрак пустого дома угнетал меня. Мне стало казаться, что из чернеющих дыр потолка кто-то неотрывно следит за мной. Скрипнула дверь, прошуршали чьи-то шаги в коридоре. Я резко обернулся. Никого. Только ветер по комнатам. Мне стало жутко, и я, спрятав под свитер икону Заступницы, поспешил выйти на улицу. Ни голоса, ни петушиного крика, ни лая собак... Тишина. И только из густого кустарника, боясь показаться на глаза, пронзительно мяукала кошка. Когда-то так же обречённо кричал, утопая в колодце, наш жёлтый кот. Макеич пытался зачерпнуть его ведром. Это ему не удавалось, и тогда он матерился в полный голос и звал на помощь соседа Ивана Староскольцева.
– Иван... твою мать, – кричал он. – Пособи, Иван!
Сбежались люди.
– Кто?.. Что?.. Митька тонет?! – не разобравшись, кричали со всех сторон.
– Митька вот он, – приподнимал меня за шиворот и показывал каждому Макеич. – Кот погибает...
Все опускали головы в сруб и видели: действительно, кот.
Кота спасали всей улицей.
Сейчас сруб колодца рухнул, и там, где стоял он, густо толпился бурьян.
Я шёл хуторскими улочками, и в каждом пустующем доме, в каждой развалине виделись мне кусочки далёкого детства. Там, где высился заросший крейдяной холмик, стоял когда-то дом деда Масюры. Я узнал это место по ветрячку на сухой груше. Когда-то у этого дома стояла лавочка, и, возвращаясь домой, мы каждый день отыхали на ней с Макеичем, а дед Масюра выносил нам воды и обещал, что сделает мне самый звонкий ветряк на хуторе. А чуть дальше, в старом казачьем доме, размещался клуб.
– Кондрашей на Север угнали – вот и приспособили их курень, – просто объяснил мне происхождение клуба Макеич.
– А зачем их на Север? – спрашивал я.
– Х-х. Для того ж и спровадили, – непонятно усмехался Макеич.
Вечерами, едва лишь смеркалось и на краю хутора начинал постукивать дизель, зажигая в домах электрический свет, мы с Макеичем приходили сюда. В любой день в клубе было тесно и шумно. Махра подпирала потолок. Все с нетерпением ждали, когда удосужит явиться Пашка-завклуб: ему одному доверено включить первый в хуторе телевизор (остальные ж не то что включать – близко подходить к нему не решались, боялись повредить). Но вот начинал светиться экран, проступало нечёткое изображение, и все, словно впервые увидев чудо, замирали. Лишь изредка пронесётся шёпот: «Гля, гля – Москва!.. Надо ж – тысяча вёрст и как будто вот она...» Смотрели, затаив дыхание, всё подряд, без разбора. Потом, поздно вечером, Макеич будил меня, и мы правились к дому...
За клубом когда-то был огромный став. Дед Масюра поймал в нём пудового сазана и этим так зажёг хуторян, что вечерами у става бывало тесно. Зимой в выходные дни к нему стекалось полхутора. Все, усевшись на вербовые карчи, ждали, когда начнётся хоккейная баталия со степановцами. Перед матчем Васька Староскольцев, поигрывая клюшкой, обычно подкатывал к соперникам и, хищно сщурив глаза, то ль всерьёз, то ль в насмешку, говорил:
– Если выиграете – в торец получите. Ясно?
– Так не честно, Васька, – робко отзывались степановцы.
– Ха. Ну раз хотите по-честному, тогда так: проиграете – будем бить!
– Васька, мы так играть не будем, – роптали степановцы.
– Ну-ну, не будете, – хмурился Васька, и матч начинался.
Степановцев били редко, но держались они всегда напряжённо и оттого проигрывали.
Сейчас става не было. На его месте поднялись заросли ивняка, камыша да чахлой осоки. В центре гребли лёг широкий, никем не латаный овраг.
Я не заметил, как подошёл к развалинам небольшого дома. Здесь жил Тихан.
Больше всего я любил бывать в доме Тихана. Это только у него в доме жили одновременно и Тихан с женою Галькой, и девятеро ребятишек, которых все звали в хуторе Галькиными, и голуби, и четырк козы. До сих пор удивляюсь, как только они умещались в этом домишке.
Тихан днями пропадал на работе, дом прохудился, и Галька часто жаловалась соседям:
– Тоже мне бригадир... В своём дому ладу не даст, а за бригаду взялся.
Когда же Тихан возвращался домой, зудела ему без умолку:
– Ты же власть, Тихан, кого тебе бояться? Завези матерьялу на дом. Никто ведь не укорит. Знают, как мы живём...
– Ну что ты мелешь, Галька? – устало отзывался Тихан. – Ежели бригадир в свой дом хапать зачнёт, какой с других спрос будет? Нет, Галька, у нас в роду порядок такой: хоть гол, но прав, и я от него не отступлю.
– Ишь принципиальный какой, – плакала Галька. – На других поглядел бы – прут без зазору. Детей расплодил, а как до ума их вести, не знает...
Была у Тихана дочь Танечка. В третьем классе девчонка училась. Круглая отличница. Гордость Тихана. Мечтала Танечка учительницей стать и, когда я заходил в их домишко, радостно кричала:
– Митька, какой молодец, что пришёл! А мы в школу играем.
Я усаживался за стол, слюнявил карандаш и на сером клочке бумаги писал свои первые палочки. А палочки те были неровными и падали не в ту сторону... А Танечка успокаивала меня, даже хвалила и своей тоненькой ручкой вела мою.
– Ну, Митрий, как наука? – насмешливо щурился Макеич, когда я возвращался домой.
– Арихметику сегодня учили, – с гордостью докладывал я.
– Ну?! И чего ж тебе Танюха там научила?
– Прибавлять и умножать рассказывала...
– «Умножать, прибавлять...» Эх, Митрий, не тому она навчает тебя. При Советской власти знаешь какая первая из наук? Отнять и разделить. Вот это наука!
– Дуралей старый, – ворчала сама себе бабка Фенька. – Вот дознает Коржов, чему он дитя воспитует...
Я стоял у развалин Тиханова дома, и только сейчас мне вспомнилось, как горел хутор. Была осень. Воздвиженье. Престол на Дурновке. Солнце, ветер, осенняя сушь... Пьяные весёлые толпы по хутору. Гармонь, песни с прибаутками... Ох, и славный самогон на Дурновке! Макеич и тот не стерпел – хлебнул стаканчик. Заблестели его глаза, запрядали черти в них; того и гляди: кинет сейчас Макеич костыль, пойдёт выплясывать под гармонь! Федька Саладун, тот вконец распоясался: сыплет матерными частушками, а как ещё ухватил пару стаканов, вовсе стыд потерял, на святое позарился:
Как в колхозе Ильича заездили мерина,
Целый месяц кишки жрали – поминали Ленина.
«Эх, Федька, Федька... Разве ж можно так богохульствовать! Пропал Федька! Пропал...»
И надо ж под такую музыку беде приключиться – вспыхнула нежданно солома у хутора. Шесть скирдов – всё, что заготовить сумели колхозом. Пьяные отрезвели. Трезвые в панику: «Ох, пропали, пропали!» Сухими ковылями надвигается на хутор огненная стена, трещит дереза, полыхают тёрны.
Дед Масюра забыл о своей хромоте, скачет молодым козлом к Терновой балке наперерез огню. Мечется на цепке его коровёнка, орёт сумасшедшим рёвом: «Выручай, хозяин. Погибаю!» Споткнулся Масюра, упал, пробежал на четвереньках, снова валится, нет уж сил, а огонь – вот он, накрыл коровёнку. Заметалась в пламени, заорала отчаянно, да тут же и умолкла. А ветер, словно взбесился на этот час – прёт на хутор, огонь снопьями разносит.
«Федька! – кричат. – Где Федька?.. Спасай, Федя, опахивай...»
А у Федьки уж третий ремень порвался – не заводится трактор. Четвёртый ремень намотал. Молчит, даже не матерится – признак крайней ярости. «Ну, Феденька... Ну!..» Затрещал наконец пускач, гуркнул мотор, тронулся трактор, тянет борозду по бровке огня. «Спасай, Федя... Спасай!..» Не удержать огня – перекинулся через борозду, катит на ферму. Вот уж и трактора не видать. «Беги, Федя, беги!..» Но нет, упрямый дурак, не успел вырваться с жара – новую загонку начинает у фермы. В гуле, вихре, с новой силой накатили взбесившиеся огненные кони, объяли пламенем трактор... Чёрными клубами подлетел в небо дым... «Эй, Феденька-Федя, что ж ты с собой утворил...»
С кучкой смельчаков отсекает Тихан пламя от фермы, а в хуторе уж первая хата горит. Рухнул людской фронт – некому ферму спасать. Кличет Тихан людей на помощь, да где там. Когда свинью жарят – не до поросят ей. Каждый своим занят. У некоторых уж крыши загораться начали. Обливают люди дома свои водою, воздух ропотом правит: «Пропал хутор! Пропали мы все...» Вот и ферма уже горит. Тихан – амбары спасать. И амбары заполыхали... А по хутору скот обезумевший мечется, бабы голосят. По земле пепел катится... «Господи, за грехи всё за наши».
Пала бабка Фенька пред иконой: – Пресвятая Заступница! Прости мне мои прегрешения...
И я, вспоминая в себе все свои подлости, послушно стал на колени. Даже Макеич и тот, уронивши костыль, молча клюнул сивой башкой.
Смилостивилась Матерь Божия, простила нам все преступления: стих знойный ветер, зачах в зелёном садку огонь, не добрался до нашего дома.
Попробуй сыщи, кто виноват в беде. Но лишь огонь поутих, пошли по хутору догадки разные, и больше всего сходились на том, что «должно быть ребятня подпалила». А у кого в хуторе ребят больше? У Гальки. И дальше пошло: «Говорят, Галькины тож у скирдов шлялись...» Ну, а потом уже почти без сомнения заговорили: «Галькины, Галькины запалили».
Прискакал Тихан домой: конь взмыленный, шапка утеряна, чуб обгорел, лицо в волдырях... В руке Тихана арапник, кожаный. Никуда от него не скроешься. Притихли девятеро у сгоревшего сарая. Взвился арапник – ахнул выстрел по хутору. «Ах вы, сукины выродки... что же вы натворили...» А они лишь: «Папочка, – кричат, – миленький, родненький!..» А арапник по спинам у них гуляет. А у Староскольцевых псы воют... Саладуниха голос порвала – хрипит... И сама Галька уж умом тронулась, волосы на себе рвёт: «Что ж теперь будет, люди добрые... За что нам всё это...»
Бросил Тихан арапник, сел на землю у своего домишки, обхватил руками голову да как заплачет... В первый раз, наверное, заплакал – никогда плачущим не видали. Всю ночь плакал Тихан и утро плакал и даже тихонько выл... И был он худым и жалким.
Потом судили Тихана и дали ему восемь лет. И Макеич днями молчал в бригаде, а если и подавал голос, то лишь для того, чтоб заматериться. И я не понимал, почему он так зол.
«Где он сейчас, Тихан? Где она, Танечка, отличница круглая, гордость Тихана? – подумал я. – Сбылась ли её мечта?»
Я обошёл весь хутор. На заброшенном кладбище пытался найти могилку Макеича, но не знал никаких примет её. И, поправив подгнившие, повалившиеся кресты, я направился к станции.
По дороге меня догнал трактор. Рыжеусый недавний попутчик выскочил из кабины. От него уж попахивало винцом, но на ногах он стоял крепко.
– Батя говорит: «Поезжай, забери Митьку, не ночевать же ему в Дурновке», – громко проговорил он и, подмигнув, указал на трактор. – Садись, отвезу в Степановку. Отдохнёшь, осмотришься у нас, потом в контору сходишь, устроишься...
– Да нет, передумал я.
– Куда ж ты теперь? – растерялся рыжеусый.
– Не знаю...
Помолчали.
– Ты, может, помнишь, где могилка Макеича? – спросил я.
Рыжеусый поморщился, вспоминая, потом мотнул головой. – Не, не помню.
Ещё помолчали.
– А Федькину помнишь? – спросил я.
– Федькину? Это какого Федьки?
– Ну, Федька... тракторист тут когда-то был... Сгорел....
– Нет, не помню такого.
– Ладно, – сказал я. – Мне пора.
– А я... Я – Василь Староскольцев, – вдруг спохватился рыжеусый. – Помнишь?
– Нет, – зачем-то сказал я и зашагал к станции
– Может, тебя подвезти? – прокричал вслед мне Василь.
– Не надо, – не оборачиваясь, ответил я.
Был вечер. Солнце спеющей вишенкой катилось к горизонту. Всё так же, как и много лет назад, дымился розоватым туманом закат за Барсучьей балкой, так же замирала вечерняя степь, и так же чернели вербы вдали... И только что-то навсегда покидало меня.... Может быть, то, что в далёких краях вьюжными ночами снилось мне в яблоневом цвету и в щебете птиц...
Я шёл к станции и не знал, вернусь ли ещё в эти места...
И куда завезёт меня поезд....
1984


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



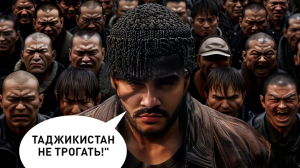










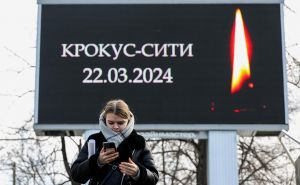
































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский