Не мог я прочно держать в себе свое новое содержание, хотя не мог и раскрыться полностью. Но создавались ведь и такие моменты, когда невозможно было промолчать, стерпеть, не возвысить голос.
Вспоминаю маленький инцидент на даче у Георгия Леонидзе в Кахетии. Проходила декада русской литературы в Грузии. Ну, ездили, выступали, восторгались, как говорится, с трудящимися. Но тоже и грузинские писатели по своей неписанной традиции то один, то другой приглашали к себе в гости, если не всю делегацию, то часть ее по собственному выбору. Значит, другая часть в это время приглашена другим грузинским гостеприимцем. Так вот оказались мы, человек десять, на даче у Георгия Леонидзе. Неторопливы и велеречивы грузинские застолья. На много часов. Успеют сидящие за столом и спеть песню, и повспоминать, и почитать стихи. Настроение сложилось такое, что начали вдруг то один, то другой прославленные, известные во всяком случае, поэты читать чужие стихи. Есть ведь у каждого любимые, и прочитать его под настроение все равно что спеть хорошую песню. Были там Тихонов и Прокофьев, Доризо и Сергей Васильев, Долматовский и Боков, Смеляков и Дудин… В основном верно, но в деталях предположительно. По крайней мере, таким мне представляется сегодня состав того леонидзевского застолья. Но совсем точно, что Сергей Васильев, когда дошел до него ряд читать чужие стихи, удивил меня и заставил высказаться. До этого звучали Гумилев и Анненский, Цветаева и Блок. Кто-то прочитал «Мать» Николая Дементьева, кто-то «Зодчие» Дмитрия Кедрина, кто-то «Прасковью» Исаковского. Так шло, пока Сергей Васильев не встал, и не оперся руками о край стола, и не выдвинул вперед подбородка, словно тут не дружеская пирушка, а московское писательское собрание.
– Да, дорогие друзья, да, да и да. Как только мы начинаем читать любимые стихи, сразу идут Гумилев и Блок. Хорошо, что зазвучали тут милые наши, можно сказать, современники: и Коля Дементьев, и Боря Корнилов, и Паша Васильев. Я вам прочитаю сейчас одно прекрасное, воистину хрестоматийное стихотворение поэта, имя которого никогда, к сожалению, не возникает уже много лет в наших поэтических разговорах. Что-то вроде дурного тона. А между тем – напрасно. Я и сейчас, идя наперекор установившей традиции, назову это имя – Демьян Бедный.
Тут действительно шумок прошелся по застолью, так неожиданно оказалось это для всех, хотя и непонятно было, то ли это одобрительный шумок, то ли от удивления.
– Да, да и да! И чтобы показать вам, какой это был все-таки превосходный поэт, я прочитаю сейчас одно его стихотворение. Это маленький шедевр, забытый, к сожалению. А забывать такие стихи нам не следовало бы.
И Сергей Васильев, еще больше выставив вперед свою тяжелую нижнюю челюсть и еще тверже опершись о край стола большими волосатыми руками, внятно донося каждое слово, проникаясь каждым словом до глубин своей собственной души, прочитал нам стихотворение, которое перед этим назвал шедевром.
НИКТО НЕ ЗНАЛ…
Был день, как день, простой, обычный,
Одетый в серенькую мглу.
Гремел сурово голос зычный
Городового на углу.
Гордяся блеском камилавки,
Служил в соборе протопоп,
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
На рынке лаялись торговки,
Жужжа, как мухи на меду,
Мещанки, зарясь на обновки,
Метались в ситцевом ряду.
На дверь присутственного места
Глядел мужик в немой тоске —
Пред ним обрывок "манифеста"
Желтел на выцветшей доске.
На каланче кружил пожарный,
Как зверь, прикованный к кольцу,
И солдатня под мат угарный
Маршировала на плацу.
К реке вилась обозов лента.
Шли бурлаки в мучной пыли.
Куда-то рваного студента
Чины конвойные вели.
Какой-то выпивший фабричный
Кричал, кого-то разнося:
«Прощай, студентик горемычный!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Никто не знал, Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день такой обычный
В России… Ленин родился!
Закончив чтение, Сергей Васильев обвел застолье победоносным, прямо-таки торжествующим взглядом. Тихонов подтвердительно, по-патриаршьи закивал головой: «Да, так, забываем». Боков и Доризо просветлели, словно омылись в родниковой воде, Долматовский озарился, раскуривая трубку и как бы собираясь высказать что-то еще более одобрительное. Прокофьев потянулся чокаться к декламатору, а сам толкал Доризо, сидящего по соседству: «Кольк, Кольк, а?» И вот-вот расплачется, прослезится от умиления. «Кольк, Кольк, вот как надо писать-то».
Не знаю уж, как получилось, то ли я насупился угрюмо над своим бокалом, не поднимая глаз, то ли какие особые ледяные эманации, флюиды излучались от меня на все застолье, но только все как-то вдруг замолчали и уставились на меня выжидающе, вопросительно, словно предчувствуя, что я сейчас могу встать и высказаться. Леонидзе как чуткий тамада тотчас и дал мне слово, постучав дополнительно ножом по бутылке, хотя дополнительно призывать к вниманию уже и не требовалось.
А говорить пришлось разбросано, возможно, от того же волнения, только в другую сторону, и чтобы получилось в конце концов в духе тоста. Других, кроме тостов, речей здесь не могло быть.
Неужели же они ждали, что я сейчас провозглашу здравицу за бедного и забытого Демьяна или, на худой конец, за Сергея Васильева. Или уж не ждали ли они, что я провозглашу тост за героя стихотворения, родившегося в тот день. Или за всю Россию, которую он – предполагается этими людьми – вывел из тьмы, осветил и спас. Но я уж встал, и стакан, как я успел заметить, отнюдь не дрожал в моей руке.
– Толстой был срыватель всех и всяческих масок. И верно, срывал. Но, увлекшись этим процессом, не заметив как, он начал в конце концов срывать одежды со своей собственной матери, стремясь обнажать и показывать всему свету ее наиболее язвенные места. Для родного сына занятие не очень-то благородное и похвальное. Но то был хоть гений, тот хоть перед этим нарисовал нам образ великой и просвещенной, красивой и одухотворенной России. Вдохновенный портрет ее вырос перед нами из ее военного подвига и составлен из отдельных прекрасных образов: Андрея Волконского, Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Пети Ростова, Левина и Кити, Вронского и Анны Карениной, Оленина, Марьянки, Брошки, Кутузова, Тушина, Багратиона, Денисова…
Что мы услышали здесь, извергнутое в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году, грязными и словоблудными устами Демьяна Бедного, который по сравнению со Львом Толстым не заслуживает, конечно, другого названия, кроме жалкой шавки?
Ропот недоумения и смущения прокатился по застолью. Но, как видна, соскучились они в своем сиропе по острому, и никто не оборвал, не пресек, давая возможность высказаться.
– Я сознательно груб. Но мои эпитеты (перефразируя известное место у Белинского) слишком слабы и нежны, чтобы выразить состояние, в которое привело меня слушание этого стихотворения. В каждом из нас, как в организме, много всего и разного. Во мне кило шестьсот мозга, но есть и иные (в животе) вещества. Вопрос, на что смотреть.
Что такое Россия в 1870 году? Творит Достоевский, звучат новые симфонии и новые оперы Чайковского. В расцвете сил тот же Толстой. В деревне звучат хороводы. Ссылаюсь на Некрасова и на его строки: «Будут песни к нему хороводные на заре из села долетать, будут нивы ему хлебородные (хлебородные, заметьте!) безгреховные сны навевать». Менделеев уже открыл свою периодическую таблицу, Тимирязев вот-вот начнет читать свои блестящие лекции. В Москве возводится грандиозное, ослепительно бело сооружение – памятник московскому пожару и Бородину и вообще памятник победы над Наполеоном. В России от края до края бурлят ежегодно 18 тысяч ярмарок. Через восемь лет Россия, жертвуя своей кровью, освободит свою ближайшую родственницу – Болгарию – от турецкого ига… Сами понимаете, я не ходячая энциклопедия и не готовился к этому выступлению. Но я думаю, если поднять газеты того времени, мы найдем там много такого, что можно было бы прочитать с гордостью за Россию, за ее общественную жизнь, за ее дела.
И что же он выбрал из всей российской действительности того времени, чтобы показать свету? Повторяю в коротком пересказе. Серенькая мгла. А почему, собственно, в апреле серенькая мгла? Скорее, это был день весенний, напоенный синевой и солнцем, грачи прилетели. Городовой на углу и поп в соборе. У дверей питейной лавки шумит пьяный скоп. На рынке лаются торговки. Не просто ведь торгуют в изобилии сметаной и маслом, а обязательно лаются. Мещанки мечутся в ситцевом ряду. А чего бы им там метаться, если ситцев огромный выбор, всем хватит и все ситцы дешевые? А они мечутся там, словно в теперешнем ГУМе. На каланче пожарный, прикованный, как зверь, к кольцу… Ну, знаете… Не хватает уже ни слов, ни злости. При чем тут пожарный, который обязан нести свою службу, свое дежурство? Солдатня марширует под угарный мат. Не просто солдаты, а солдатня. Не думаю, к тому же, чтобы русские офицеры так-таки все и матерились угарным матом. Между прочим, те самые офицеры, которые через несколько лет проявят на Шипке и под Плевной чудеса героизма…
Как же надо было ненавидеть Россию, свою родную мать, чтобы собрать в одно стихотворение все наиболее грязное и мерзкое, да и не просто собрать, а клеветнически преувеличить и даже выдумать и преподнести нам эту вонючую жижу, чтобы мы ее нюхали. Вот вы, хозяин стола, – грузин. Возможно ли, чтобы грузинский поэт написал бы нечто столь же омерзительное о прошлом своей страны? Только мы, самоеды и предатели, мало того, что способны написать такое, способны еще и восхищаться этой гадостью сорок лет спустя после ее написания! Меня уже понесло, и надо было сворачивать на тост.
– Есть табу. Есть запретные вещи. Нельзя взрослому мужчине подглядывать, как раздевается мать. Вот он раздвинул занавеску и в щелочку подглядел: «Гы-гы, сиськи висят!» И снова щелочку закрыл, и ничего словно бы не случилось. Нет, случилось! Он переступил запретную грань. В душе своей. Из человека он превратился в хама. А я нарисую и еще более трагическую ситуацию. Представим себе, что разбойники под угрозой оружия и смерти заставили взрослого мужчину изнасиловать собственную мать. Их было несколько сыновей. Один, хоть наставлены пистолеты и приставлены ножи к горлу, бросился на разбойников и тотчас погиб. Что ж, были у России и такие сыновья! Другой покорился и совершил насилие. Третий хоть сам и не насильник, но смотрел, как насильничает его брат, и не пошевелился, потому что у горла нож – нож. И вот они оба остались живы. Но жалка их участь и страшна их жизнь. И что же теперь с них спрашивать? Они теперь могут все. После насилия над собственной матерью что для них осталось святого? Что для них насилие над чужой женщиной? Или вообще над другим человеком? Жечь, убивать, мучить, предавать, доносить – все пожалуйста! А уж глумиться на словах – про это и говорить нечего.
Вы можете не поддержать меня в этом тосте, но я хочу выпить за настоящие сыновний чувства, за настоящее сыновнее мужество, которое в крайнем случае предпочитает смерть покорности и позору. Я рад провозгласить этот тост на древней грузинской земле, которую всегда отличало рыцарство, мужество, доблесть. Я рад произнести этот тост в доме замечательного грузина, нашего хлебосольного хозяина. Ваша!
Другой раз был случай, когда Безыменский читал в Доме литераторов в малом зале свою новую поэму. И когда прозвучали вдруг чудовищные строки о том, что храм Христа Спасителя вскочил на теле Москвы, как белый волдырь, я немедленно поднялся и демонстративно покинул зал, неторопливо идя по проходу, а потом громыхнул дверью сзади себя.
Всякий разговор мог быть для меня теперь чреват острой критической ситуацией, неожиданной вспышкой.
Кто-то в разговоре о Шаляпине (восхищались, конечно, его искусством, вспоминали разные забавные анекдоты из его биографии) решил тихонько сбить наш пафос и, что называется, в бочку меда добавить ложку дегтя. А там ведь, глядишь, и вся бочка окажется с душком.
– А вот был случай. Еще до отъезда Шаляпина в эмиграцию. Пригласили его дать концерт для детдомовцев, а он по своим правилам, что бесплатно поют только птицы, потребовал гонорар соболями. С детей – соболя! У детей отбирать соболя!
Все сконфузились за великого артиста, сникли.
– А вы как считаете?
Это уже вопрос прямо ко мне. Может быть, начались уже и провокации, ибо от разговора к разговору шорох пошел по Москве о том, что Владимир Алексеевич загибает временами куда-то не туда.
– А что мне считать? Это вы наивно считаете, что соболя пошли бы на шапки детдомовцам. Как вы думаете, видели детдомовцы этих соболей до шаляпинского концерта? А после концерта увидели бы? Зачем же заниматься демагогией, будто Шаляпин хотел отобрать соболей у детишек. Детишки как ели пшенную кашу, так и продолжали бы ее есть. Соболя же эти, незаконно отобранные, по крайней мере попали в хорошие руки.
– Но детдомовцы…
– А откуда взялись детдомовцы? Как это благородно: Дзержинскому поручили заняться детдомовцами. Но почему раньше в России не было детдомовцев? Да потому, что они возникли в результате деятельности того же Дзержинского. Эти сироты были детьми жертв гражданской войны и первых послереволюционных лет. Слишком много было убито взрослого русского населения, вот и появились детдомовцы. Ах, как благородно, истребив отцов и матерей, дать их детям миску жидкой пшенной кашки!
– Но все же убежал Шаляпин за границу, не остался с народом. Что ни говори, а вроде предательство.
– Милые, забываем же обстановку. Представьте себе – Шаляпин, Бунин, Куприн, Рахманинов. Любят Россию, Москву, Петербург, родные, дорогие сердцу места. И вдруг: Воскресенская площадь в Москве становится площадью Свердлова, Дворцовая площадь в Петербурге – имени Урицкого, Невского проспекта уже более нет (это потом ему возвратили название), да и самого Петрограда.
По всей стране высыпали поселки и фабрики Володарского и Розы Люксембург. Разве не побежишь75?
После этих разговоров дома, ночью, наедине с самим собой посасывало в области сердца и была как бы подвешенность в пустоте над бездной, колебание почвы под ногами, сыпучесть песка, болотная зыбкость и ощущение, что что-то делается не то и не так.
Но приходил день, множество дел и хлопот оттесняли назад ночные тревоги, и я опять встречался с друзьями, знакомыми и писателями, опять начинались разговоры и споры.
Иногда я сталкивался с людьми, которые сразу же, с первых слов уходили от разговоров и замыкались в скорлупу, пробить которую было невозможно ничем. Иногда я наталкивался на яростный отпор, впрочем, редко, может быть, потому, что заранее знаешь ведь, с кем не надо, не надо пытаться говорить. Хоть и сейчас убежден, что если человек по крови, по национальности русский, то все равно рано или поздно можно докопаться до живого зернышка, погребенного в мусоре внушения, ложных представлений, в ледяной смерзшейся глыбе, в этаком оковалке замороженного дерьма, который носит он в себе на месте живой и теплой души. Нет, верю и сейчас, что зернышко все равно есть даже и у самых, казалось бы, безнадежных, про которых мы с Кириллом и Лизой говорили только одно слово – мертвяги.
Но часто бывало и так, что собеседник твой все понял, прозрел, со всем согласился, оживел, глаза его пояснели и осмыслились, забился пульс, около рта наметилась горькая складочка, только-только что не набежала на ресницу слеза (как преувеличение не преувеличено), но тут, все поняв и увидев, он делает шаг назад, щелкает переключателем, гасит осмысленный и живой взор, надевает мертвенную маску и залезает в такую уж бронированную скорлупу, из которой его никогда и ничем не выманишь. Разве что выползет сам, когда увидит, что изменилась внешняя ситуация, создалась иная раскладка сил. А один мне так и сказал:
– Я же полковник в отставке. Я же пенсию двести рублей в месяц получаю и буду получать ее пожизненно. Если все рухнет, ты, что ли, мне эту пенсию будешь платить?
Но зато какая сласть была почесать языки с полными своими единомышленниками, где не надо выбирать осторожных слов, намеков и экивоков, но где (впервые это получилось в моей жизни) все можно было называть своими словами, своим полным именем. А если и был свой словарик, то это больше так, для игры. Да еще в присутствии непосвященных. Например, когда я спрашивал про какого-нибудь человека, то Кирилл или Лиза (или я сам) могли ответить мне вслух и при всех: «Прогрессивная личность».
Однажды когда-то я сказал про одного еврея, что он в целом – прогрессивная личность. Друзья посмеялись, и с тех пор пошло, было принято нами на вооружение, всегда можно было сказать про человека еврейского происхождения – прогрессивная личность.
Гитлер в нашем обиходе назывался архитектором. Это по инициативе Кирилла. Тот и вправду ведь был сначала архитектором, кажется, даже писал стихи. Во всяком случае, Кирилл иногда читал, не знаю уж, в чьем переводе на русский язык:
Мы идем, отбивая шаг,Пыль Европы у нас под ногами.Ветер битвы свистит в ушах,Кровь и ненависть, кровь и пламя!
Последняя строчка сама собой вошла в наш разговорный язык. Когда мы узнавали, например, про только что взорванный собор в каком-нибудь городе, в Брянске или Витебске, самое время было Кириллу, сжав свои и без того тонкие губы и сузив свои глаза, сказать: «Кровь и ненависть, кровь и пламя!»
Да и в более простых случаях, при разглядывании абстракций, воспроизведенных в альбомах, при слушании битловской музыки или просто при разглядывании афиш поэтического, скажем, вечера, когда значится двадцать человек и все, за исключением одного-двух бедолаг, – прогрессивные личности. Тут Кирилл и мог подкинуть: «Кровь и ненависть!»
В кино мы любили ходить. Даже на фильмы, которые заведомо могли принести нам только горечь.
– Ничего, надо посмотреть для озлобления.
– Для озлобления, Владимир Алексеевич, для озлобления.
Это была у нас такая же четкая формула, как и «прогрессивная личность», и мы пользовались ею часто не только в кино, но и в других подходящих случаях. Прочитать книгу, битком набитую вульгарным социологизмом фальсифицирующую гражданскую войну, последние дни царской семьи, восхваляющую взахлеб каких-нибудь там Свердлова, Бела Куна, Дзержинского…
– Да что у меня, неприятностей, что ли, мало в жизни, чтобы я еще читал эту дрянь?
– Для озлобления, Владимир Алексеевич, обязательно надо прочитать.
Или иногда, задумавшись и оценивая новую какую-нибудь информацию, ну, о том, например, что в Ленинграде была попытка переконструировать и модернизировать Невский проспект, что там снесли дом Энгельгардов, собор на Сенной площади, или просто сидя в ЦДЛ и оглянувшись на публику, Кирилл всегда мог сказать с неожиданной вопросительной болью:
– А не был ли действительно архитектор прав?
Самые ответственные разговоры легко возникали и расцветали во время возвращения из какой-нибудь автомобильной поездки. Во-первых, времени – некуда девать. Во-вторых, ночная езда и замкнутый салон автомобиля сближают и сплачивают еще больше. Кроме того, до некоторой степени утрачивается реальность обстановки, времени.
Тогда не только для взаимной потехи, но и для оттачивания мыслей, формулировок, для более тонкого уяснения отдельных вопросов шла игра в кувальдягу.
– Но все же, почему вся наша земля неприглядна, замусорена, истерзана? Ну, один председатель бесхозяйственный растяпа, неряха, ну, другой, но почему все? Не кроется ли за этим какой-нибудь политической, экономической подоплеки?
– Конечно, кроется. Россия была захвачена интернационалом с определенной целью: высасывать, выкачивать из нее ресурсы. Ради мировой революции. Впрочем, может быть, мировая революция была лишь фразой, дабы подвести теоретическую базу под самый обыкновенный грабеж. Кроме того, для массового поголовного порабощения людей, как мы видели, необходимо было учредить принцип строжайшего контроля, учета и распределения всех товаров. Так или иначе, с самого начала государственная машина была приспособлена для одной главной функции: выколачивать, высасывать соки (хлеб, мясо, молоко, хлопок, нефть и все остальное) из обширного тела страны к центру.
Это вовсе не значит, что каждую картошину и каждое яйцо надо везти в Москву, в Кремль. Продукты могут оставаться на заготпунктах в районах и областях. Важно отобрать их у производителей, учесть, наложить лапу.
И вот образовались в стране два основных потока. Сверху вниз идет постоянный поток требований, приказов, головомоек, разъяренных телефонных звонков, строгих бумаг, предписаний, угроз, нажимов: давай, давай, давай! В сжатые сроки. Первая заповедь. С перевыполнением плана.
По второму потоку снизу вверх идут зерно, молоко, мясо, хлопок и все остальное.
В эти два встречных потока умещается вся наша хозяйственная деятельность.
Внешний же вид земли, порядок на ней, красота ее, благополучие ее, уход за ней остаются за пределами обоих потоков. Красоте земли, опрятности ее негде там поместиться. Ее, красоту земли, не требуют сверху звонками, указаниями, она не фигурирует и в колхозных сводках76.
А так как ради выжимания соков с самого начала установилась традиция требовать больше, чем можно получить, по принципу: требуй больше, меньше само получится, – так и по сей день сверху идут требования выше реальных возможностей колхозов и совхозов (равно заводов, шахт, рудников), то низы всегда держатся в напряжении. Председатели колхозов крутятся, как белки в колесе, бегают, схватившись за голову, ибо все время недовыполняют требования, идущие сверху. Или тратят энергию на ухищрения, как бы обмануть государственную машину принуждения и хоть немножечко полегче вздохнуть. Например, наш председатель колхоза Быков держит 400 коров, а по сводкам проводит двести, таким образом, молоко он сдает как бы с двухсот коров, и надой на каждую корову у него получается в два раза больше, за что он второй год получает переходящее Красное знамя.
Вообще же между двумя потоками нет люфта, просвета. Председателю некогда оглядеться вокруг (начальнику нефтепромысла тоже), посмотреть, как он живет на земле. Давай, давай! Ладно уж состояние села, ладно уж речки, пруды, озера, ладно уж состояние колхозных лесов. Все это остается за пределами двух основных шестерен государственной машины, то есть остается за ее пределами весь внешний вид земли.
Я поинтересовался в том же Бугуруслане Оренбургской области. Оказалось, что Бугурусланский район «продает» государству продукции – мяса, хлеба, молока и яиц – на 35 миллионов рублей.
Я поставил в кавычки слово «продает», потому что оно употребляется в нашей практике условно. Это не значит, что колхоз повез свой товар на ярмарку, продал и получил деньги, которыми волен распоряжаться. Колхоз просто вывозит все, что он произвел. За это через банк он получает дозами деньги, чтобы платить колхозникам зарплату, платить за ремонт техники, за семена, за комбикорма, за химические удобрения. При этом закупочные цены сбалансированы так, чтобы свободных денег в колхозе никогда не было и чтобы колхоз всегда был должником государства. Так что на благоустройство земли и на наведение красоты или хотя бы порядка не остается ни копейки.
Итак, район сдал продукцию на 35 миллионов рублей по заготовочным ценам. По реальным ценам это близко к 100 миллионам. Но процесс вполне односторонний. Клапана! От периферии, от народа к центру – свободный поток, и принцип только один: отдать все, а от центра, от государства к народу стоят строжайшие, контролирующие дозаторы. Я спросил у одного из партийных руководителей Бугурусланского района – сколько денег район получает обратно на благоустройство района и вообще земли, на ремонт школ, больниц, садов и парков, улиц и дорог, столовых, гостиниц и прочее. Оказалось, что если исходить из 35 миллионов рублей, то обратно район получает около 6%, а если исходить из реальной стоимости продукции, то есть из цен, по которым эту продукцию реализует потом государство, – не более 2%.
Вот и вся наглядная схема. От народа в центр, в государство – 100%, обратно – 2%. Как же быть нашей земле благоустроенной и красивой?
– Наверное. наиболее думающие люди догадываются, что наша газетная информация, мягко говоря, необъективна, что народу не говорят всей правды о положении дел и вообще правды…
– Еще бы! Перед XXIV съездом партии собрался Пленум ЦК. Брежнев выступил с большим докладом о том, что наша экономика стоит перед крахом. Привел все цифры. Они обсудили все это, а на съезд вышли и начали дудеть с трибун о триумфальных успехах нашей экономики. О разговоре на Пленуме не появилось нигде ни строчки.
Дело в том, что наше государство началось со лжи. Со лживых лозунгов, со лживых декретов, со лживых теоретических посылок.
Объявили диктатуру пролетариата, а установили диктатуру группировки.
Объявили мир, а страну ввергли в четырехлетнюю бойню.
Объявили – земля крестьянам, а землю у них вскоре отобрали вместе с инвентарем и лошадьми.
Объявили рабоче-крестьянскую власть – и тотчас ввели принудительную трудовую повинность, а против крестьян бросили регулярную армию, установили продовольственную диктатуру.
С тех пор – ложь, ложь и ложь. Ложь в газетах, на собраниях, на сессиях Верховного Совета, на партийных съездах, в лозунгах и плакатах, в книгах, в кино, на сценах театров, в живописи – всюду ложь, ложь и ложь.
Когда литератор Померанцев выступил со статьей «Об искренности в литературе», на него обрушилась жесточайшая партийная критика. Сразу стало очевидным, что он дотронулся до больного места. Но неужели непонятно, что сам разговор об искренности мог возникнуть только в стране, где ложь стала законом жизни?
– Но почему все-таки мало сейчас очень талантливых, ярких русских, украинских писателей? Где Пушкины, Достоевские, Толстые? Нет, это, конечно, наивный вопрос, но почему на наших глазах прекращается фактически приток в литературу и в остальные искусства талантливейших, ярчайших людей?
– Разве это не ясно? Во-первых, климат. На морозе цветы не распускаются и вообще растения прозябают. Но эта причина, как ни странно, второстепенная. Во-вторых, когда поле заполнено сорняками, хлебным колосьям грудно быть полновесными и тяжелыми, но и эта причина не главная.
– Что же главное?
– Гены. Таланты, гении – это гены. Из поколения в поколение перебегает в роду огонек дарования, пока не вспыхнет ярким пламенем таланта. Конечно, вспыхнув в непогодных условиях, он может заглохнуть, погаснуть. Но все же первоначальное условие, чтобы он вспыхнул, родился на свет, – это в генах. Вот теперь-то и сказывается наглядно итог концентраций. У Пушкина в «Истории Пугачевского бунта» есть место: «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный баснописец Крылов».
Вот видите, велик ли был истребительский размах у Пугачева, а и то едва не лишил нас гордости русской словесности, нашего гениального баснописца, что же сказать про целенаправленное истребление всей русской интеллигенции, всей верхушки русской нации, и рождавшей как раз талантливых, гениальных людей, а также про истребление среднего слоя русской интеллигенции, духовенства, купечества, которые тоже рождали ведь хотя бы тех же Чернышевских, Сперанских, Добролюбовых. А так же про истребление лучшей, наиболее даровитой части крестьянства, уже приготовившейся поставлять талантливых людей в отечественную культуру? Все наиболее ценные гены русской нации оказались в земле. А теперь мы вопим – где таланты, где яркие личности, где гении?
Но этому есть, конечно, и еще одна причина, хоть мы и назвали ее второстепенной. Вернемся к ней на минутку. Я опять говорю о климате.
Принцип учета и распределения как рычаг диктатуры, как способ заставить работать на себя касается и всех видов искусства. Гонорарная система, то есть система оплаты труда художника, писателя, музыканта построена и рассчитана так, чтобы он, художник, все время чувствовал себя в материальной зависимости от государства. И не только в материальной. Пресса, известность, почет, приемы, заграничные поездки – все это находится в руках государства и раздается в виде тоже своеобразного пайка одним меньше, другим больше. У нас выгоднее писать как можно чаще средние, серые вещи, лишь бы они сразу шли (печатались, вывешивались и т.д.), нежели создавать нечто яркое, из ряда вон выходящее, ни на что окружающее не похожее, уникальное.
Конечно, государство вынуждено содержать целую армию писателей, поэтов, живописцев, композиторов, скульпторов и т.д., ибо само оно писать поэмы и картины не умеет. Оно подкармливает художников, дает им даже ордена и звания Героев, премии, дачи, хорошие квартиры. Но оно дает все эти блага не по признаку исключительности художника, его особенной яркости, а по признаку верности его службы господствующей идеологии, государству. В самом деле, не можем же мы считать самыми лучшими и яркими (возьмем писателей) тех, кто отмечен высшей наградой – званием Героя Социалистического Труда: Полевого, Грибачева, Кожевникова, Маркова, Камила Яшена77 и т.д., в то время как Пришвин не получил за свою жизнь ни одной премии, равно как Андрей Платонов, Паустовский, Пастернак, Юматова, Булгаков, Дудинцев, Тендряков, Можаев. При всем уважении к Симонову, неужели Пришвин и Паустовский были писатели хуже, чем он? Почему же Симонов пятикратный, если не больше, лауреат, а Пришвин – ни разу? Неужели Трифонов хуже писатель, чем Полевой? Почему же Герой Социалистического Труда Полевой, а не Трифонов? Итак, очевидно, что блага даются не за таланты, а за верную службу.
Да, государство вынуждено содержать (хотя и держать на материальном и психологическом пайке) армию деятелей искусств. Но дело в том, что, когда попадается истинно талантливый человек, он начинает служить не государству, а русской литературе, русской живописи и т.д. Он вынужден преодолевать террор среды. Яркое в наших искусствах может возникнуть не благодаря нашей системе, а вопреки ей.
– Да, но подменившие собой русскую интеллигенцию или, по крайней мере, разбавившие ее, они же – талантливы. Биологически талантливы, все, как один. Талантливый народ, гениальная избранная нация? Поэтому их, то есть в силу талантливости, и много везде: в Союзе писателей, в кино, в живописи, в музыке, в медицине, в театре…
– Заведомая, как бы запрограммированная их талантливость – это миф. Они действительно выходят в известные писатели, живописцы: Гейне, Гойя, Пикассо, Шагал, Ремарк или тот же Эйнштейн. Но, во-первых, популярность этих людей раздута искусственным образом и вовсе не соответствует истинной ценности того или иного художника, музыканта, ученого. Во-вторых, заведомая биологическая запрограммированность здесь ни при чем. Если бы это было так, что крупнейшие деятели культуры возникали бы из евреев всюду, где есть евреи: в Греции, в Турции, в Афганистане, в Швейцарии или в том же Израиле. Чего же проще? Однако этого не происходит. Заметные деятели культуры, искусства и науки еврейского происхождения возникают только на базе великих культур: немецкой, французской, английской, русской, испанской, итальянской.
Обращаясь внутри этих культур, опираясь на высочайший уровень этих культур, они достигают известных высот. Но там, где им некуда подниматься, они и не поднимаются сами по себе, в силу, как вы говорите, биологических особенностей и избранности. Они талантливые переимщики, впитыватели, а вовсе не изначальные гении-творцы.
– Но последний царь действительно, говорят, был плохим царем, слабовольным, ударялся в мистику, допустил Распутина, не умел руководить таким государством, как Российская империя?
– Здесь много от пропаганды. У него, как у царя, был недостаток – ему не хватало властности, твердости. Но он был интеллигентным, добрым человеком и безгранично любил Россию, народ… Но допустим, допустим, что это был плохой царь, что двор при нем весь прогнил. Так неужели из-за одного слабого человека надо было крушить и громить всю Россию и устраивать многолетний геноцид? Только ненавистники России могли сознательно ввергнуть ее в такую пучину бедствий, из которой уже неизвестно, выберется ли она. А личность царя, как сейчас очевидно, послужила для них только предлогом и удобным поводом.
– Но в Америке тоже ведь, хоть и кричат о свободе, пойди, попробуй, напечатайся, если сказал что-нибудь не понравившееся хозяевам газет и издательств. Ни одна газета, ни одно издательство не пустит на порог. И демократия вся в руках у денежек, то есть сами теперь знаете, у кого.
– Но разве я хвалю современную демократию, будь то в Америке, во Франции, в ФРГ или где бы то ни было.
– А что бы взяли за образец?
– Россию, и только Россию. С ее духом народности, с ее глубинным гуманизмом, с ее светлыми праздниками и трудом, когда каждое усилие работает на процветание нации. Но, конечно, Россию в ее развитии, какой ей теперь предстояло бы быть. Я монархист, дорогие друзья, убежденный и последовательный. Повторяю святую истину: стоять во главе народа, возглавлять народ может только монарх, управлять населением могут и президенты.
Утрачивалась реальность обстановки во время ночной езды, и наша фантазия закусывала удила.
– Представь себе, – говорил кто-нибудь из нас, – что мы группы, организация, сила. Во время какого-нибудь крупного заседания, когда все они собрались в одном месте, мы окружаем здание, в зал входят воины с автоматами («спокойно, товарищи, всем оставаться на местах»).
– А утром вместо бесцветного бессловесного гимна по радио бухает колокол и раздается благовест. Торжественные колокола звонят на всю Россию, на весь мир, возвещая, что эпоха диктаторского насилия и мрака окончилась. Люди недоумевают, но уже предчувствие говорит им, что свершилось что-то прекрасное, светлое, не зря же звонят колокола!
– После пяти минут торжественного благовеста, – возбуждается фантазия и у Лизы, – все проснулись, вся страна, весь народ, все у радиоприемников.
– Колокола замолкают, голос с железным тембром.
– Не Левитана, конечно?
– О нет, конечно, не Левитана. «Дорогие соотечественники! Нами, группой освобождения и возрождения России, сегодня, 18 июля, в Москве произведен государственный переворот. Так называемое советское правительство, доведшее страну до полного разложения и маразма, низложено, арестовано и содержится в изоляции».
– И уничтожено физически! – с ходу уточняет Кирилл.
– В благоприятный момент будет проведен всеобщий опрос с тем, чтобы народы, населяющие нашу страну, сами могли выбрать желательный для них образ жизни и верховную власть. Для управления страной на ближайшее время создан контрреволюционный – да, именно так, не боясь этого слова, – контрреволюционный комитет во главе с председателем, называющимся наместником верховной власти в России.
– Почему наместником верховной власти? – В России должен быть царь, император, но к этому надо подготовить страну, народы. Пока что – наместник верховной власти, который потом передаст эту власть из рук в руки… Сегодня в 12 часов председатель комитета, он же наместник верховной власти, выступит по радио с большой программной речью.
– Нет, лучше бы пока без речей. Лучше в течение нескольких дней сначала показать на деле, что все изменилось, и что изменилось именно к лучшему.
– Например?
– Ну, например, утром встали люди, пошли в магазины, а там… Ну, как во всем остальном мире – полное разнообразие, полное изобилие. Мясо лежит разных сортов, телятина, вырезка, языки, поросята. Говядина стоит семьдесят копеек. Сливочное масло – 1.20. Водка – 65 копеек (пол-литра). Думаешь, не понравилось бы народу? Дубленки разных фасонов, осетрина, стерлядь, икра такая-этакая, вобла кулями, автомобили двадцати марок, все завалено разнообразными фруктами, свежей рыбой. Ткани и платья, трикотаж и обувь… Одним словом, все как в других современных государствах и городах.
– Где же сразу взять такое изобилие, да еще чтобы дешево?
– Бросить на это все финансовые резервы. Указ № 1. «О временном прекращении исследований космического пространства». Пусть американцы исследуют. Каждый космический корабль – это миллиарды и миллиарды рублей. Два-три незапущенных корабля – вот тебе и полное изобилие товаров. Закупить за границей на первое время. Пустить на первое время немецкие, французские, итальянские фирмы, пусть заваливают нас своими красивыми и модными товарами. Потом окрепнем и оттесним.
Указ № 2. «О возвращении исторически сложившихся названий городам, площадям, поселкам и улицам. Нижний Новгород, Вятка, Самара, Тверь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Петербургский университет (а не университет имени Жданова), Марьинский театр (а не театр имени Кирова). Никаких Дзержинских, Урицких, Воровских, Луначарских, Семашек…
Указ № 3… – Мы говорили, захлебываясь от восторга и перебивая друг друга – «О всеобщей свободе вероисповеданий». Открыть все церкви! Восстановить разрушающиеся построить достаточное количество новых. Открыть мечети, костелы, кирхи, всюду повесить колокола. Особым постановлением начать строительство храма Христа Спасителя. Восстановить и открыть все монастыри.
Указ о новом названии государства. Название СССР упраздняется. Впредь именовать – Великое Государство Российское, в обиходном сокращении – Россия. Указ о роспуске КПСС.
Роспуск колхозов и возвращение к естественному, нормальному земледельческому труду.
Возобновление свободного труда для крестьян, возрождение ярмарок.
Свободное передвижение всех людей как за границу, так и обратно. Отмена прописки.
Особым обращением возвратить русскую эмиграцию… Представьте себе, какое началось бы оживление, какая гора свалилась бы у людей с плеч, как повеселели бы взгляды и прояснились бы лица, как расправились бы и распрямились души!
…К этому времени мы уже достигли Москвы и ехали теперь по серой ночной промороженной улице, и два-три лозунга уже успели броситься нам в глаза: «Народ и партия едины», «Встретим ударным трудом…», «Мы придем к победе коммунистического труда».
Внятно и четко, вразумительно и проникновенно вдруг Лиза сказала:
– Жутко оттуда, где мы только что побывали, возвращаться опять к действительности. Не хочу!
Наступила в нашей машине тишина. Я поймал себя на том, насколько точно определила Лиза и мое душевное состояние: нелепо и жутко опять возвращаться в серую, мертвенную тюремную камеру, когда только что побывал на живой земле, на живой траве, под живым небом. К тому же где-то в глубине души появился червячок сомнения: не поздно ли? Не все ли уже кончено с Россией? Была искусственно парализована, обескровлена, выедена изнутри, обглодана почти до остова. Вспомнились ужасные слова Розанова из его «Опавших листьев»: «Когда она (Родина) наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости, – тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми покинутого».
Так не мертва ли она? Не осталась ли нам скорбная доля только оплакивать ее остов по пророчеству русского писателя?
А если теперь и оживить? Есть ли смысл оживлять человека на подопытном операционном столе, если у него вырезано все самое главное и важное? Оставшиеся органы все перепутаны хирургами-палачами. Не на мучения ли разбудишь его и вернешь к жизни? Ведь всюду будет болеть, когда начнет он оттаивать от анестезии?.. Кирилл Буренин оказался тверже меня.
– Прекрасно то, что мы на минуту сейчас вообразили. Но само оно не придет.
– Так что же?
– Надо действовать. Они в свое время не сидели сложа руки.
– Как действовать? Что? Нет же способа привнести наши идеи в массы. Нет. Листовки, что ли, расклеивать?
– Надо создавать организацию. Группу хотя бы на первых порах. Пусть двадцать, сорок человек, но твердых, надежных, каменных.
– Какая группа из двадцати человек, когда у нас в стране каждый пятый – стукач?!
– Осмотрительно, осторожно. Теория малых дел. Птичка по зернышку клюет и сыта бывает. А под лежачий камень вода не потечет, нет.
– Народ оболванен. Вон эти, демократы, вышли однажды на площадь… К Лобному месту. Развернули лозунг: «Руки прочь от Чехословакии». Людишки смотрят, спрашивают друг у друга:
– Смотри-ка, «Руки прочь от Чехословакии!» Напал на нее, что ли, кто? Немцы, что ли, напали?
Смех. Пока зеваки разбирались, кто напал на Чехословакию, подъехал автобус, и демократов забрали.
– Создать группу. Создавать цепь, звено к звену. Осторожно, осмотрительно, самых верных, самых живых. Как заметил, что прощупывается пульс, так и занимайся реанимацией, искусственное дыхание, компресс на сердце, а то и укол в сердце. Смотришь, открылись глаза, появилась речь. А так мы только болтаем. Вот, например, если я дам тебе книгу… Сумеешь ты передать ее послезавтра одному из самых надежных и самых живых, на твой взгляд, людей? Это уже будет дело. Звено к звену. Продумать систему. Каждый знает двоих-троих. Есть же, не перевелись же, черт возьми, русские люди. Или думаешь, одни только мы с тобой остались?
– Я думаю, что людей много даже и зрячих, вполне живых, но все разобщены и запуганы. В кружке из четырех-пяти человек ни один не будет разговаривать откровенно, разве что по пьянке.
– Ну так как? Сможешь послезавтра передать книгу одному из своих друзей? Можешь воспринимать это как задание. А чтобы оно было действительно заданием – обязательно послезавтра.
Где-то боковой искрой мелькнуло, что есть в нашем государстве, есть разница между тем, чтобы прочитать книгу самому, и тем, чтобы дать ее почитать товарищу. Одно дело держать такую книгу у себя, а другое дело ее распространять. И что не напрасно Кирилл настаивает, чтобы я непременно передал кому-нибудь его книгу. Это уж – приобщить, сделать участником, отрезать пути.
А что же мне их не отрезать? Разве мне, все понявшему и увидевшему все в истинном свете, мне, у которого каждый час и каждую минуту сердце обливается кровью при мысли о России, мне, который, по моим же словам, если бы сказали сейчас – прыгай с колокольни Ивана Великого, и в момент шлепка тела о землю все вспыхнет, воскреснет, воскреснет или оживет, я и секунды не колебался бы, а бросился бы, раскинув руки… Что же мне бояться отрезания путей? Да есть ли для меня теперь другой путь, кроме одного, если даже он ведет к неизбежной гибели?
– Хорошо. Завтра ты дашь мне книгу, а послезавтра я передам ее другому человеку, по своему выбору.
– Кровь и ненависть, кровь и пламя!
Через день, в десять часов утра, когда я только что собрался позвонить одному человеку, чтобы условиться с ним о встрече, у меня самого зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос отца Алексея из Троице-Сергиевой лавры. Я несколько удивился этому звонку, потому что слышал, будто между отцом Алексеем и Кириллом пробежала какая-то кошка. О чем-то они спорили, на чем-то не поладили, в чем-то разошлись. Я жалел об этом, думая, что холодок их отношений падет на меня, а было бы жалко. Я полюбил бывать в лавре в гостях у отца Алексея в той особенной атмосфере, которая хоть и создана теперь искусственно, вроде как в оранжерее, да все-таки напоминает атмосферу России.
На чем они могли охладиться? По репликам, по интонациям Кирилла я понял, что РПЦ злила его своей лояльностью, ее пугал экстремизм Кирилла. Она искала тихой мирной жизни, в то время как Кирилл требовал энергичных и практических действий. А у тех ведь еще и саны, и должности. Скажем, ученый секретарь академии. Достигнуто, и жалко терять. Отсюда соглашательство, прислужничество. «Они тоже на пшене, – клеймил Кирилл, – тоже клюют с ладони». По крайней мере, так все это выглядело в интерпретации самого Кирилла.
И вот отец Алексей позвонил сам. Я тотчас увидел в этом промысел: как же! Перед таким решительным шагом, который я собирался сделать сегодня, хорошее ли это, плохое ли предзнаменование, но совпадение – вот оно! Помнится, я обрадовался этому совпадению.
– Как живете, Владимир Алексеевич?
– Вашими молитвами.
– Молимся, молимся о вас. Постоянно молимся о вас. Давненько не виделись, а есть потребность.
– Так что же, мне приехать в Загорск?
– Приехать, но не в Загорск. Я сегодня нахожусь в Переделкинской резиденции патриарха. Это и ближе. Если можете, жду вас к обеду. Приезжайте в час дня.
Я был убежден, что отец Алексей хочет помириться с Кириллом, и надеялся, что я по мере сил посодействую этому. Что ж, мирить хороших людей – благое дело. Я ехал в Переделкино с легким сердцем, радостно возбужденным, и всякое море казалось мне по колено. А книгу я сегодня отдам. Пришел и мой черед выходить на линию огня. Что ж, «Я не первый воин, не последний».
За рулем отлично читаются стихи, и я твердил два стихотворения, пришедшиеся к случаю, так что каждая строка, каждая интонация отвечали полностью моему настроению, состоянию моего духа, моей судьбе. И не только отвечали – сливались всеми точками, совпадали.
Мы, сам-друг, над степью в полночь встали,
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…
Опять, опять, опять… Недаром словечко «опять» пронизывает весь этот цикл «На поле Куликовом», входящий, в свою очередь, в цикл «Родина». Опять. «И вечный бой, покой нам только снится». Миллионы погублены, расстреляны, брошены в грязные ямы, замучены, порабощены, растлены. Но я оказался жив. Мы оказались живы. И вот – опять, опять…
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат.
По пути горючий белый камень.
За рекой поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
Над нашими полками… Светлый стяг… Где русские полки и где светлые стяги? «Все расхищено, предано, продано». Но…
К земле склоняясь головою.
Говорит мне друг:
«Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!»
За святое дело. За Россию. За Русь. За милую Родину истерзанную темными силами. Да я… Господи… Мертвым лечь, если надо!..
Я не первый воин, не последний,
Долго будет Родина больна.
Помяни ж за раннею обедней.
Мила друга, светлая жена!
Тут спазм перехватил мне горло, но это был не спазм горя, не печали, но спазм боевого восторга, точно и впрямь сейчас опять развернется надо мною светлое знамя и я в составе головного полка вырву из ножен обоюдоострый тяжелый меч.
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И словно облаком суровым
Грядущий день заволокла.
Не просто суровым облаком, а тяжелым, беспросветным мраком, растянувшимся на долгие десятилетия унылого рабского существования, влачения судьбы, покорности и постепенного угасания.
За тишиною непробудной,
За расстилающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой…
Тихо-то тихо, темно-то темно. Но есть еще живые люди, есть еще живые сердца, бьется еще пульс России. «Еще польска не згинела, пока мы жиемо». Может быть, безнадежным окажется пробудить ее от сна, а тем более воскресить ее силы. Но. Но. Но…
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало.
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспел тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. Молись!
Настал и мой час. Настала моя пора выходить на линию огня. Я погибну, конечно, но погибну за Россию, погибну как русский. Это будет прекрасно.
Я не первый воин, не последний.
Долго будет Родина больна…
И можно было не повторять уж последующих, завершающих строк, они и так звучали, пели, ликовали во мне.
Может быть, я и не повторял их вслух, но все это во мне и вокруг меня, и этот послушный руль, и эта скорость, и этот поворот дороги, после которого вспыхнула вдруг на горе златоглавая патриаршья церковка, все во мне и вокруг меня были одни эти строки, одна эта пронзительная и омывающая радость, и все грядущие муки, и саму грядущую насильственную смерть превращала в радость эта нота:
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!. . . . . . . . . . . . . . . . . .
И когда наутро тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда!
Бывшее, шестнадцатого еще века, подмосковное именьице бояр Колычевых чудесным образом уцелело и сохранилось. И главное не было передано под какую-нибудь МТС, а было отдано патриархии как подмосковная резиденция патриарха всея Руси, вроде загородного дома или дачи.
Образовался еще один крохотный оазис, обнесенный не очень высокой, всегда свежепобеленной стеной. Въездные ворота в имение – парадные, с витиеватыми башенками, за ними уж там, на самой территории, терем-теремок. Обелиск перед ним с именами всех бояр Колычевых, маленькое кладбище с несколькими крестами, служебные постройки – кухня, квасная, погреб и прочее. Сад на всей территории, пруд среди сада, заросший кувшинками. А церковь так стоит, что есть в нее вход с улицы для всех прихожан, но есть и с территории – через узкую боковую дверь. Но, конечно, в тереме у патриарха своя домовая церковь, где никогда не гаснут лампады мерцанием золоченых окладов перед ликами древнего письма. Если идти со стороны станции вечером, то поверх ворот виден верхний этаж терема, и тогда поймешь, что за стрельчатыми окошками в глубине дома мерцают тихие негасимые лампады.
После обеда мы пошли прогуляться по саду и, отойдя подальше от дома, от людей, от милиционера, который всегда дежурит на территории, сели на лавочку перед прудом. Я почувствовал, что отец Алексей сейчас заговорит о важном, зачем и позвал меня, но все же я не мог предчувствовать, каким обухом по голове припасено меня оглушить.
– Вот, Владимир Алексеевич, я возьму быка за рога. Мы, конечно, не государство в государстве, и у нас своей разведки нет, но хорошие люди есть всюду. Хорошие люди уверяют нас, что Кирилл Буренин со всех сторон окружен чекистами и провокаторами… Я не хочу сказать (а это пришлось бы доказывать), что он сам… этого, может быть, и нет… Но он «под колпаком», и следовательно, каждый, кто оказывается рядом с ним… Ну вот, а вас нам жалко. Вы – писатель. Вы – нужны. Поэтому мы после долгих колебаний и решили вас предупредить, чтобы не допустить вашей гибели. Если еще не поздно.
Я онемел. В глазах у меня потемнело. Появилось полное впечатление, что я рухнул, провалился сквозь тонкий лед и падаю, падаю в бесконечную бездну, в бездну, у которой даже нельзя представить дна, настолько глубока она и ужасна.
Калейдоскопически возникали во мне и тотчас разваливались, чтобы уступить место вновь возникающим и вновь разваливающимся картинкам.
Кирилл, Лиза, наши поездки, наша взаимная доверительность, наши взаимные разговоры во время поездок, все их реплики, вся их нацеленность, все руины церквей и монастырей, которые мы с ними увидели, вся мерзость запустения на самых святых и русских местах, все людские души, которые раскрывались от единого слова Кирилла и Лизы, хотя бы это, совсем уж недавнее, искреннее, как выдох, восклицание Лизы: «Жутко оттуда, где мы только что побывали, возвращаться опять к действительности. Не хочу!» Если это игра, то гениальная игра… Невозможно и вообразить. Да нет! Да как же? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Последнюю фразу я, оказывается, произнес вслух, потому что отец Алексей на нее ответил:
– Может, Владимир Алексеевич, все может быть. К сожалению, так и есть.
– Но если он окружен чекистами, почему же меня до сих пор не забрали? Уже несколько лет им известны мои взгляды, мой образ мыслей.
– Что толку вас забрать? Одного? Им надо, чтобы на ваш огонек слеталось больше ваших единомышленников. По одному их трудно искать и ловить. А вот если вы их соберете в кучку, в одно место, то очень удобно. Вы знаете или нет, что в Ленинграде недавно взята целая молодежная организация?
– Первый раз слышу.
– Да, молодые ребята. Союз христианской молодежи.
У них была своя, крайне монархическая программа. Был свой вождь – Огурцов. Поэтому дело так и называлось – «Дело Огурцова». Железная дисциплина. Был у вождя заместитель по кадрам, был заместитель по контрразведке, заместитель по пропаганде. На суде, когда Огурцова ввели в зал, все подсудимые встали и вытянулись по стойке «смирно». Вот какая была у них дисциплина.
– И много их взяли?
– Человек около сорока. Вот и в Москве хорошо бы такую «огурцовскую» организацию…
– НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
– Не исключено, что за Бурениным наблюдает еще одна разведка. Пропустить через свои руки всю московскую интеллигенцию и на каждом поставить плюс или минус. На всякий случай. Просеять, процедить. Где зерна, где плевелы. С их точки зрения, конечно. И если это так, то вы лучше меня знаете, что вся московская интеллигенция действительно процедилась и на каждом поставлен либо плюс, либо минус.
– НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
– Но как же так? Все понимать. Понять и узнать всю правду. И все же служить неправде? Познать, где свет, где тьма. И служить тьме? Но ведь если так, то ведь это чудовищно, так чудовищно, как никогда еще не бывало на свете!
– Не знаю, что вы находите в ней сверхчудовищного. ЧК доступны всякие методы.
На обратном пути (я уже не читал, разумеется, боевых и вдохновенных стихов Блока) в мелькании жутких теней я старался уловить хоть небольшие просветы. Схватился за соломинку, ибо нельзя было не схватиться за что-нибудь, но так и лететь вниз, кувыркаясь в кромешном мраке. Соломинка была вот какая: «А может быть, они, – думал я, – решили отодвинуть меня от своей конспиративной деятельности? Я писатель, а не конспиратор. У меня все, если не на пере, то на языке. Я уже и теперь направо и налево высказываю свои взгляды. Стал носить перстень с изображением Николая Второго. А там нужна совершенно тайная, конспиративная, незаметная деятельность. Может быть, они понимают, что как писатель, выступая открыто, издаваясь и печатаясь, я принесу больше пользы, нежели как рядовой член конспиративной организации. Напишу книгу, она разойдется по стране в количестве сотен тысяч экземпляров, ее переведут на другие языки. Так что важнее – написать книгу или наклеить на заборе одну листовку? Передать в другие руки одну книгу? Это сумеет всякий, а вот написать ее… Может быть, они понимают это и хотят оградить меня от мелкой конспиративной деятельности, а тем самым и себя от возможного пропала?
Или они проверяют меня перед выполнением конкретного задания? Поверю ли я сразу в двуличность Буренина? Если поверю сразу, то какой я боец? Можно ли на меня положиться? Эмоционален и неустойчив. А там нужны – кремень и железо… Да нет, не может быть…
Во мне как-то в одно мгновение прокрутились все их, то есть Кирилла и отца Алексея, разговоры при мне – искренние, доверительные. И я чувствовал, что, если бы не было меня рядом, то они, эти их разговоры, были бы еще искреннее и доверительнее. И ведь это все происходило не год назад, а совсем недавно. Откуда же такая внезапная перемена? Нет, тут что-то не так…
Механически давил я на акселератор, и машина моя мчалась к Москве. Огромный многомиллионный и обширный город надвигался на меня с катастрофической, ударной, расплющивающей скоростью.
Многомиллионная Москва. Но найду ли я в ней хоть одного человека, с которым мог бы говорить вполне откровенно и не таясь? Что ждет теперь меня во всей Москве? Меня, прозревшего и уже не способного, да и не хотящего, вернуться к благополучной, удобной и безопасной слепоте. И что делать с Бурениным?.. Не он ли сорвал бельмы с твоих глаз? Не он ли промыл тебе мозги и разморозил анестезированные участки сознания? Да, тебе уж не вернуться к твоим статьям по случаю 7 ноября и 1 Мая, тебе уж не выступать на Красной площади во время демонстраций трудящихся, тебя не выберут в секретари Союза писателей. Тебя не будут приглашать на правительственные приемы и перестанут пускать в заграничные поездки. Но ты стал живым человеком. У тебя бьется пульс. В тебе струится русская кровь. Ты видишь вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, как тебе внушали, чтобы ты их видел. В сущности, он сделал реанимацию. Он оживил тебя. Вместо послушного, нерассуждающего, безмозглого и слепого, слепо повинующегося, подстриженного под общую гребенку, талдычащего общие слова и лозунги советского робота, вместо обкатанной детальки в бездушном государственном механизме ты превратился в живого человека, в единицу и в личность.
Сложна и трудна будет теперь твоя жизнь. Но как бы она ни была сложна и трудна, ты должен благодарить человека, сделавшего тебя живым и зрячим.
И разве ты не был счастлив с ними – с Кириллом и Лизой? И даже в самый последний момент отчаяния и безысходности ты прошепчешь слова благодарности им, проведшим тебя за руку, словно ребенка, от ступени к ступени, до последнего края, за которым нет уже ничего от привходящих мелочных обстоятельств, а есть только полный простор, полная свобода проявления и твоя добрая воля. Да еще – на все – воля Божья.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"





















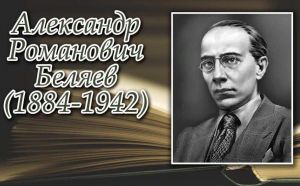








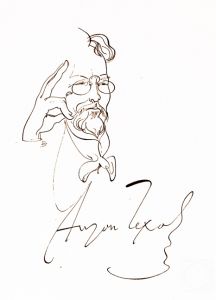





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский