- Так вот, - сказал подполковник, - Елена Станиславовна работает, кхе-кхе-кхе, посудницей в привокзальном ресторане. Захочешь увидеть, заходи смело с торца, через служебный ход. Через зал не пустят. У них строго. Да не бойся. Она тебя не узнает. Она теперь мало кого узнаёт.
- Я что, виноват, - медленно, в растяжку начал Никита Павлович, - что она посудница? - И, набирая обороты, заговорил, как залаял. – Вы! Зачем? Мне? Это? Зачем? Так любого… Сама она. И Штрих этот!
- И Штрих, - покорно согласился Василий Степанович. – Он тоже. Слаб он был – на слабый пол. – Полубыков затянулся папиросным дымом и непритворно закашлялся. - Дальневосточники его тогда у нас забрали. За ним там много чего числилось. С разными правозащитниками якшался. Книги опять же… Такие книги, даже покруче, свободно сейчас в магазинах на полках стоят. А мы с тобой Михаила Моисеевича… Не сожалеешь, Никита?
Хороший вопрос задавал подполковник. Мастак он был вопросы задавать . Бывало, беседуют они на ТОЙ квартире. Казалось, всё рассказал Никита, все подробности обрисовал. Ан нет! Полубыков ласковенько так выкатывает уточняющий вопросец, и пошло-поехало. И не думал Никита, не догадывался, а вгляделся повнимательнее, а оно вот как выходит! Совсем по-другому, чем раньше думал. Порой, готовое переписывать доводилось. Но там было понятно, зачем вопросы. А здесь? О чём они говорят, сидючи на крашеных красной охрой ступеньках крыльца? Зачем сейчас ворошить давнее? Зачем эти раскопки, будто они берестяные грамоты ищут, или золото скифское? Никита не раз вспоминал кабинет Казарезова и незамысловатый разговор про картошку-скороспелку. Не будь того разговора, жизнь могла покатить по иной колее. Или всё было предопределено? Хотя в судьбу и прочие штучки он не верил и ехидничал по поводу жениных подруг, любивших порассуждать о таинственном и картишки раскинуть с гаданием .Сам для себя он давно решил, что его работа была связана с защитой ТОГО государства. Нравится кому-то или нет, но оно было, ТО государство. Было. И квартира ТА была. И он, Никита тоже был. И все были. И товарищ Полубыков оттуда же. Всё было и вот вам хрен! А кстати, в чему ведёт разговор товарищ подполковник? Никите показалось, что хмель начал с него скатываться, как вода с крыши. Он встал со ступенек крыльца, потянулся так, что в спине что-то хрустнуло:
- Засиделся я у вас, Василий Степанович. Славно мы пообщались, былое вспомнили.
А подполковник Полубыков, казалось, совсем раскиселился:
Главное, кхе-кхе-кхе, главное-то я и не показал, Никита! Главного! Пойдём, покажу.
- Может, завтра? –,засопротивлялся Никита, - Завтра и посмотрим. На свежую голову.
- Что такое Завтра, Никита? Никакого Завтра нет. Есть только Сегодня и чуточку Вчера. Так, кхе-кхе-кхе, самый чуток. На донышке, как в нашем графинчике. Я его прихватил. – И подполковник побултыхал графинчиком. – Сейчас мы с той хватим по маленькой и пойдём.
Он снял крышечку с графина и Никита углядел, что это и крышечка, и маленький стаканчик. Полубыков поднёс крышечку и графинчик к самым глазам и, словно микстуру, налил собственного производства в крышечку и протянул налитое Никите. Рюмка была невелика, но собственного производства миновала самотёком и горло, и желудок и сразу опустилась в ноги, которые сделались словно ватные. А Полубыков снова налил в крышечку, будто капли в мензурку накапал, и хватил, прикрякнув:
- Ха! Как же тебя, милая, в Афгане не хватало!
- Вы и там были? – С удивлением в голосе протянул Никита. Сам он в армии не служил. По всем статьям по окончании института ему следовало пойти в армию. Но у него был «белый» билет по случаю плоскостопия, чему он втайне нестерпимо радовался, хотя прилюдно радости этой не являл, но наоборот – делал скорбное выражение лица. А радовался потому, что Артюшка, отчисленный из мединститута, загремел в армию, попал в Афган, и вернулся оттуда в наглухо запаянном ящике. Да-да, тот самый Артюшка-баснописец, несостоявшийся офтальмолог, сочинивший некогда смешную басню «Пророк и Порок», за которую так его нахваливал Михаил Моисеевич (или Михайлович) Штрих.
- Ну, пойдём, - сказал подполковник Полубыков. И они сошли с крыльца и направились к строению, которое напоминало сарай, но сараем не было. А кобелёк, погромыхивая цепью, подгавкнул вослед, но не так яростно, как вначале. Никита подумалось, что кобелёк вполне разумен и может быть, уже включил его в число допущенных. – Была бы сука, - продолжал зачем-то размышлять на собачью тему Никита, - та брехала бы и брехала. Не зная зачем, но брехала бы. И подумал, что можно записать в заветной тетрадке эту мысль о брехливости вообще, и сучьей брехливости в частности.
Подполковник отворил дверь, и они вошли. Никита увидел, что тут нечто вроде мастерской. Здесь стоял маленький токарный станок. Дальше - верстак для работы по дереву, над верстаком полка. А на полке рубанок, фуганок и шерхебель. Под полкой же, в специально сделанных из старых ремней петлях, прибитых к стене, стамески, долота, резцы по дереву и киянок, похожий своей ударной частью на стриженый солдатский затылок. Чуть дальше – верстак для работы по металлу, с тисами. А посредине, на какой-то подставке, нечто, накрытое колпаком из склеенных газет.
- Вот! – Сказал подполковник и бережно снял колпак, - Моё, кхе-кхе-кхе, творение. И зажёг зачем-то свет.
А под колпаком на деревянной столешнице, укреплённой на козлах, стоял макет Свято Никольского собора, – некогда красы и гордости губернского города. Это был славный собор. Трёхпрестольный. Ставлен в дониконовские времена, по старым ещё канонам. Была в нём местночтимая икона Николая - Чудотворца Мирликийского, собиравшая своими чудесами неисчислимых паломников не только из губернии, а порою, издалече. В день, когда расстреляли царскую семью, икона заплакала. Она плакала всё то время, пока город был под властью Комуча. Потом пришли красные, и командир конного «Стального» полка товарищ Барбазюк на своём боевом жеребце въехал в собор и выпустил из маузера шесть пуль по иконе. Но, потому ли, что жеребец комполка пританцовывал, пугаясь, дурашка, золотых бликов, то ли потому, что товарищ Барбазюк захмелевший от победы и всего, что победе сопутствовало, был нетвёрд в намерениях, но чудотворец оказался почти и не ранен. Однако, собор за контрреволюционную агитацию закрыли. В 21 году его подчистую обобрали под предлогом помощи голодающим. Потом там был недолгое время клуб конного полка имени тов. Троцкого. Следом тот же клуб, но уже имени тов. Рыкова. Затем некий склад, который охраняли бойцы в фуражках с энкаведэшными околышами, но уже к этому времени с собора посшибали купола и барабаны, на которых купола высились. И колокольню укоротили. А колокола с неё сбросили лихие конники, и колокола грянули оземь под дружные и радостные матюги загорелых ухарей. Но окончательно собор погубили уже при Хрущеве, дабы и думать никто не посмел ни о чём таком. Останки собора взорвали. А на месте, где он высился, разбили сквер с фонтаном для прохлады и отдохновения ныне здравствующих строителей коммунизма, в который некоторые несознательные будущие обитатели будущего коммунизма норовили бросить окурок. Но это история к делу не относящаяся, и мы её рассказывать не станем.
А подполковничий собор – Никита Павлович прямо-таки обалдел – был построен из спичек.
- Из спичек, кхе-кхе-кхе, из спичек, - как показалось Никите, не без застенчивости в голосе подтвердил Василий Степанович. – На минувшей неделе закончил возводить.
- Эт-то сколько же надо…?
- Много, Никитушка, много! Я сперва считал коробки, а потом бросил, потому как, начал спички большими упаковками брать. Знаешь, есть такие коробки на кухню. Они, кхе-кхе-кхе, выгоднее! Я и сегодня на базар за спичками поехал. Взял, да тебя заприметил.
Никита слушал подполковника, а сам обходил собор кругом и вглядывался в детали; Весь собор, решительно весь, был возведён из спичек, целых и нарезанных, кроме крестов на куполах, выполненных из медной фольги, и стёклышек в оконных проёмах купольных барабанов. Правда, серные головки отсутствовали.
- А я их срезаю, - как бы услышав мысленный Никитин вопрос, пояснил подполковник. Вот этим самым ножичком. Чик – и в дело. На верстаке стояла металлическая упаковка от печенья, полная спичек, подготовленных к использованию.
И кто бы мог предположить, кто бы посмел предположить, да ещё в прежние-то времена, что Василий Степанович Полубыков способен на этакое рукоделие, или, как шутил иногда Никита Павлович Боровков, рукоблудие. Имел же он право иногда и пошутить. Хотя писателю его ранга такого рода шутки были уже и не к лицу. Он, как вошёл в лета, даже и улыбаться стал скупее. А если улыбался, то улыбка у него была как бы с двойным дном. Мол, улыбаться-то я улыбаюсь, но сам твёрдо знаю: время такое, когда не до улыбок, а с вас, недоумков, что взять. Особо его бесила жена – хохотунья, большая любительница юмористических передач по всем телеканалам. О, как она покатывалась, как прыскала по самым ничтожным поводам! Как заглядывала в рот, как смотрела почти влюбленными глазами на писателей-юмористов. Никита в такие минуты норовил уединиться в своём кабинете, дверь которого была специально обита поролоном, дабы какое-нибудь сквернавство не разрушало минут вдохновения. А жена вдруг вскакивала с дивана и бежала в кабинет, в котором Никита мог мучительно долго сидеть над какой-нибудь фразой, выпутываясь из одолевающих его деепричастных оборотов. А она вламывалась и начинала пересказывать пошлейшую остроту, трясясь от смеха всеми своими полушариями. И что обиднее всего: эти смехачи ничтожные получали явно хорошее содержание, издавались в Москве приличными тиражами и властвовали над думами, заполнив собою экраны. А он, Никита Боровков – один из крупнейших позвонков в становом хребте русской словесности – прозябал ныне в полной безвестности, и никак не мог достучать на компьютере свой выстраданный роман «За оврагами». В эти мгновения Никита готов был забыть и лакомые женины полушария, и даже проклясть соглашательство со вкусами своей Анастасии Петровны. Но, подумавши, остывал. А как тут не остыть, если, личная свобода, творческие дерзновения и поползновения «глаголом жечь», компьютер, на котором он настукивал обличающие строки горьких своих размышлений, бумага для принтера, сигареты, в конце концов, всё, что скрывали дверцы домашнего холодильника, даже штаны писателя зависели от доходов супруги, которая правдами и неправдами обзавелась собственным парикмахерским салончиком, назвав его вопреки совету Никиты, «Бомарше». Ведь нельзя же содержать семью на зарплату литературного консультанта областного Дома Народного творчества, больше похожую на милостыню от теперешних властей. И это соглашательство так терзало Никите душу, словно трактор по ней ездил, волоча за собой сцепку борон.
А подполковник Полубыков нажал какую-то пипочку и внутри собора загорелся свет, засияли оконца барабанов куполов. Затем он ещё чем-то щелкнул, и оказалось, что передняя стенка собора отворяется, словно дверка, и можно заглянуть внутрь. А внутри всё, как в настоящем соборе: зажжённое паникадило с лампочками -диодами вместо свечей, иконы по стенам, три придела, три иконостаса, а за иконостасами – алтари с престолами. И главная икона – расстрелянного Николая Чудотворца в богатом окладе. Всё было сделано и написано с необыкновенной тонкостью и мастерством. Подполковник опять что-то нажал, и раздались звуки церковной службы.
- Да, - промолвил Никита, оценивая количество спичек, которые надо было как-то соединить меж собой. - Это какой труд!
- Труд. – согласился подполковник. – Одни только чертежи, кхе-кхе-кхе, достать и скопировать дорогого стоило. Сидел, просиживал штаны в архиве нашем областном. Оказывается, не только собор снесли. Но и обмеры его долгое время в спецхране, за семью печатями лежали.
- А дальше что? – спросил Никита.- На выставку? Давайте к нам, в дом народного творчества. Я устрою.
- Выставку? Зачем выставку. Никита Павлович, уважаемый!? Это я для себя. Так сказать, епитимия. Кхе-кхе-кхе.
- Что-что? – Писатель Боровков словно подавился словом, которое слышать слышал, но точного смысла не понимал.- Наказание что ли?
Никита поднял глаза на подполковника и поразился перемена его лица. В нём опять проявилось что-то прежнее, словно из ТОЙ, уже навек невозвратной жизни, которая когда-то связала их обоих в один тугой узелок. Черты лица, казавшиеся Боровкову ещё недавно как бы подтаявшими, вдруг обрели прежнюю рельефность. Или это свет так падал? Или собственного производства продолжала оказывать глубинное своё и коварное воздействие на бедную писательскую голову Никиты, которая должна была и окружающий мир воспринимать более или менее адекватно, и соображать, что ответить на слова и вызовы мира, и постоянно любоваться тем, что рождает голова в ответ на вызовы мира, и стараться запомнить, то, что вызвало это любование? И ещё себя контролировать! А контролировать надо бы! С подполковником Полубыковым попробуй, не проконтролируй! Или уже не надо держать себя за язык?
- Это не наказание, Никита Павлович! - Произнёс подполковник, улыбнувшись. И продолжил с неожиданным смирением в голосе. - Это радость.
- Ха-ха, - осклабился Никита. – Ничего себе радость! Не помню, у кого из классиков, написано, что эту… как её?
- Епитимию…
- Вот именно! Что её… за проступки назначают…
- За грехи, Никита Павлович! За грехи наши тяжкие – это верно! Однако, я сам. Сам! Никто мне не назначал! Я сам… Это важно, чтобы сам.
Словечком-то каким обзавёлся подполковник: «Грех»! Не пустяковое слово. Мыслимое ли дело – услышать такое, да в прежние времена. Никита редковато в последнее время наезжал в деревню к матери. Она совсем постарела. Давно не работала в своей райбане, которую теперь гордо именовали сауной, и куда простому селянину ходу не было из-за диковатой цены. Путём она уж и обслужить себя не могла, а в город к невестке ехать отказывалась наотрез. Мать встречала Никиту, сидя у окна на стуле, где обычно проводила все свои дни. Узнавала его, как только он просовывал руку в щель калитки и отодвигал щеколду. Улыбалась ему, пока он шел пять своих шагов до крыльца дома, хотя ослабела глазами и могла различить только силуэт. Обнимала, и нет-нет, да и называла его Павлушкой. Появились в доме иконы. Большинство – теперешние, бумажные. Но и те две старые, которые когда-то маленький Никита обнаружил в сарае за дровами. Теперь они висели в красном углу над телевизором. Как-то утром Никиты проснулся рано и услышал материнский шёпот. Мать стояла на коленях перед телевизором и молилась. Что она произносила, понять было мудрено, однако, кое-что Никита и разобрал. Она просила Господа упокоить с миром Раба Божия Павла, отпустив ему все прегрешения вольные и невольные. Это показалось писателю Боровкову удивительным. Вне молитвы, в разговорах с Никитой, она либо никак не упоминала отца, либо говорила о нём в осуждающих тонах, будто он был по-прежнему жив и вновь пустился во все тяжкие. Вот уж не ожидал Никита, что мать - истовая партийка, бессменный депутат райсовета, станет в старости богомолкой. Не понимал этого, как не понимал молодого попа, густо обросшего бородой и купившего дом по соседству. Поп был настоятелем вновь построенной в райцентре церкви Косьмы и Дамиана. Вечерами сквозь щели в заборе Никита с любопытством наблюдал, как поп, в старых джинсах, по пояс голый, громко и весело комментируя вслух свои победы, собирал на картофельных грядках колорадских жуков. Встречал он его и сосредоточенным, в облачении, идущим на службу и со службы. И всё ему казалось, что этот молодой, атлетически сложенный парень зачем-то придуряется, прикидывается попом, а на самом-то деле, блюдёт свою корысть. Хотя, с другой стороны, какая корысть в звании райцентровского попа? Копейки сшибать с таких старух, как мать? Много ли тут копеек! Неужели дело в вере? Но мыслимо ли, верить неизвестно во что?!
- Вы что же, Василий Степанович, неужто тоже в веру ударились? - Спросил он подполковника, заранее готовясь улыбнуться неизбежному, как ему казалось, отшучиванию Василия Степанович в ответ на такой вопрос.
Хотя чему и удивляться? Губернатор Аграбастов в торжественные дни по правую руку от себя норовит архиепископа усадить. А попы по любому поводу водой кропят. Даже владелец кондитерской фабрики Исай Савельевич Бокман, запуская новую шоколадную линию, закупленную в Израиле, устроил молебен с водосвятием. Когда Боровкову приходилось оказываться на церемониях, где присутствовали попы с бадейками т.н. святой воды, он старался отойти во вторые ряды, чтобы брызги не долетали. А всё потому, что в институте на курсе он один был настоящий отличник по научному атеизму. Доцент Бурматов, преподававший атеизм, на Никиту нарадоваться не мог и приводил его всем в пример. Он, этот доцент свои семинары начинал преоригинальнейшим образом; Входя в аудиторию в первый раз, он ставил на стол портфель и доставал из него туристский топорик, приговаривая: «Сейчас, мои юные друзья, я преподам вам первый неопровержимый урок научного атеизма». Следом он доставал из портфеля ополовиненную деревянную икону, снимал с топорика чехольчик и тюкал по иконе. Движения доцента были точны. Топорик отсекал от иконы тоненькую щепу. Доцент прятал топорик и остатки иконы в портфель, а щепу возносил кверху и говорил: « И что из этого следует? А ничего не следует! Ничего! Никакой кары за богохульство! Ничего, милые мои! И никого! Есть только доска с изображенным на ней представлением людей об идеальном.» И далее начинал преинтереснейшую лекцию о верованиях предков славян.
- Да как сказать, кхе-кхе-кхе, уважаемый Никита Павлович, ударился я в неё, в веру, или нет… – ответил подполковник Полубыков вполне трезвым голосом. – Скорее так: она в меня ударила. Был я в Афгане. Два ордена, медаль. И даже, некоторым образом, боевое ранение. И контузия головного мозга. Хорошо садануло. Полгода слово «мама» учился выговаривать в нашем госпитале центральном в Москве.
- Я и не знал, - пробормотал Никита.
- Да и зачем вам знать, уважаемый вы наш мастер слова! Не надо этого знать. Не надо. Никому не надо.- подполковник мотнул горловой. - Ах, беда; графинчик я не захватил… сейчас схожу. Тут не во мне дело. Мне поделом ввалили. А знаете ли вы, Никита Павлович, сколько мы там народа положили? Местного?
- Так тож душманы. Враги.
- Кхе-кхе-кхе, враги! Враги! Как есть, враги! Песенку, господин писатель, помните? – и подполковник запел: «Шумел сурово брянский лес…». А они там такие же партизаны… только песен мы про них не поём. Нет про Афган песен! Нет!
- Как же нет! - Взвился Никита. - Я даже на концерте был. Ансамбль. Все в форме. Только про Афган и поют.
- Это хорошие ребята, - покорно согласился Василий Степанович, - хорошо поют. А народ не поёт. Нет у народа песни про Афган. Такой, чтоб за душу брала. Так вот, о Боге: я, пока безгласный в госпитале обретался, всех до одного виденных мною убитых афганцев вспомнил. В лицо. А особенно, кхе-кхе-кхе, детей. Много чего и кого вспоминал. И тебя, Никита, вспоминал. И Штриха. И девочку эту. И ещё тех, которых ты не знаешь, кого я погубил, так сказать, по долгу службы. Или помог погубить. Подвёл к гибельной черте. Помог её перешагнуть.
- Вот это даёт подполковник Полубыков! - Только и подумал про себя писатель Боровков.- Какой разворот! Получается, я погибший. Напишешь – скажут, сочинил.
- И лежу я себе молчком, вспоминаю погубленных, в лица их вглядываюсь, а сам думаю: заговорю – пойду в церковь, свечку поставлю. Самую толстую. Какая только будет. И представьте, товарищ обличитель продажного режима: на следующее утро, как я это подумал, речь ко мне вернулась.
- И вы тут же за свечкой? – не без ехидства в голосе спросил Никита.
Но, похоже, подполковник Полубыков ехидства не заметил, или пренебрёг:
- Хуже! Никуда я не пошёл. И никаких свечек, Сначала долёживал в госпитале, потом пригласили на Лубянку, в контору нашу главную. Там высокое руководство орден вручило за то, что сумел выжить, несмотря на приказ выполнить до конца, кхе-кхе-кхе, свой интернациональный долг.. А потом марш-марш на Кавказ в санаторий. Долечиваться. Когда домой вернулся, тут уже весь на виду. В церковь свечку ставить не пойдёшь – не поймут товарищи по партии. Церковь-то в те годы тоже была… под неусыпным попечением.
Ох, не в добрый часа встретил Никита Павлович Боровков подполковника Полубыкова. Разминись они на четверть часа, и не было бы ничего; ни поездки в Нахаловку, ни застолья, от которого к вечеру прихватит печень, ни разговора этого мутного. А ведь поехал. И почему? Потому что все эти годы боялся, что какая-то демократическая гнида доберётся до ТЕХ листочков. Зашелестит ими прилюдно. Фамилию обнародует: вот кто, мол, погубил литгруппу, целый букет юных дарований. И всякая газетная, а пуще телевизионная гнусь накинется и начнёт словоблудить и клеймить, злодеем выставлять. А люди спросят: «Боровков? Какой такой Боровков? Не писатель ли наш? Совесть неусыпная?». Каждый раз, когда Никита Павлович в своих, почти постоянных размышлениях доходил до этого места, охватывали его страх и исступление. Доведись, кажется, стрелять – стрелял бы, не раздумывая. Он представлял, как лежит за пулемётом «Максим» и давит на гашетку – только ленты подавай, товарищ!
- Из-за меня, Василий Степанович, вам каяться нечего!
- Ты так думаешь, Никита?
По острию шёл Никита. По самому острому. Вот он, нужный момент. Самое время спросить, а не спрашивается. Словно язык прилип к гортани.
- Так ты полагаешь, что ни мне, ни тебе перед ним, - подполковник указал на собор, - каяться не в чем?
Продолжение следует
Павел Рыков (г.Оренбург)


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



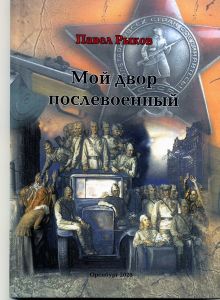

















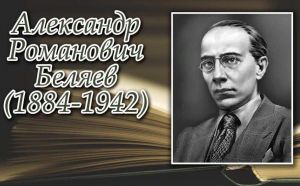








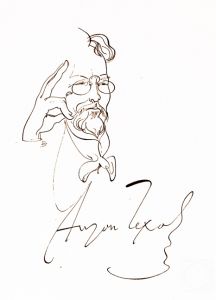





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский