Часть вторая
I
Катерина хотя выходила замуж за Ивана и по своей охоте, но не склонность ее к молодому парню решила судьбу ее, а то обстоятельство, что семья Ивана жила хорошо, то есть достаточно, и жених ее был сам хозяин в доме, работящ, не пьяница. Мать Катерины, слывшая в народе вещею старухой, противилась этому браку, и не потому, чтобы Иван не нравился ей. Наоборот, она даже любила его за веселый, приветливый нрав, за уменье обойтись и поговорить с людьми и все-таки противилась этому браку.
– Будешь молодой вдовой, доченька, будешь. Вот чего я боюсь, – обмолвилась раз старуха.
В новой семье Катерина кроме привета и ласки ничего другого не видала, а муж и маленькая Маша буквально обожали ее, и все-таки дом мужа внутренно она не считала своим.
Здесь постоянно ее угнетала безотчетная тоска; ей почему-то казалось, что тут она поселилась не навсегда.
Сильная, ухватливая, способная на всякую работу и по дому и в поле, она сама чувствовала, что тут, в новой семье, как она ни старалась, работа ее была далеко не та, что в родительском доме. Свою мать, с которой она никогда до замужества не разлучалась, Катерина всегда очень любила, тут же в первые месяцы замужней жизни любовь эта дошла до болезненности. Муж отпускал ее к родным во всякое время; если же сам был свободен, то с большой охотой ездил с нею в ее родную деревню.
Летом, умаявшись за день на полевой работе, Катерина часто вечером шла в Черноземь, до которой было никак не меньше шести верст; несколько часов просиживала с матерью, а к утру, как только восток озарялся румянцем зари, Катерина уже работала с мужем в поле.
Последние два месяца она меньше стала тосковать по матери, с каждым днем все сильнее и горячее привязывалась к мужу, и сознание, что дом мужа не ее дом, не так уже остро чувствовалось ею. Но тут-то и убили Ивана. Помимо горя от утраты человека близкого, родного и любимого, в семье Ивана сразу после его смерти все почувствовали, что из дома исчезла та всеопекающая, неустанно-заботливая сила, что кормила и содержала их всех. Голая нужда, которой в семье никто никогда прежде не знал, теперь заглянула к ним со всех сторон. На похороны и поминки сына Акулина затратила все свои сбережения, скопленные за много лет, да еще пришлось занять у дяди Егора три рубля.
За лето Иван успел вспахать только половину озимого поля, и теперь, как ни надрывалась в работе вся семья, Акулина видела, что остальной половины им не допахать, хотя работали они все гораздо более, чем при жизни Ивана.
Своего хлеба у семьи всегда хватало до нови, теперь же Акулина предвидела, что дай Бог, чтобы на своем хлебе удалось протянуть до половины зимы, потому что придется понемножку продавать его, чтобы иметь деньги на уплату повинностей, на обувь и одежу, а уж что дальше будет, Акулина боялась и загадывать.
Днем при белом свете, при постоянных заботах, тоска об Иване не так чувствовалась; вечером же, когда, окончив работы, вся семья собиралась в доме, в прежде веселой, довольной избе Акулины поднимался неутешный плач. Плакала Акулина, плакала Катерина, ревели ребята, Маша причитывала, как взрослая. И этот жуткий концерт продолжался до тех пор, пока сон не успокоивал до утра всю семью.
Помимо всех забот у Акулины появился предмет новой тревоги и новых дум. Два вопроса, тесно связанные один с другим, мучили ее и день и ночь.
Первый вопрос – останется ли невестка жить при ней? Второй – отдадут ли сваты корову и овцу, выговоренные за ней в приданое?
Акулина полюбила невестку, и ей тяжело было выпустить из своего дома умелую, добросовестную работницу, каковой была Катерина, обладающая при этом прямым, послушным и ровным характером. А раз невестка осталась бы при ней, тогда и второй вопрос сам собой разрешился бы в желательную для нее сторону, потому что сваты тогда волей-неволей вынуждены будут отдать и приданое.
С большой осторожностью и, по своему обыкновению, вкрадчиво Акулина неоднократно заводила разговор с невесткой по поводу ее планов на будущее.
Она, поглощенная своими хозяйственными соображениями, которые являлись для нее и семьи вопросом жизни, не могла понять того, что Катерине, только что потерявшей мужа и потрясенной кровавым событием, было вообще не до планов.
На вопросы свекрови она всегда отвечала одно и то же:
– Я от тебя, мамынька, ни худого слова не слыхала, ни косого взгляда не видала. Куда же мне иттить? Ежели не выгонишь, никуда не пойду от тебя...
– Сама видишь, Ка тюшка, жалею тебя, ровно родную дочь. Сама видишь... – всегда отвечала Акулина.
Катерина всегда до ужаса боялась покойников и с самой той ночи, как узнала от Демина о несчастии с мужем, она не спала, после же смерти Ивана к ее горю и тоске прибавилась еще боязнь увидеть покойника. Ей казалось, что умерший муж всегда находится при ней и ищет только случая заговорить с нею. Поэтому теперь, особенно вечером, она не оставалась одна в доме и не ложилась на свою постель, а спала на полу вместе с семьей, причем по бокам ее ложились Акулина и Маша, в головах Афонька, а Гришутка в ногах.
Леонтий, приезжавший на похороны Ивана, сообщил Катерине, что мать их при вести об убийстве зятя свалилась с печи и так расшиблась, что пролежала все дни и встала на ноги только в день похорон, а теперь Леонтий наказал сестре через одну черноземскую бабу, чтобы Катерина скорее приехала спроведать старуху, потому что ей стало хуже.
– Надоть навестить сватью-то, доченька, – сказала Акулина невестке.
Катерина с лихорадочной поспешностью стала собираться в дорогу, думая о том, как она встретится с матерью и как будут плакать вместе.
– Ты поезжай, не ходи пешо м, – сказала Акулина.
В избу со двора вошел Афонька.
– Да вот, Афонюшка, – обратилась она к сыну, – запряги-ка поскорее лошадку да свези Катю в Черноземь. Наказывали, сватья занедужала.
Афонька недовольно шморгнул носом и наморщился; лицо его приняло капризное выражение; толстая нижняя губа отвисла и задрожала.
– Не поеду я в Черноземь! – в неожиданном, злобном азарте выкрикнул он, повесил шапку на гвоздь и, надутый, нераздевшись, сел на лавку.
– Да почему ж тебе не поехать, Афоня?
– Не поеду да и все тут! – упрямо проговорил он, стараясь подобрать непокорную дрожащую нижнюю губу.
– Так ты запряги только, а Гришутка свезет, – с терпеливым смирением сказала Акулина своему любимцу. – Свезешь, што ли, Гришутка?
– Да я и запрягу сам. Што я без Афоньки не слажу, што ли? – с особой гордостью вызвался мальчик и, схватив шапку, побежал к двери.
– Не дам нонче гонять лошадь. Вот и все. Пущай Катя подождет до утрия. По утрию свезу уж... – решительно, как заправский хозяин, заявил Афонька. – Штой-то есть охота. Собирайте ужину, што ли? – добавил он, как бы подчеркивая, что вопрос решен и не подлежит пересмотру.
– Слышь, доченька, што говорит Афоня? Нонче лошадку-то и вправду уморили. По утрию свезет. Што тебе не подождать до утрия-то?
– Нет, мамынька, я уж собралась. Дойду и пешо м.
– Ну, как хочешь, доченька, поклонись сватье-то и сватам.
Катерина вышла из дома перед вечером. Дул прохладный, влажный ветер, срывавший с деревьев пожелтевшие редкие листья; по туманному небу беспокойно ползли, то обгоняя, то смешиваясь друг с другом, серые и темно-серые тучки, иногда дарившие непродолжительным, мелким и частым, косым дождем. Он так же внезапно начинался, как внезапно и обрывался, точно вдруг решался разлиться вовсю, но при первой же попытке передумывал, и низко спустившееся солнце то на мгновение каким-нибудь краем показывалось в промежутках между тучками и обливало своими прощальными лучами сжатые поля, взошедшие зеленя, черную дорогу и желтые перелески, то снова заволакивалось резво бежавшими тучками, и тогда все вокруг никло, темнело и мертвело...
II
Мать Катерины лежала в нетопленой, неприбранной избе, на сделанной из жердей зыбкой кровати, на соломеннике, прикрытая куравчатым засаленным одеялом и еще поверх тулупом.Все домашние с утра ушли на молотьбу. У нее только что прошел приступ лихорадки. Голова хотя и была еще слаба, но боль и шум в ушах несколько поутихли, и вся она, вспотевшая, слабая, испытывала то чувство облегчения, приятной усталости и покоя, какое обыкновенно наступает у больного вслед за пароксизмом.
Сейчас Прасковья горевала об убитом зяте, и в ее кротком, любящем сердце заныла недавняя незаживающая рана: она вспомнила о «казенном» сыне, убитом в минувшую войну под Мукденом.
Это была ее никогда неумолкающая печаль последних лет, особенно дававшая себя чувствовать в дни семейных несчастий и болезни.
Родив сама тринадцать детей, из которых в живых осталось шестеро (два сына и дочь всегда жили в Петербурге), Прасковья выкормила своей грудью приемыша из Воспитательного дома и очень полюбила его. В ее доме он и вырос, и, когда его взяли в солдаты, старуха смертельно затосковала. Дни получения писем приемыша были праздником для приемной матери. Так прошло три с лишним года; близился уже срок возвращения сына из полка; солдат уже написал, когда, на какой неделе его ждать домой. Старуха ожила и считала дни, отделявшие ее от свидания с любимцем. Но на самой масленице пришла страшная весть: сын просил в письме у батюшки и матушки благословения навеки нерушимого, потому что его вместе с полком отправляли на войну.
С этого дня вся жизнь Прасковьи сосредоточилась в постоянных опасениях за сына, в горячей молитве за него и в трепетном ожидании весточек с театра войны. Письма приходили редко, и после каждого из них старуха на несколько дней оживала, бегала к деревенским грамотеям и диктовала пространные послания к сыну, в которых особенно подчеркивала, чтобы сын не осрамился, а всегда впереди шел на врага. Но чем дальше шло время, тем состояние души Прасковьи становилось все тревожнее и беспокойнее. После боя под Мукденом письма от приемного сына совсем прекратились. Старуха ходила, как тень, ко всему глухая и слепая и целые ночи простаивала на молитве. Только спустя полгода она доподлинно узнала, что сын убит, но еще гораздо раньше, чуть ли не в дни мукденских боев вещее сердце подсказало ей печальную весть. Живая, бодрая старуха как-то быстро ссохлась вся и стала часто прихварывать.
Сейчас, лежа одна в пустой избе, куда скупо пробивался вечерний свет через два запыленных окошка с маленькими, матовыми от старости стеклами, Прасковья с подступившими к горлу и глазам слезами начала тихонько причитывать.
Причитывания были скорбною песнью ее души. Все важнейшие события ее жизни и жизни семьи выливались ею в причитываниях. «Так-то вышла я на порог, солнце только что всходило, – начала шепотом Прасковья, – и спросила я у красного солнышка: «Красно солнце восходимое, ты свеча неугасимая, наша теплое, обогревающее, обогреваешь ли мово чада милого во чужих-то во землюшках, что во дальних, во украинных, у злодеев у неверныих?» И только так спросила я, как послало солнце вестника: – вдруг пахнуло на меня ветром буйныим на мою-то на белу грудь, на мое-то на ретиво сердце. И помчалась мысль моя быстрая, загуляла дума борзая во моей бедной головушке. Догадалась я, придумала, что прилетела ко мне скора весточка от моего сиротинушки. Верно попался, мое дитятко, он под пушки под чугунные, он под ядра начиненные прямь ему в буйну головушку, иль ружьем страшным в белу грудь, штыком вострым в ретиво сердце. Он упал ли на сыру землю, он на кровь ли на горячую; его скрыли, чада милого, что во матушку во сыру землю все чужие-чужестранние, не омыли лицо белое, не сняли платье кровавое. Ты катись-ка, горюча слеза, до моего чада милова, ты омой ему лицо белое, да его платье кровавое. Может, будет тое времячко, что у самого Христа, может, свидимся мы, встретимся в зеленом саду, чтоб узнать мне лицо белое да его платье военное».
Только самое начало, несколько первых слов, прошептала Прасковья, остальное договорила молодым, мелодичным голосом. Без затруднения, без запинки катились слова с языка ее, как катится с горы в долину звенящий, светлый ручей, родившийся где-то далеко в чистой поднебесной высоте.
Со двора щелкнула щеколда, отворилась и притворилась наружная дверь, потом уже в сенях послышались приближающиеся шаги.
«Кого-то Бог принес?» – подумала Прасковья и обрадовалась; ей тяжко было целый день пролежать, не видя человеческого лица.
Дверь в избу отворилась. На пороге кто-то появился, но так как уже начинало смеркаться, то Прасковья, приподняв голову с подушки, не могла сразу узнать, кто именно вошел.
– Кто там? – окликнула она.
– Свои, – отозвался низкий, контральтовый голос Катерины, и сама она, похудевшая, с толстым животом, быстро приблизилась к матери и нагнулась к ней с замерцавшими от радости глазами.
– А-ах, жаланная ты моя ластушка, голубка моя сизокрылая, моя горемычная доченька!.. – всплеснув сухими руками, воскликнула Прасковья, но от радости и горя ей перехватило горло, и она залилась слезами.
На лице Катерины мгновенно погас луч радости; оно потемнело, полные пересохшие губы задергались, и, упав головой на грудь матери, Катерина зарыдала. Она рыдала долго и глухо, подергиваясь всем телом. Старуха левой рукой гладила дочь по волосам, а правой крестилась, шепча молитвы и отирая свои слезы. Она и не думала утешать и уговаривать дочь; только тогда, когда рыдания Катерины перешли в тихий плач, она спросила:
– Ничего не приказывал, доченька?
– Языком-то не владел, мама, знать, отшибли... Перед смертью-то, как пришел в себя... все зубы у себя перешатал, мамыньку по лицу гладил... а на меня все глядел... глаз не спускамши... одним глазом-то глядел... другой запух... и слезы градом, и... за руку держал крепко... крепко... хотел видно, жаланный, что-то сказать да... языком не владел...
И Катерину снова начало подергивать от рыданий.
– А как я упала на пол и потом собралась уходить, говорю ему: «Не умирай, дождись меня, Ва нюшка... приду завтра», как он закричит так: «Ой-ой-ой; раз двадцать, пока я не вышла за дверь, все кричал и все на кровати-то бился... знать, не хотел без меня помирать-то...
– Жаланный мой, Иван Тимофеич, царство небесное, вечный покой, – задумчиво и горестно шептала старуха. – Не побеседуем уж больше мы с тобой, как, бывало, беседовали и как сладко-то беседовали... Какой хороший, да добрый, да ласковый был...
– Я и до кузней не дошла, а ён помёр.
– И до кузней не дошла?! ах, жаланный...
– Не успела дойтить... нет...
Бабы плакали.
– Батюшку-то приводили? – минуту спустя спросила Прасковья.
– Приводили. Ён не в себе был. Батюшка пошептал над им молитву, приложил крест к губам и больше ничего.
– Слава тебе, Господи, што хошь все справили...
Катерина отерла слезы и понемногу успокоилась. Наступило недолгое молчание.
– А ты, мама, все об ём, об Гаврилушке? Я иду под окном и слышу, причитываешь...
– Все об ём, доченька, все об Гаврилушке. Не забыть мне моего жаланного сыночка! Сперва-то взгрустнулось мне, доченька, все об тебе, жаланная моя, да об Иване Тимофеиче твоем. Ну, а все мои думы горькие об ём, об Гаврилушке-то зачинаются, да с им и кончаются. Целый день так-то лежишь одна-одинехонька, так чего только не надумаешь? Все вот так уйдут с утрия раннего на молотьбу и никто-то за целый день не наведается, не заглянет ко мне. Я не жалюсь, доченька, спаси их Христос, всем довольна, обиды от их никакой не вижу...
Она помолчала.
– А уж Гаврилушка-то не покинул бы так одну свою больную мамоньку, куска бы не доел, а уж урвался бы, прибежал бы разок-другой хошь на минуточку...
И старуха вдруг залилась снова горькими слезами, и хотя она только что говорила, что не жалуется на семейных за не-внимание к ней, на самом же деле это были слезы обиды.
– Жалел ён, сердечный, меня...
– Мы все жалеем тебя, мама...
– Да рази я в попрек говорю, доченька? Все вы меня жалеете, спаси вас Христос, да не так, как Гаврилушка...
– Гаврилушка больше всех жалел тебя, мама, это точно.
– И об чем я все плачу, доченька, об чем денно и нощно сокрушаюся, – тише прежнего, как бы в забытьи продолжала Прасковья, видимо растроганная участием дочери, – и на могилочку-то его не могу пойтить, не знаю, не ведаю, где зарыт мой сиротинушка. Я жалела его больше всех своих родных детушек, ведь получила я его трехнедельной крошечкой, своей грудью выкормила, выпоила, да бывало, как возьму его на рученьки, да как вспомню, что одна-то одинешенька эта крошечка на всем на белом свете... всем-то ён чужой, всем-то ён ненадобный, и так-то заболит мое об ём сердечушко, чуть што не разрывается, а как взглянет, бывало, на меня своими ясными глазыньками, да улыбнется, да протянет рученьки, совсем што солнышко в вешний день...
Уже совсем смеркалось. Бабы наговорились и наплакались досыта.
Катерина хозяйским глазом осматривала запущенную и загрязненную избу. В закоптелых бревенчатых стенах, проконопаченных паклей, зашелестели тараканы.
– Непорядок тут у нас, доченька, непорядок, – заметив критический взгляд Катерины, как бы извиняясь, сказала Прасковья. – И глазами бы не глядела круг себя. Хошь ты прибери, жаланная, а моей-то уж нету моченьки... Как колода лежу, касатая моя... На погост уж кости просятся.
– Постой, переложу тебя, а потом уже приберусь, – сказала Катерина, проворно поднимаясь с кровати.
Она, обхватив старуху под спину, приподняла ее, умело и быстро перебила свалявшуюся подушку, поправила соломенник и снова осторожно уложила мать.
– Какая ты худая, да легонькая стала, мама, ровно перышко. И приглядеть-то за тобой некому, как я от вас ушла. Совсем заброшенная. Может, съела бы чего?
Старуха от еды отказалась, а попросила пить чего-нибудь тепленького.
– Хорошо мне теперича, доченька, как у Христа за пазушкой, а то кости разломило все, – говорила умиленная Прасковья и, обернувшись лицом к образу, стала креститься.
Катерина, сбросив с себя мокрые платок и пальтушку, подвязала передник и, засучив рукава, затопила печь, развела самовар, наскоро подмела и притерла пол, потом напоила мать отваром малины и пошла доить коров.
III
Совсем уже стемнело. На столе горела лампа, ярко освещая красноватым светом небольшой около себя круг, тогда как стены просторной избы, бо льшая часть печи, двери, закоптелый потолок находились в черной тени.
Дверь тихо-тихо и медленно, как от дуновения слабого ветерка, отворилась и так же тихо и осторожно, передвигая ноги в лапотках, вошел в избу древний, худой старец, кривой на один глаз.
– Тятя идет, – сказала Катерина и пошла ему навстречу.
Старику Петру считали уже давно за сто лет. Последняя дочь Катерина у него родилась, когда Пётра переживал авраамовский возраст: ему самому перевалило уже за 80, а его Сара жила шестой десяток лет. Женился он на Прасковье в крепостное время, уже будучи стариком-вдовцом, внесши господам невесты довольно крупный выкуп.
Старец свою меньшую дочь особенно любил и всегда называл «робенком».
– Здравствуй, батюшка, – громко приветствовала Катерина отца, как приветствуют людей, подверженных глухоте, и слегка кивнула ему головой. И в самом небрежном поклоне ее, и в невольно насмешливом выражении лица, и в тоне голоса Катерина выразила то снисходительное пренебрежение, с каким в крестьянских семьях относятся к старикам, уже потерявшим силу и которые считаются на положении лишнего рта, объедающего трудоспособных членов семьи.
– А-а-а, это ты, Катюша, робенок мой, – слабым, глухим голосом, с расстановкой промолвил старец, и обыкновенно неподвижное, сухое пергаментное лицо его озарилось лучом радости.
– Вот, робенок, жалко... што лихие люди убили Ивана Тимофеева, хозяина-то твоего... а и рад, – продолжал старец с тем же растягиванием слов и остановками, – опять будешь жить у нас... а то за нами с бабкою приглядеть некому...
– Ой-ой, грех-то какой, доченька, – отозвалась с своей кровати Прасковья. – Отец-то наш совсем сдурел, што говорит-то? Рад... Чему тут радоваться-то, Господи?
Старец по своей глухоте ничего не слышал. Он что-то еще пробурчал, отвернулся в угол у двери и, шепча молитву, стал мыть руки из привешенного на веревочке кувшинчика.
Лицо его, носившее следы поразительной и величавой красоты, снова окаменело. Кажется, старец даже забыл о присутствии дочери. Он, вытерев рушником руки, взлез по лесенке из двух ступенек на печь и, кряхтя, улегся на ней, видимо, уже ни на что не обращая внимания.
Бабы тотчас же услышали, как надворная дверь в сенцы с грохотом распахнулась, так крепко стукнув о притолку, что задрожали стены избы, затем послышался суматошливый топот тяжелых ног, возня, исступленное рычание, а уж у самой двери в избу матерная брань и глухие удары по чему-то мягкому.
Прасковья быстро приподняла с подушки голову, с секунду испуганно прислушивалась и вдруг с перекошенным от страдания лицом закричала во весь голос:
– Бьет... Егорушку бьет, злодей!
Катерина еще раньше матери догадалась, в чем дело, и, вся побледневшая, бросилась к двери. Туда же, хватаясь за стены и балансируя в воздухе руками, заковыляла и старуха.
Но прежде, чем добежали бабы, дверь с треском распахнулась и через высокий порог кубарем свалился в избу на пол молодой, рослый парень. Он тотчас же молча поднялся на ноги, прикрывая обеими руками голову, но вбежавший за ним с исступленным, бородатым лицом, матерно ругавшийся мужик двумя ударами поленом по голове снова свалил его. Это был Леонтий. Он уже занес ногу, чтобы опустить ее на голову сына, но Прасковья упала на парня, а Катерина схватила за руки обезумевшего от злобы брата.
– Лева, Лева, за што? Господь с тобою... Што ты сшалел, што ли? Оставь... нешто так-то можно? – уговаривала она.
– О-ох, злоде-ей, о-ох непутева-ай! до смерти забьет... – плача и задыхаясь, едва могла выговорить старуха.
Задремавший было старец заворошился на печке и привстал, оглядывая избу.
– Опять... опять бьешь, негодяй! О, варвар, брось, брось! О-о, свинья грязная, думаешь, я стар, так не управлюсь с тобой, скручу мерзавца... О скотина, о пьяница, из хаты выпру... Вон, вон!
В груди старца клокотало; он, как обессиленный лев, глухо рыкал, потрясая костлявыми руками. Единственный огромный зрячий глаз его под темной бровью горел голубым огнем, ноздри небольшого, с чуть заметной благородной горбинкой носа широко раздувались, бледно-пергаментный покатый лоб и осунувшиеся щеки совсем побелели; сивая кудрявая грива волос тряслась, тряслась и снежно-белая бородка.
Леонтий опустил занесенную ногу, бросил полено и крупными, нервными шагами пошел к столу, оглядываясь в сторону отца, и, щелкая белыми зубами, как голодный шакал, отрывисто огрызался.
– Как же, боюсь тебя! Прошли времена... Сиди на печи да смерти жди, вот твое дело, и не в свое дело не мешайся! Тебя не спрашивают... ишь расходился.
Хотя говорил он это довольно громко, однако с таким расчетом, чтобы глухой отец не расслышал.
Уж лет пять, как старик Пётра заметно обессилел и оглох. С тех пор Леонтий в грош не ставил его, но в минуты, когда Пётра обрушивал на него свой гнев, прежний страх перед грозным когда-то отцом снова овладевал сердцем Леонтия.
– Да как же его не бить, его убить мало! – кричал Леонтий о сыне. – Чуть весь двор не спалил с своими цигарками! Што ж тогда, позвольте вас спросить, родители мои любезные? Чуть весь двор не спалил... – спрашивал Леонтий, разводя руками. – Што ж тогда? в кусочки иттить прикажете с такой оравой?
– Жалости у тебя ни на каплю нетути, Левон, – не слушая сына, говорила задыхающаяся Прасковья, уложенная Катериной и Егором на кровать.
– Добрые люди всякую тварь милуют, а ты жестокосердый какой-то уродился, точно подменил его кто, а не я носила тебя под сердцем. Одного-то, единого, как зеницу ока, сына своего, кровь свою, безответного робенка за всякую малую безделицу забиваешь до полусмерти. Бога в тебе нетути, Левон. Егорушка, подь ко мне, сядь тут, горемычная моя сиротушка. Тут ён тебя не тронет, небось. Родила же такого татарина и в кого?
Старуха зарыдала.
– Наш отец пальцем никогда без дела никого из вас не тронул, а ты? О-ох, Господи, Царь Небёсный! Сколько жисти-то прожито робенком... с воробьиный носок, а што муки-то ён принял. Што бы сказала Марьюшка? Думаешь, она не видит оттуда-то, как ты тиранишь ейную деточку? На то ли, на муку ли такую лютую родила она его?
У Леонтия передернуло лицо.
– Ну запела... теперича хошь до света слухай, не переслухаешь причитаньев, – сказал Леонтий, досадливо махнув рукой.
Егор в серой домотканой свитке, туго подпоясанный ремешком, с взъерошенными волосами и побагровевшей правой щекой присел на лавку и, опустив голову, вертел шапку в руках. Бледные губы его вздрагивали.
– Брось его, Егорушка, – возясь вокруг жарко растопившейся печи, громко, возмущенно говорила раскрасневшаяся Катерина. – Што ж это за отец? Волк, а не отец. Ежели бы меня кто так-то тронул хошь пальцем, минутки одной не осталась бы. А то ишь... право... какую моду взял... чуть што, сычас поленом...
– То ты, а то ён... Не учить его нельзя, житья не будет... – сказал Леонтий.
– Ты... ён... – передразнила Катерина брата. – Это не ученье, а мученье. Лучше сразу пришибить, чем так тиранить.
На печи не унимался старец, обзывал Леонтия грязной свиньей, пьяницей и настойчиво гнал вон из избы.
Леонтий понял, что надо уйти.
– Ну, теперича собралась армия... хошь из избы беги... – сказал он обиженным голосом и, взяв шапку, вышел, сильно хлопнув дверью.
– Часто бьет-то? – спросила Катерина.
Шестнадцатилетний Егор, не по летам рослый и ширококостный, хотя и с впалой грудью, поднял на тетку свои печальные карие глаза на пригожем желтовато-бледном лице и горько усмехнулся.
– Да по-прежнему, почитай, редкой день без побой обходится. Чуть што, сычас бить... – проговорил он, также печально усмехаясь, и перевел глаза на шапку, которую гладил рукой.
– Да уйди от его, от зверя. Ты, слава Богу, большой, свой ум в голове имеешь, сам прокормишься.
– Куда от отца уйдешь? – не сразу ответил малый с той же печальной усмешкой. – Опять к ему придешь, тогда еще хуже.
– Я бы ушла, дня бы не осталась.
Егор помолчал.
– А што с ими будет? – спросил Егор, указав глазами на стариков, – они и так без призору... кабы они померли, только бы меня тут и видали... Стал бы я переносить такие муки?..
– Все равно не осталась бы. Своя-то жисть дороже.
– Да ён все с сердцов, горазд горяч, чуть што, сычас бить, а потом сойдет с его и ничего... зла в себе не держит...
В избу вошла Елена, старшая сестра Катерины, с полугодовалым ребенком на руках, прозрачная бледность личика которого сразу бросалась в глаза.
Баба только что прибежала из своего села Рудеева, отстоявшего от Черноземи в версте с небольшим. В ранней молодости она была так же хороша собой, как и ее младшая сестра, но горькая жизнь с пьяницей-мужем, многочисленные роды, потеря детей, постоянная, беспросветная нужда избороздили ее прекрасное лицо преждевременными морщинами, стерли нежный румянец со щек, испортили стройный когда-то стан и поселили в выцветших от слез голубых глазах ее выражение такого безысходного горя, что нельзя было взглянуть на них без того, чтобы не перевернулось от жалости сердце. Сейчас правый глаз ее слезился и усиленно моргал, лицо носило следы недавних слез. Сегодня вечером Фома явился домой, по обыкновению, пьяный и хотел утащить и продать самовар – последнюю драгоценную вещь в доме. Из-за этого у них произошла драка. Елена успела-таки отстоять самовар и отдать его соседям на сохранение вместе с трехлетней дочкой, а сама, схватив меньшого ребенка, побежала к родным спасаться от побоев мужа.
Катерина поставила на стол большую деревянную чашку с наложенной верхом дымящейся картошкой в кожуре и горшок с молоком, нарезала ломти черного хлеба и положила ложки и соль. У печки шипел закипавший самовар.
В избу вернулся Леонтий. Теперь, когда горячность его прошла, ему было жаль сына, но за жестокость он не винил себя и находил, что иначе поступить не мог. На примерах соседей он видел, что в тех семьях, в которых отцы слабо держали сыновей, те пьянствовали, озорничали и сами расчесывали родительские бороды.
IV
– Ну, Катюшка, сестрица моя родненькая, сказывай, когда приехала? – садясь за стол, говорил он совершенно другим, несколько заискивающим голосом и серые глаза его светились мягко и любовно, а интонациями и красотой говора немного напоминал свою мать.
– Приехала на своех на двоех. Видишь, сколько делов переделала.
– Да вижу, вижу, – ответил он. – То-ись во как тебе благодарны, а то день-деньской маешься-маешься, придешь домой, што собака голодный и ничего не прибрано, ничего не припасено. И все мы с Егоркой отдувайся. Видишь, молодуха-то наша все неможет... – кивнул он бородой в сторону матери.
– Да ты скоро в гроб меня вгонишь, – отозвалась Прасковья.
Леонтий ничего не ответил и, подойдя к печи, закричал во всю мочь:
– Батюшка, слезай! Ужина готова! Егорушка, чего стоишь? раздевайся, да садись, а ты чего пришла? – обратился он к Елене. – Садись...
– А-а-а... – промычал старец, привычным движением оперся обеими руками о край печки и неторопливо, мягко ступая лапотками по ступенькам, осторожно спустился на пол и, обдергивая опоясанную тонким пояском рубаху из толстой домотканины, которая болталась на нем, как на палке, подошел к столу.
Вся семья, кроме Прасковьи, села ужинать. Старец ни с кем не говорил и как будто даже никого не замечал и очень мало, опрятно и рассеянно ел.
Леонтий мотнул головой в сторону старца.
– Плох наш отец стал, Ка тюшка, – сказал Леонтий, – должно, скоро помрет. До нонешнего году все не давал мне ригу топить, все сам. «Глуп, говорит, ты, Левон, молод, даром много дров изведешь, а то спалишь». А нонче на сорок шестом году разрешил. «Топи, говорит, Левон, а я погляжу». Значит, близкой конец чует.
– А молотит, не отстает? – спросила Катерина.
– Какое молоченье! Ковыряется помаленьку, да мы с его настоящей-то работы и не спрашиваем.
Все молча взглянули на никого не обращавшего внимания старца с той беззастенчивой бесцеремонностью, с какой разглядывают искалеченную лошадь, обреченную на живодерню.
Леонтий вдовел шестнадцатый год. В ранней юности он – скромный, застенчивый, не знавший женщин, полюбил девушку из соседней деревни. Девять лет тянулось это чистое чувство. Отец не противился женитьбе Леонтия на Марьюшке, но девушка была больна чахоткой, и Прасковья слышать не хотела о союзе с ней сына. Когда Леонтий просил ее благословения на брак, она всегда отвечала ему одно и то же:
– Подумай, Левушка, надолго ли твое женатое житье-бытье будет? Родит тебе робенка и помрет. Што за корысть, не успевши ожениться, остаться молодым вдовцом?!
На десятом году Леонтий упал матери в ноги.
– Мама, благослови!..
Стала было старуха со своим обычным душевным красноречием приводить прежние доводы, но сын уперся.
– Не то што на год, а хошь на часок на один, а пущай моей будет Марьюшка, а ежели не благословишь, мама, нонче же на столе лежать буду!
Мать уступила. Счастье Леонтия и Марьюшки было полное, но продолжалось недолго. Никогда они ни на один день не разлучались, никогда даже косо не взглянули друг на друга. Год спустя Марьюшка родила Егора, а еще через полгода скончалась.
Мужик лет пять подряд плакал, не осушая глаз, ожесточился и роптал на Бога. За красивого, молодого вдовца, не пьющего, с достатком, каждая девка в округе не прочь была выйти замуж. Отец и мать хлопотали снова женить Леонтия, но когда упрашивали его ехать свататься, он так раздражался, как если бы ему наносили кровное оскорбление.
– Одно солнце на небе, одна любовь на сердце, – говаривал он. – Закатилось мое солнышко, видно, так Бог судил, а другое меня не обогреет.
Он горячо привязался к своему ребенку, сам был для него и матерью, и нянькой, и во время его болезней сиделкой и потом признавался, что не будь у него Егора, он не вынес бы потери жены и наложил бы на себя руки. Бабы для него не существовали, и чистотою жизни он для всех односельцев являлся недосягаемым примером. Когда мальчик стал подрастать, Леонтий, прежде не знавший вкуса вина, начал понемногу пить; к ребенку стал относиться все суровее и строже и за малейшую провинность или оплошность бил жестоко.
За ужином Леонтий приступил к тому делу, которое занимало его с того самого дня, когда он узнал о несчастии с покойным зятем. Ему хотелось перетянуть к себе на житье сестру, потому что без бабы в доме жить было невмоготу. Пока мать была здорова, хозяйство шло не шатко, не валко, теперь же все валилось из рук, потому что ему вдвоем с Егором приходилось выполнять и мужицкую и бабью работы; упущения были на каждом шагу; порядок никак не налаживался и жилось всем очень тяжко.
– Што ж твоя ласковая свекровушка и лошадку пожалела? В такую даль да по распутице отпустила тебя брюхатую? Дойдешь, мол, доченька, пешо м! – Последнюю фразу Леонтий сказал так, как должна бы сказать Акулина. Передразнивание вышло настолько удачным, что все за столом, кроме глухого старца, рассмеялись.
– Мамынька меня до утрия оставляла. По утрию Афоня свез бы, да я не осталась.
– Знаю твою свекровушку, знаю. «Мягко стелет, да жестко спать». Тебя-то она может улестить словами, туману-то умеет напустить, да меня-то не проведет. Всю подоплеку ейную знаю. Теперь она круг тебя похаживает, штобы ты без разгиба на ее работала, да на робят ейных, а как поставишь их на ноги, так тот же Афонька взашей тебя выпрет из избы. Дай только ему жениться. А пузо у тебя вон выше носа вздулось; того и гляди, не нонче-завтра рассыпешься... А куда пойдешь с ребенком на руках? В лес на мороз?
– Тебе прямое дело, Ка тюшка, жить с братом да с отцом с матерью. Свои родные-то не обидят, – сказала Елена.
– Вот, вот... – подтвердил Леонтий.
– Да право, – горячее продолжала Елена, очень довольная, что попала в тон. – Ты у нас в семье самая меньшая и самая любимая. Кто тут тебя обидит?! а там у свекрови-то все-таки в чужой семье. Как бы хорошо в гостях ни было, а дома все лучше...
– Ведь я знаю, подо что она подбирается, твоя свекровка-то, – продолжал Леонтий, покончив с картошкой и принимаясь за молоко. – Ей смерть как хочется получить твою корову и овцу. Я кривить душою не умею, сохрани Господь. Никто про Леонтия Петрова не скажет, что ён покривил душой, и чужим не покорыствуюсь, хошь насыпь мне горы золотые. Наш отец вон другой век живет, а спроси в округе: кто справедливее нашего отца? Никого нет. Ён жил по справедливости и нам так жить приказывал. И раз корова и овца тво , значит, оне тво , и дело свято. И ежели бы твоему Ивану Тимофеичу Бог веку продлил, што ж, бери и корову, и овцу, но штобы отдать твоей свекровке – нету на то моего согласия, потому она повыжмет из тебя соки, заберет твое добро, а потом тебя же выгонит.
– Не знаю я, Лева, ничего не знаю, – говорила Катерина, – а только обижать мамыньку совести не хватает, да еще при таком горе... и никогда я от ее ни худого слова не слыхала, ни косого глазу не видала. Дай Бог всякому такую свекровушку.
– А мой совет тебе братский, как брат советаю: продай от греха и овцу и корову, полсотни завсегда выручишь, кому и не надо дадут. Коровка ладная, молочная, пятым телком только. А деньги положи на робенка в сундук, а то снеси в банок, про центы будешь получать, а сама иди ко мне жить. Я што ли тебя обижу? Небось помнишь, как в девках жила, кто был хозяин? Кто распоряжался? Ты. Ты, бывало, картохи нажаришь, а я без спросу-то и взять не посмею. Рази не верно?
Катерина улыбнулась.
– Ну и теперича также будет: из твоех рук буду глядеть, а не ты из моех.
Встав из-за стола, сытый Леонтий со слипавшимися от усталости глазами обернулся к Елене.
– Ты зачем пришла?
– Маму спроведать.
– Маму спроведать?! – передразнил он. – Намедни твой пьяница тут у Егора Семенова короводился. Пущай на глаза не показывается, дьявол, бока поленом изломаю. Думаешь, не знаю, зачем прибегла? У Левона мучицы да картошки попросить, дети сидят голодные, – опять передразнил сестру Леонтий. – У Левона-то казенные магазеи, што все к ему за способием лезут. Они понародят детей, да без просыпу будут пьянствовать, а Левон всех корми. Рази я обвязан?
Елена молчала. Леонтий угадал, что сестра опять счетом, может быть, в сотый раз хотела просить у брата муки, потому что в доме не было ни куска хлеба. Вот уже лет шесть, как муж окончательно спился. Елена потеряла шестерых старших детей. Все умерли в возрасте от одного месяца до четырех лет, умерли от недоедания и отсутствия ухода и призора, потому что Елена, как ни надрывалась в работе по чужим полям, ей своим трудом невозможно было прокормить малюток. Теперь она с отчаянием в сердце отстаивала жизнь двух своих последних крошек, и едва ли ей с детьми удалось бы избежать голодной смерти, если бы не постоянная помощь брата и матери. Сегодня она ни словом не обмолвилась о драке с мужем, дабы лишний раз не раздражить Леонтия. Она знала, что брат, как всегда, изругает и ее, и пьяницу-мужа, но, как и всегда, не отпустит с пустыми руками.
Сейчас сытый, довольный и усталый Леонтий меньше попрекал и бранился, чем в прежние разы.
– Егорушка, поди, жаланный, в анбар, – сказал он, – да насыпь тетке муки на хлебы, да четверку картохи, да гляди у меня, больше не давай, а то скоро у самых у нас портки с... свалятся.
V
Накануне дня Рождества Богородицы Леонтий, заложив местному кулаку за пять рублей два мешка муки, повез в город на продажу воз соломы, а там рассчитывал купить новую шлею, полведра водки, белой муки и еще кой-чего по мелочи, потому что завтра на деревне у них был свой праздник и ожидались гости.
Утро после свежей ночи было великолепное. Солнце сверкало на безоблачном бледно-синем небе, но не пекло, как летом; чистый воздух был насыщен опьяняющей и бодрящей свежестью. Над ближними и дальними хвойными перелесками, стоявшими плотной, грузной, темной массой, и над пожелтевшими обредившимися, ставшими сквозными, лиственными рощами чуть-чуть синела прозрачная дымка. Она то сгущалась, то расходилась легкими, длинными полосами, как лениво колеблющееся гигантское газовое покрывало. Было тихо, только особенно звонко каркали взлетавшие с полей вороны, слышался степенный людской говор да гулко отдавался стук колес и топот копыт по земле. По той дороге, по которой ехал теперь Леонтий, тянулось к городу множество телег с сеном, соломой, дровами, корзинами, мукой и другими деревенскими продуктами и изделиями. Телеги сопровождались мужиками, редко бабами.
Еще не было 9-ти часов, когда Леонтий по мосту въехал в город и в беспорядочном таборе других подвод приблизился к собору, расположенному на высоком холме. К тому времени уже вся базарная площадь наверху за собором и все прилегающие улицы были сплошь запружены телегами, возами, лошадьми, разными товарами. Везде толкались мужики и покупатели – горожане и горожанки. По случаю базарного дня казенные и частные разного наименования кабаки были закрыты до часа дня. Мужики еще не распродали свои продукты, напиться было негде, и потому в этой базарной сумятице на всем лежала еще печать чинной, тревожной деловитости. В воздухе стоял сдержанный гул и гудение, точно над головами толпы кружились несметные рои озабоченных трудолюбивых пчел.
Леонтий через долгий промежуток времени после многих остановок и перебранок едва протискался со своим возом на обширный сенной базар, находившийся внизу, за собором, где по берегу реки тянулись длинные хлебные лабазы, а посреди незастроенной площади стоял деревянный сарай с городскими весами.
Там он прождал до полдня, пока наконец продал солому, свез ее на двор к покупателю и, вернувшись на прежнее место, попросил соседа Акима, еще не продавшего свое сено, приглядеть за лошадью и телегой, а сам пошел на верхний базар в каменные ряды купить шлею. Но только что Леонтий отошел от телеги, как услышал сзади голос соседа.
– Сват, ты не все сотки-то один пей и мне принеси! – шутливо крикнул тот.
Леонтий как раз в эту минуту думал, что по дороге в обжорном ряду ему надо маленько перекусить, потому что с самого утра он ничего не ел и его соблазняла мысль выпить одну сотку, хотя, выезжая из дома, он дал зарок ввиду завтрашней праздничной попойки сегодня не притрагиваться к вину.
Оттого что сосед поймал его на преступной мысли, Леонтию стало неприятно, шуток же он вообще не любил и тут же решил, что, во что бы то ни стало, выполнит зарок. Он полуобернулся к соседу со своим всегдашним, только еще более суровым видом и отрицательно махнул рукой.
– Не такие дела, штобы пить... и хлеба-то не поешь вволю, а не то, штобы пить. И вишь, казенки закрыты.
Сосед лукаво прищурился и кивнул своей более светлой, чем лицо, мелкокудрявой бородой.
– На хлеб не найдется, а на это дело завсегда найдется, а казенки скоро откроют.
Леонтий не оглянулся и ничего не ответил.
– Вам бы все только пить – одно на уме... – недовольно пробурчал он.
В обжорном ряду под навесом у прилавка жирной, бойкой торговки, подпоясанной грязным, засаленным передником, Леонтий съел порцию горячей печенки с ломтем ситного хлеба и хотя был очень голоден, но просаленная печенка показалась ему суховатой, и он соображал, что с вином эта же печенка имела бы совсем другой «скус». Как раз против прилавка на противоположной стороне улицы широко распахнулись обе половинки стеклянных дверей казенки, и в нее гурьбой повалили дожидавшиеся тут мужики.
– Значит, уже час время, – прошептал Леонтий, отворачивая глаза от кабака. – Когда теперь домой попадешь?
Но выговорил он это машинально, уже чувствуя и в мыслях и в сердце знакомую неуверенность и тревогу. Он хотел не оборачиваться к кабаку, а глаза сами собой косили в ту сторону, и хотя Леонтий старался глядеть на небо и поверх труб, но как-то невольно заметил, что из казенки выходили люди с маленькими и побольше посудинками в руках, тут же у порога их раскупоривали и, запрокинув головы, выпивали булькающую водку. У Леонтия набрался полон рот слюны, и, желая отвлечься от соблазна, он, доедая печенку и ситный, еще раз, вероятно, в десятый погрузился в арифметические вычисления.
«Рассчитывал, что отдам солому по 12 копеек, и за то сказал бы спасибо, а дали по 14-ти – значит, на пуд взял по две копейки лишку. За двадцать пудов по копейке – двугривенный, да по другой копейке – еще двугривенный. Вот тебе сорок. Да за 4 пуда по две – восемь. Сорок да восемь – сорок восемь. Почти полтину даром нажил. И солома была неважная солома – не овинная».
Тут Леонтий присчитал еще 12 копеек, оставшиеся у него в кармане, потому что за взвешивание соломы заплатил покупатель, тогда как, по обычаю, платит всегда продавец.
«Глупый барин попался, совсем дурашный... и не торговался, а насчет соломы и насчет порядков ничего не понимает. Спроси 15 копеек и 15 бы дал. Ну, да Бог с им! Не мое к ему перешло, а евоное ко мне. У его-то денег больше... Им деньги-то дарма достаются, не то, што нашему брату-мужику».
Как большинство пожилых мужиков, опытом целой трудовой жизни познавших, как тяжело дается крестьянину всякий грош, Леонтий до крайности скупился пропивать собственные деньги. «Сотка-то двенадцать с грошом, а вычесть стекло, так всего 9 копеек. А я лишку взял целых сорок восемь, да еще за весы на сотку осталось». И как только Леонтий кончил свои вычисления, ноги сами собой понесли его к кабаку. «Так-то день и ночь ломаешь-ломаешь спину, да и одной не выпить? – со злобой на кого-то рассуждал он, переходя улицу, – тогда лучше ложись да и околевай. Чего ж тут?»
Леонтий вынес из кабака сотку и пока с ожесточенным видом опоражнивал ее на улице, к нему подошел знакомый мужик из деревни Лудилова, не соседней, но и не дальней от Черноземи.
– Леонтий Петрович, а я тебя, признаться, искал. Думаю, не попадешься ли на счастье? Лошадку тут присмотрел, купить хочу, да боюсь сам-то. Ты по этой части дошлый, погляди, сделай милость. Угощение уже мое, это как след. Сделай милость, – слащавым голосом упрашивал лудиловский мужик.
Леонтий славился знатоком лошадей, и в округе редкая сделка по лошадиной части обходилась без его посредства. Барышничество он любил, как артист, и за свое участие в купле-продаже не брал ни гроша, потому что не считал его делом, зато любил, чтобы угощали. Сейчас он не без важности согласился посмотреть лошадку, помышляя о даровой выпивке, на которую он не давал зарока. По его мнению, выпивка тем только не хороша, что вредила карману; если же она производилась за чужой счет, то он пил охотно и безотказно и счел бы себя дураком, если бы не использовал представившегося случая угоститься на даровщинку.
Мужики тотчас же отправились вниз за собор, на ту улицу, по которой давеча въезжал на базар Леонтий. Лошадка оказалась молодая, шустренькая, не задерганная, только немножко вислозадая.
Леонтий, с серьезным видом знатока, молча осмотрел ее со всех сторон, особенно долго щупая и разглядывая зубы.
– Што ж, смотрите, – говорил худощавый, с редкой темно-русой бородой, с бегающими плутоватыми глазами хозяин-мужик, видимо, прирожденный барышник, – я за свою лошадку чем хошь отвечаю. Больно добра лошадка, пятилеток, не зацмыканная, своего приплоду... охотницкая... Я сам до лошадок-то охотник... хошь сычас гнилу возить, полсотни пудов смело клади... одним духом в гору возьмет... много останетесь довольны.
Леонтий видел, что лошадь добрая, но сейчас же расхаял зад, зато нашел «отдушины» на груди, исследовал рукой весь крестец и нарочно заявил, что спина слабовата. Долго водил пальцами по всем ногам от колен до щеток, но живлаков не оказалось; щетки, венчики, копыта – все было в порядке, без засечек, без мокрецов, без трещин. Он заставил хозяина бегать с лошадкой и делать крутые повороты. Лошадка оказалась поворотливой, дышала легко, ход имела широкий, бойкий. Он моргнул лудиловскому мужику: «Не упущай, мол».
– Да што ж тут... хошь не глядите... с зажмуренными глазами бери... Вот какая лошадка! – говорил продавец. – Кабы дело к весне, нипочем бы с ей не расстался, а то при нонешних кормах четырех лошадок держать в зиму не того... обожрут...
Начался торг. Мужики бесконечное число раз лупили друг друга по ладоням, кричали так, что казалось, вот-вот раздерутся, раз десять расходились и сходились, наконец, купили лошадку за 40 рублей, выторговав у владельца пятерку. Лудиловский мужик поставил бутылку водки. Втроем они ее распили и съели много печенки и колбасы.
Леонтий, чем больше выпивал водки, тем больше приходил в восхищение от покупки. Продавец тоже раскошелился на бутылку. Однако Леонтий спешил, ему надо было купить шлею, белой муки, чаю, сахару, селедок и водки для праздника и уже сытый и слегка хмельной, не без сожаления распрощавшись с собутыльниками, отправился наверх, в каменные ряды.
Базарная жизнь к этому времени изменила свой темп. Многие из непьющих, распродав свои товары, уезжали из города, для других же только теперь, когда многочисленные ренсковые погреба, пивные и казенки были открыты, наступила желанная пора. На базаре толпились сплошь одни мужики и бабы и редко где среди домотканых серых свиток, синих чуек, коротких теплушек промелькнет шляпка купчихи, форменная фуражка чиновника или шляпа торговца из евреев. И гул в воздухе стоял другой, не прежний деловой и тревожный, а буйный, злобный. Уже не в редкость было встретить раскрасневшиеся лица с осовелыми и освирепевшими глазами. Сквернословие безудержно и непрерывно перекатывалось в воздухе.
В самом низу, ближе к выезду, где проходил Леонтий, стояли пригнанные на продажу лошади. Тут с тонкими кнутиками за поясом, заткнув руки в рукава своих чуек и приподняв худощавые плечи, со скучающим видом толкались человек пять кудрявых, черномазых цыган, перекидывавшихся отрывистыми фразами на своем непонятном языке. Выше по косогору, прижавшись со своим хрупким товаром к самой соборной ограде, торговцы и торговки стояли у разложенных прямо на земле расписных горшков и макитр. Около них ходили бабы, приглядываясь и прицениваясь к товару.
На самом верху, на площади под парусинными навесами продавались целые вязанки всевозможного готового платья, а также фуражки, шапки, сапоги; сбоку под открытым небом лежали белевшие свежей древесиной и щепой кадки, лопаты, корзины, коромысла, ведра, сита и т.п.
В одном месте хлопали по рукам; рядом два мужика с яростными, пьяными лицами переругивались, готовые схватиться в рукопашную, а у самых каменных рядов началась уже целая свалка: человек восемь мужиков тузили друг друга; лица были у всех в крови, волосы и бороды летели клочьями, кулаки хлестко щелками по скулам и зубам. Вокруг собралась гогочущая толпа. Сюда, не спеша, протискивались городовые. «Господи-батюшка, до чего вино-то доводит! готовы съесть друг дружку, што собаки!» – с отвращением подумал, проходя мимо, Леонтий.
А не более, как в двадцати шагах от побоища глазам Леонтия представилась мирная идиллия: здоровенный, молодой мещанин с бритым, белым, оплывшим жиром лицом, в черном, длинном, расстегнутом пальто, запрокинув назад голову и полузакрыв свиные, с белыми ресницами, глазки, равномерными глотками, не спеша, тянул из бутылки водку и выпяченный кадык его, величиною с доброе куриное яйцо, в такт каждого глотка то поднимался, то опускался. Обступившие его человек пять мужиков, запродавшие ему свой овес, видимо, из дальних деревень, потому что все были в серых, чистых свитках, все подпоясанные, скромные, в сосредоточенном молчании замерли в выжидающей позе. В замаслившихся глазах каждого члена этой компании Леонтий прочел знакомое ему терпеливое, напряженное ожидание того блаженства, которое теперь испытывал покупщик их овса. «Чинно, благородно... как надоть... хорошо...», – одобрил Леонтий, – «а то што? Иные-прочие нажрутся и готовы друг дружке горло перегрызть»... И он с отвращением сплюнул, вспомнив только что оставленных позади дравшихся мужиков.
VI
Для Демина не побывать в городе в базарный день, не потолкаться по всем переполненным народом площадям и улицам было немыслимо. Его тянуло на базар, как записного игрока в урочный час тянет в клуб к партнерам за зеленый стол. Сегодня Демину подвезло: утром он наведался в лавку к Морозову, которому иногда делал мелкие услуги. И на этот раз старик-купец, занятый с покупателями, поручил ему приторговать возов шесть сена.
Демин вдоль и поперек избегал весь базар и привез на двор к купцу требуемое количество возов превосходного сена и по сходной цене. Купец угостил Ивана тремя рюмками водки, дал полтинник, а так как у него в доме не оказалось больше водки, то старику пришла в голову игривая мысль подшутить над Деминым, и для этого он вручил ему неполную сотку чистейшего спирта.
– Ты такого вина еще никогда не плобовал, Иван, – сказал, усмехаясь, шепелявый старик.
Демин, исколесивший пол-России, чрезвычайно гордился своей опытностью в разного рода делах, а особенно по части выпивки.
– Вот еще кака невидаль! Мы всякое вино пивали... и коньяк, и тримадиру, и партвинчик... – самоуверенно ответил Демин, рассчитывая своей «образованностью огорошить купца. Он сунул бутылочку в карман, купил на базаре колбасы, связку баранок и еще одну сотку в казенке, выбрал наименее людное место на одном углу около каменных рядов и, остановившись там, собрался попировать так, как он особенно любил, то есть в одиночку.
– Посмотрим, какое-такое вино дал Степан Микифорович, – проговорил он вслух и, вынув из кармана бутылочку, стал рассматривать ее на свет.
Он знал, что купец любил подшутить, и опасался, что тот вместо вина налил простой воды, а одураченным Демин не любил бывать. Но его опытный глаз с первого же взгляда определил, что чистая, прозрачная, как утренняя роса, чуть синеватая, почти бесцветная влага не могла быть простой водой. Он вынул пробочку и понюхал. Запах был довольно чувствительный.
– Вот чудо-то! – промолвил он и, все еще не вполне доверяя, что это вино, приложил маленькое горлышко посудинки к губам и тихонько потянул... Влага еще не коснулась губ, как уже приятно защекотала у него в горле. «Важно забирает!" – подумал Демин и, уже убежденный, что это не вода, глотнул... Ему сразу обожгло рот, перехватило дух и живым огневым комочком прокатилось в желудок. Демин повел головой вправо и влево, усиленно втягивая ноздрями воздух и ничего не видя заслезившимися глазами.
– Ну што, Иван, каково мое винцо? Действует? – услышал Демин голос купца, вылезшего из находившейся в том же ряду своей лавки, чтобы полюбоваться действием своей выдумки.
Демин обтер кулаком слезы с глаз.
– То-ись... сам Христос босиком по душе прошел... – в полном сердечном услаждении промолвил он.
Старик откинул назад свою седую голову и сипло захохотал. Его жирное, блинообразное лицо с крашеными подстриженными усами и бородой стало сизо-багровым; бесцветные глаза скрылись в щелочках и в бесчисленных бугорках и морщинках; рот с полусъеденными зубами раскрылся во всю свою ширину. Тряслись его обвислые, толстые плечи, колыхался объемистый, дряблый живот, прыгал белый передник, которым был опоясан старик, подергивалось все тело и руки, закинутые за спину...
Хохотали тем же беззастенчивым смехом и его краснорожие молодцы, предупрежденные хозяином об его шутке и теперь выглядывавшие из дверей лавки...
– Ах, чол’т те дел’и...вот выдумал... вот сказал слово... Да ну тя к лес’аму...
И старик, махнув рукой и продолжая трястись от смеха, грузно зашагал к себе в лавку.
Демин пропустил еще один глоток. Стало еще приятнее. Он огляделся вокруг себя. Как в волшебной сказке, все переменилось перед ним, все стало иным.
Дома, лавки, пожарная каланча, лошади, снующий народ, хохочущие рожи купца и его молодцов расплывались перед ним, обращались во что-то незначительное, в какую-то крутящуюся перед носом мошкару, зато сам он – Иван Демин по мере того, как все окружающее мельчало и принижалось, ширился и рос и стал настолько значительным, что ему плевать на всех и на все...
Передохнув немного, Демин закрыл глаза и, как медведь, дорвавшийся до меда, прильнул губами к чудодейственной посудинке, по опыту зная, что третий глоток, как и третья рюмка, самый вкусный, самый приятный. Он уже глотнул, как кто-то крепко хлопнул его по руке, прервав пиршество в самый торжественный и увлекательный момент... и одновременно над ухом его прозвучал знакомый, веселый голос:
– Ванюха, черт, чего один дуешь! Угости.
От толчка горлышко бутылочки больно стукнуло Демина по зубам, и хотя он поспешно отнес в сторону руку с зажатой посудинкой, но несколько капель драгоценной влаги все-таки пролилось на подбородок! Демин поспешно облизнулся. Оттого, что так неожиданно и бесцеремонно помешали его пиршеству, оттого, что ушибли зуб, а главное оттого, что пролили часть влаги, Демин освирепел, как никогда за всю свою жизнь. Он широко раскрыл загоревшиеся бешенством глаза и увидел перед собой ухмыляющееся лицо Лешки Лобова с щегольски зачесанными на висках кудрями.
Побелевшие, как перламутр, глаза Демина запрыгали.
– Поди к чертовой матери, убивец, сволочь, вор! – заорал он во всю мочь, топая уродливыми ногами и держа на отлете в левой руке посудинку, правой, сжатой в кулак, размахивал, силясь ударить парня по лицу.
Побледневший, растерявшийся Лобов пятился и уклонялся от ударов.
– С ума сошел... Иван... – пролепетал тот побелевшими губами. – Да чего ты, черт, сшалел?
– Я с ума сошел? – взвизгнул Демин. – Я при всех своех... Вы, должно, с ума сошли, как убивали Ивана Тимофеева... убивцы! Я должон угощать, я? А как убивали Ванюху, так присягали поить-кормить, одевать-обувать... а? Не подходи, раскровяню, убью...
Вокруг них уже собиралась толпа.
– Болтаешь зря... пьян напился... – упавшим голосом выговорил Лобов и мгновенно юркнул за угол.
Но разгоряченный Демин не заметил исчезновения парня и продолжал кричать:
– Кто, я пьян? Я на свои пью. Под дорогами людей не убиваю да чужие карманы не выворачиваю. Ты супротив меня слова не смеешь сказать. Я те рот заткну... На слободе гуляешь, сволочь, в спинжаке по базару прохаживаешься... а по тебе арестантские роты давно стосковавши... а арестантский халат с бубновым тузом на спину не хочешь? Не ндравится? Убивцы!.. землю на голову заставляли сыпать... землю ел... арестанцы!
В толпу любителей скандалов случайно попал проходивший тут Мирон – односелец и кум Леонтия, с которым он только что виделся в рядах. Услыхав обличения Демина, Мирон тотчас же мотнулся искать своего кума, но не успел сделать и полсотни шагов, как его окликнул Леонтий, выходивший из шорной лавки с новой шлеей в руках.
– Убивцев пымали, кум... вот сычас пымали, – выпалил одним духом, размахивая руками, страшно взволнованный Мирон и, вылупив глаза и схватив Леонтия за рукав, потащил за собою.
– Спаси Господи, каких убивцев? – переспросил недоумевавший Леонтий, которому передалось волнение кума.
– Да ваших убивцев... што забили Ивана Тимофеева-то... зятя-то твоего...
– Спаси Господи, да где же убивцы?
– Эн... эн... эн там... – указывал Мирон на ближний угол каменных рядов.
Демина они нашли на прежнем месте с пустой соткой в руках.
Он успел уже покончить с остатками спирта и еле держался на ногах.
Около него хохотали два молодца из лавки Морозова.
В дверях лавки появилась грузная, с суровым лицом фигура хозяина.
– Ступай к делу! Чего л’азл’ыготались?! – прикрикнул он.
Молодцы со всех ног бросились в лавку.
Хозяин постоял и, пробормотав с полуусмешкой: «Ишь как его, дьявола, л’аскачало!" – со своим всегдашним серьезным, деловым видом вернулся за прилавок.
– Паштенный, – обратился к Демину Леонтий, стараясь говорить сообразно с важностью дела возможно более возвышенным слогом. – Вы здеся убивцев изловили... значит, убивцев Ивана Тимофеева... нашего зятя. Ён, покойный, доводился нам, значится, зятем... наша сестра была за им... Катерина Петровна...
Демин, распустив слюнявые губы и склонив на бок голову на кривой шее, озирался осовелыми, бессмысленными глазами и шарил рукой, ища для себя опоры.
– Убивцы! че-овека заби... землю на го-ову... а? – И Демин свалился на землю.
– Вот, вот... значится, при мне говорил... я запишусь в свидетели... Я што слыхал, все расскажу... как перед Богом. Зачем мне врать? Ён тута стоял, убивец-то, а я вот здеся, а здеся вот ён... как его... не знаю, как зовут-то.
– Вставайте, паштенный, к становому, – говорил Леонтий Демину, делая руками округлые, вежливые движения, – для составления полицейского протоколу... значит, штобы по всей форме, как по закону следовает...
– Убивцы! слово ска-ать... за ... арестуют... – бормотал, окончательно распростершись на земле, Демин.
Леонтий тут только догадался, что с пьяным обличителем вежливые разговоры бесполезны.
– Чего? бери его, кум, за одну руку, а я за другую и сами предоставим к становому.
Кумовья подхватили Демина под руки и потащили к квартире станового, находившейся неподалеку за собором. Демин уже не в силах был переступать и волочился ногами по земле.
Оказалось, что становой отлучился в уезд. Мужики, ругнув начальство за то, что оно отлучается не вовремя из дома, решили ехать к следователю.
Леонтий, оставив кума сторожить заснувшего на узком тротуаре Демина, побежал за лошадьми. Через четверть часа они втроем на двух телегах переезжали по железному гулкому мосту через реку.
VII
Следователь жил в предместье, нанимая небольшой особняк у местного нотариуса. Путь к нему лежал мимо казенки, а так как Леонтию и Мирону к завтрашнему дню надо было закупить водки, то они на некоторое время остановились у кабака. Про зарок Леонтий уже забыл, и они с кумом Мироном на радостях, что открыли убийц, изрядно выпили.
Демин лежал в телеге Мирона в полном бесчувствии и, как ни расталкивали его спутники, не просыпался.
Тут же, у казенки, кумовья встретили пьяного Рыжова с соленым сазаном под мышкой.
Так как он был первый обличитель убийц Ивана, то мужики прихватили и его с собой.
На подъезде квартиры следователя мужики кричали, стучали и топали ногами.
Вышедшая на крик прислуга заявила им, что в пьяном виде к барину являться нельзя. Мужики обругали ее и продолжали стучать в дверь.
Пришлось самому следователю выйти на крыльцо и выгнать их, причем в сердцах молодой юрист обозвал их пьяницами и пригрозил препроводить в полицию.
Мужики чрезвычайно оскорбились, особенно Леонтий. Пьяными они себя никак не признавали.
– Кто, мы пьяны? – возражал Леонтий, когда за следователем еще не успела захлопнуться дверь. – Ты, должно, сам со вчерашнего не проспался, а мы не пьяны, мы, может, еще хлеба не ели... а ты: пьяны... Мы вот убивцев поймали, а ты выгоняешь... Нешто это порядок? а?
Мужики сели в телеги и так как считали себя несправедливо обиженными, то, чтобы утешиться, поворотили лошадей опять к казенке.
– Врешь, ваше благородие, – кричал по адресу следователя, едучи по улице, Леонтий. – Мы знаем, как ты убивцев покрываешь. Мы тебе по пятьдесят рублев из-под полы в руку не суем да лукошками яйца да масло не таскаем... Палагея-то шапталовская надорвавши, корзины да лукошки на кухню тебе таскавши... Оттого ты убивцев и оправдываешь, а мы по правде живем.
– Мы мужики-серяки, оттого нас нигде и не принимают... – сказал Мирон. – Мужика везде забижают, везде мужику последнее место. Рази это правильно, кум?
– Известно, кабы господа приехали, так не такой разговор бы был... а то нас мужиков хуже, чем за собак считают... Вон за господскую собачку нашего брата-мужика в острог засуживают, а тут человека убили... и свидетелев не принимают. Рази это порядок, кум? а?
Широкая улица предместья теперь сплошь была запружена порожними телегами, и подъезжали все новые и новые, скучиваясь около кабака.
Большой казенный паразит и присосавшиеся к нему маленькие работали на славу.
Неуклюжие, серые фигуры копошились у порога казенки и около торговок.
В сотни глоток из стклянок переливалась заветная влага, отравляя и одуряя мужицкие головы; сотни челюстей пережевывали сухие баранки, ржавые селедки, соленые огурцы, вонючую колбасу и тому подобную дрянь.
Бородатые, обветренные лица краснели, как каленый кирпич, глаза сверкали буйным блеском; шапки сами собой лезли с хмурых лбов на затылки. Эта пьющая и насыщающаяся людская толпа походила на дикое кабанье стадо, пока еще мирное, чавкающее и хрюкающее, но уже внушающее само по себе тревогу и готовое по малейшему поводу вскинуться и натворить бед.
День клонился к вечеру. От кабака многие, запасшись бутылками с водкой, волной отхлынули на своих подводах. Они по своему обыкновению – с пьяным ораньем и сквернословием немилосердно нахлестывали своих клячонок, и те неслись вскачь, опережая друг друга и громыхая колесами по сухой земле, так что над узкой лентой дороги поднялось облако пыли, которое все густело и удлинялось. По дороге образовался извилистый, длинный обоз, голова которого достигала уже Хлябинской горы тогда, как хвост еще терялся в предместье. Леонтий, Мирон и Рыжов с бесчувственным Деминым тоже ехали в этом обозе.
Теперь небо не было таким чистым, как утром. По бледной синеве его бродили дымчатые облака с белоснежными краями, освещенными солнечными лучами. В теплом воздухе лениво носились бесчисленные нити паутины, прилипавшие к лицу, к рукам, к одежде, цеплявшиеся за ветви деревьев; ею же, как частой тонкой сверкающей сеткой, были затканы позлащенные вечерним солнцем жнивья и засохшие стебли травы на лугах.
Мимо этого орущего обоза, объезжая на своей синей кариолке отдельные телеги, проезжал толстый, седобородый старик с золотыми очками на маленьком, курносом носе. Это был бухгалтер городского общественного банка, возвращавшийся из города в свою усадебку, расположенную в версте за Хлябиным. Как только мужики завидели старика, с их телег тотчас же понеслись по его адресу оскорбительные замечания и непечатная брань.
Брань эта, сперва неуверенная, чем дальше, становилась все громче, злобнее, наконец обратилась в исступленный рев и улюлюкание. Казалось, весь этот обоз в несколько десятков телег выехал на травлю хищного зверя, уж больно насолившего охотникам своими опустошительными набегами и теперь, окружив беззащитного зверя, в торжествующих криках и ругательствах отводили охотники над ним свою душу.
Удивленный, помертвевший от страха старик под градом все возраставших ругательств и угроз доехал до Хлябинской горы. Тут человек пять мужиков разогнали своих лошадей и скакали рядом с «барской» кариолкой, сбив ее с неширокой, пролегающей у края обрыва дороги и ни за что не давая обогнать себя.
– Эх, озорники, не дают проезду! – проворчал пожилой работник бухгалтера, задерживая лошадь, чтобы дать проскакать ближним телегам.
Один из скакавших мужиков хлестнул лошадь бухгалтера кнутом по глазам.
Испуганное животное захрапело и, высоко вздернув голову, попятилось назад. Кариолка накренилась. Старик и его работник ткнулись всем телом вперед и едва усидели.
– А што, а... не давай дороги господам... Так, Семен, наддай, наддай! – слышались возгласы вперемежку с ругательствами и смехом.
– Ребята, да вы с ума сошли! – крикнул бухгалтер.
– Бить всех господ надоть... всех бить... насосались нашей крови!.. – исступленно загорланил какой-то рыжий парень, высунув голову из телеги, в которой он лежал врастяжку, а двое его товарищей сидели и, нахлестывая скачущую лошадку, гикали.
– Бери его, робя! Чего на его смотреть! – подхватили голоса из другой телеги. – Перевертывай с легчатки... под круч его... Дави толстое брюхо... Вишь разъелся... – и в воздухе опять понеслась озлобленная, перекатная матерная брань.
Работник справился с доброй лошадью, повернул ее вправо, проскочил между разорвавшимися телегами и поскакал к Хлябину другой стороной дороги.
Несколько парней, соскочив с телег, бросились наперерез старику с криками: «Лови, лови, бей!
Один парень в синей полупальтушке догнал кариолку, изо всей силы хватил старика кулаком по шее, но тут же и сам растянулся на дороге во весь свой длинный рост. Старик ткнулся головой под хвост лошади и едва успел уцепиться за передок своего экипажа. Шляпа с него соскочила; лошадь понесла...
– Как ён его саднул! Ловко! Хорошо! Так и надыть! Чего на их глядеть!? – слышались одобрительные возгласы и хохот в пьяной ораве. Длинный парень, схватив с земли шляпу старика, как добытым в битве трофеем, некоторое время торжествующе размахивал ею над головой, что-то исступленно крича, а потом, разорвав ее, бросил на землю и растоптал ногами.
– Разбой, прямо разбой середь бела дня. В незамиренной стороне живем... – говорил перепуганный и возмущенный работник, когда разгоряченная лошадь, промчав его с хозяином через деревню и мост, пошла в гору к усадебке старика неровной, сбивающейся рысью, беспокойно поводя ушами и кося глазами по сторонам, каждую минуту готовая снова вскинуться и снова понести.
– По розге-матушке соскучились. Она бы живо на место предоставила! А то ишь што вздумали. И за што? Чем помешали? Да виданное ли дело?! Никому ни проходу, ни проезду... што турки развоевались... Хошь не живи! Какая это жисть?! И чего начальство смотрит?
Вид хозяина с непокрытой головой, с развевающимися от быстрой езды длинными, белыми волосами и бородой возбуждал в его сердце жалость и еще большее озлобление против озорников.
Не совсем еще оправившийся от перепуга старик не проронил ни слова. Его поражало и совершенно сбило с толка мужицкое буйство и тем более буйство, учиненное над ним, Степаном Маркелычем, которого все крестьяне в окрэге не могут не знать, ибо здесь он родился, здесь и состарился, никакой земли, кроме трех десятин усадьбы, не имеет и никогда больше не имел, всегда во всю свою жизнь никогда не ссорился с крестьянами и, наоборот, по мере возможности приходил к ним на помощь.
Отец его был чистокровный крестьянин-сибиряк, внушивший сыну любовь к мужику, к его тяжкой доле и передавший непримиримую ненависть к патентованным «угнетателям» его, т.е. к правительству и дворянству. Но Степан Маркелыч заметил, что с провозглашением свобод мужик показал такую дикую злобу и нетерпимость ко всем, кто не его масти, кто выше его поставлен по своему материальному и общественному положению, что жить в не защищенной никем деревне стало невыносимо.
«Что ж, – думал Степан Маркелыч, – давили, угнетали, глушили все человеческое, держали в беспросветной тьме... Теперь народ одичал и мстит всем господам. Где ж ему разобраться, кто его друг, кто враг? Винить его за это нельзя. А вот «они» -то, властители и попечители наши, что думали, чего смотрели? Вот и дождались, что даже людям ни в чем неповинным жить стало невмоготу...
И старик, позабыв о мужиках, ругал в душе правительство.
VIII
В телеге у Мирона спал Демин и дремал со своим сазаном под мышкой Рыжов. Мирон, сегодня особенно воспылавший любовью к своему куму, еще в предместье передал вожжи Рыжову, а сам пересел в телегу к Леонтию, чтобы вылить перед ним душу и всласть наговориться. Дорогою они беседовали обо всем и хотя плохо понимали друг друга, но так расчувствовались, что много раз принимались целоваться и даже всплакнули. Их излияниям не помешала даже погоня за стариком Степаном Маркелычем, только Мирон, увидев опередившую их «барскую» кариолку, заметил, что господ всех бы давно надо передушить, а их землю и добро разделить, потому что теперь «слобода пошла», с чем вполне согласился и Леонтий.
Как раз на ту пору кумовей обогнал их односелец, который стоял в телеге с вожжами в руке и размеренно, как молотят цепом, хлестал кнутом свою клячонку. Та, как гусь, вытянув свою тонкую, вспотевшую шею, то часто и мелко семенила своими косматыми ногами с маленькими копытцами, то пускалась вскачь, а хозяин все продолжал размеренно нахлестывать.
– А, Митька Косой, – сказал Леонтий, отрываясь на миг от душевного разговора. – Знаешь, кум, ён у меня из о сека четыре жердины скрал, Митька-то... весь о сек разорил... Ей-Богу, кум. – Говоря это, Леонтий чуть не заплакал от причиненной Митькой порухи его добру.
– Хотел в контору притянуть... и свидетели набивались... да я... Бог с им, кум... я эстими делами не займаюсь... штобы там по судам... да по конторам... чужого нам не надо, а... где наше не пропадало... слава те, Господи, проживу... не мы людям кланяемся, а нам люди кланяются... Верно говорю?
– Верно, – подтвердил Мирон, как подтверждал все то, что высказывал Леонтий, и, в свою очередь, Леонтий соглашался решительно со всем, что говорил кум Мирон.
– Только обидно, кум... у своего у брата у мужика... кабы у богатея...
Здоровенный Мирон лежал на спине поперек телеги, свесив болтавшиеся ноги, часто моргал глазами, щелкал белыми зубами и повторил:
– Да... кабы у богатея... Слышь, кум, што я тебе скажу-то...
Но разогорченный Леонтий не расположен был слушать, а хотел сам говорить.
– Ну, не обидно ли, кум, у своего у брата, у мужика?.. Ежели бы у богатея али у кого из господ... ну там и Бог велел...
– И велел... велел...
– Вот брат Егор, што в Питере живет... сказывал, все начисто у господ надоть отобрать и греха не будет... Слышь, все у их надоть отобрать, кум... одолели, все на их работаем, а сами с голоду пухнем, кум...
– Отобрать... все...
– Баринишки-то ничего не делают, а как живут! Кабы мужику так-то... А то без разгиба, кум... А какое наше житье? Хлеба не поешь вволю... Слышь-ка, рази это порядок?
– Непорядок... не-е...
– Вот брат Егор... говорит: «чем мы хуже их... баринишек-то? Рази не справим все дела?» И справили бы... и в министры пошли бы...
– Пошли бы...
– Нашлись бы такие... и... из нашего брата-мужика... нешто не нашлись бы...
– Нашлись бы... как не нашлись?
– Вот брат Егор... хошь сычас в министры... за первый сорт справит...
– Ён спра-авит...
– Ён, кум, в Питере-то все науки произошел... Три года в ораторах служил... на жалованьи состоял... к ему, кум, ученые-то ума набираться ходили...
– Э-о-о, – промычал Мирон, запрокидывая голову и одобрительно кивнув вверх бородой.
– К ему три барышни завсегда приезжали... не какие-нибудь... из благородного роду...
– Э-о-о...
– И завсегда не как-нибудь... а за ручку с им здраствовались... и все к ему: «товарищ Егор, товарищ Егор»... Это такое у их, значит, положение... к бабе ли, к мужчине... все едино...
– О-э-э...
– И два господина... чистых... книжек ему понавезут... всяких... покажут, што вытвердить... Ён как вытвердит... как выйдет на митuнг, по нашему сходка... значит... как зачнет чесать... и батюшки мои, откуда што берется... за первый сорт отлепортует... и все слухают... муха не пролетит, кум... слухают...
– Ба-ашковатый...
– А теперь бросил этим делом займаться... чуть што не повесили... Вот дело какое...
– О! о! о!..
– Пивную ладит открыть... Ён теперь с деньжонками... а брату, кум, не то што... рубля не прислал... ни разу не прислал... А я отца-мать пои-корми... Нешто порядок, кум? Брат-та не то што... куска недоедает... Нешто правильно... ну, скажи, кум?.. – и от жалости к себе Леонтий прослезился.
Кумовья догнали Митьку. Он лежал в телеге вверх носом и мирно похрапывал. Его замученная, взмыленная лошаденка еле плелась, пошатываясь на косматых ногах, тяжело водя боками и помахивая мокрой головой, роняла на дорогу белую пену; от туловища и от ног ее валил пар.
– Переем! – вдруг гаркнул во все горло Мирон, приподнимаясь в телеге и выпучивая освирепевшие глаза. – Кум, я ему глотку переем!
– Сохрани Господь! кому, кум? – спросил Леонтий, совершенно забывший о Митьке.
– А Митьке Косому... переем! Почему у своего у брата у мужика скрал? Почему? – плачущим голосом ревел Мирон и рвался вон с телеги, но Леонтий держал его и уговаривал.
Митька от такого громового рева проснулся и флегматично, не издавая ни единого звука и даже не шевелясь, как будто угрозы вовсе не касались его, взирал на беснующегося Мирона.
А Мирон все громче и азартнее кричал: «переем», плакал, грозился кулаками, но Леонтий навалился на него всем телом и не пускал.
Так мужики доехали до Хлябина: немного впереди невозмутимый Митька, сзади Леонтий с беснующимся кумом.
Уже в самой деревне, когда Мирон почти успокоился, Митька вдруг соскочил со своей телеги, точно кто пырнул его в бок шилом, и подбежал к кумовьям.
– Это кому? Мне горло?.. мне?.. мне?..
– Тебе... переем, – с матерными ругательствами закричал вновь освирепевший Мирон, стараясь освободиться из-под навалившегося на него опять Леонтия.
Митька – маленький мужичонка, с азартом бросил шапку наземь, поспешно развязал свой красный пояс и полез с кулаками на здоровенного Мирона. Подъезжавшие сзади односельцы останавливались и бежали к затеявшим ссору, одни для того, чтобы не допустить до драки, другие – чтобы поглазеть или подзадорить.
В какую-нибудь минуту сгрудилась куча в дюжину мужиков.
Телеги сразу запрудили всю улицу.
Раззадорившегося Митьку удерживал зять Никита и его жена Матрена, сестра Митьки. Здоровенного Мирона уговаривали и удерживали Леонтий, его сват Аким, тот что на базаре сторожил его телегу, и еще трое односельцев.
Мирон стряхивал со своих могучих плеч мужиков, ревел: «вор! глотку переем!» и лез к Митьке. Митька изворачивался, как юла, в руках державших его мужиков, кидался к Мирону и кричал: «Ты до моей глотки? а? Ты мою глотку?.. а я тебе храп...
Шум и гвалт поднялся на всю деревню.
По улице проходил какой-то большой, с широкими плечами бородач в серой, с развевающимися полами, свитке поверх подпоясанного кафтана.
Он, видимо, никого не замечал, отчетливо и грузно ступая по сухой улице своими похожими на кряжистые дубы ногами в больших сапогах, подбитых по каблукам и подошвам железными гвоздиками с блестящими шляпками. Он не шатался, а только иногда тыкался всем телом вперед и чаще шлепал сапогами. По этим непроизвольным поклонам да по его пению можно было заключить, что бородач подгулял.
«А мы курочку общипем,
И яичко облупим
И сами съедим,
А тебе, рожа сквер-рная, кор-рявая,
И понюхать не дадим...
– выводил он во весь свой громоподобный бас, но тут, натолкнувшись на замотавшийся клубок галдящих мужиков, бородач остановился, как останавливается бык, ударившись с разбега рогами об дерево.
С секунду он молча, удивленно, точно со сна, смотрел на ругающихся мужиков. Рот его раздвинулся в широкую усмешку.
– Га, колупаются. Добре! – проговорил он и, двинувшись дальше, взмахнул руками с толстыми, растопыренными пальцами и голосом, природной силе, мужественности и красоте которого позавидовал бы любой заправский певец, затянул:
«Уродилася я, што во поле былинка,
Моя молодость прошла на чужой сторонке...
Я с двенадцати годов по людям ходила,
Где качала я детей,
Где коров доила...
Бородач спустился под гору к Хлябинскому мосту и давно уже скрылся из вида, только доносились могучие, все более и более замирающие звуки его песни, а на улице противники все лезли друг к другу, но им все не давали как следует сцепиться.
Матрена бранилась, уговаривала, энергично расталкивала драчунов, и только один ее звонкий, трезвый голос ясно и отчетливо звучал среди сумбурного, пьяного мужицкого гама.
Тут же, пока Мирона и Митьку удерживали от драки, разругались двое из числа миротворцев, припомнив друг другу какие-то старые обиды.
Не наругавшись вдоволь, разгоряченные, мужики сели на телеги и продолжали путь, но между ними вместо двух соперников оказалось уже четверо.
Враждующие стороны продолжали переругиваться и подзадоривать друг друга с телег и по дороге, пока ехали, еще раз пять слезали и схватывались, но до настоящей потасовки все не доходило, благодаря Матрене и другим благоразумным попутчикам. Зато после каждой такой остановки миротворцев становилось все меньше и меньше, а враждующих больше и больше, потому что, сами не зная за что, почти все между собою переругались.
Наконец на десятой версте от города, ввиду своей деревни мужики соскочили с телег в седьмой или восьмой раз. Все они уже были озлоблены и разгорячены, разнимать было некому и потому беспрепятственно передрались в кровь. Шли в ход и кулаки, и камни, и кнуты, и сапоги... Досталось и бедной Матрене, и Леонтию, до конца хлопотавшим за мир. Бабе раскровянили лицо, повредили руку и, свалив на землю, топтали ее ногами, кум Мирон наградил Леонтия двумя такими тумаками, что оба раза Леонтий летал с ног долой. В последний раз, поднявшись с земли и отыскав свою шапку, Леонтий поспешно вскочил в телегу и уехал домой, оставив односельцев доканчивать бой.
Рыжов еще в Хлябине, как только между попутчиками началась ссора, спрыгнул с телеги Мирона и стащил с нее Демина. Сколько ни бился над товарищем Рыжов, Демин не приходил в себя. Тогда он бросил его посреди улицы и пошел домой один.
Отец его – пьяница и тиран жены, лет пять назад опился на празднике водки и умер; сестра была выдана замуж, и в деревне у него жила одна мать.
Придя домой, Рыжов приказал матери готовить из сазана селянку, а сам, сев за стол, стал пить водку и петь песни.
Старуха вышла в сени и, оставив дверь в избу открытой, потому что в сенцах было темно, начала колоть дрова. Чураки были толстые, и у старухи дело не спорилось...
– Наколол бы дров-то. Чего сидишь? – сказала она сыну. Видишь, не сдужаю...
Федор точно и не слышал слов матери.
– Кому говорю-то? Аль оглох? – возвысила голос раздосадованная старуха. – А не то селянку варить не буду... вот и все... не буду.
И на это не последовало ответа.
Старуха присела на корточки и принялась опять за колку дров.
– Одна радость у тебя – пить, – ворчала она, вонзив топор в отруб чурака. – Весь в отца – пьяница, только и знаешь, што пьешь... а мать по три дня без куска хлеба сидит... Пойду, пожалюсь на тебя в контору... пожалюсь... вот и все...
Старуха подняла на топоре выше головы чурак и, перевернув его в воздухе, стукнула об пол обухом. Чурак с треском расскочился на две половины...
Федор, стремительно выскочив из-за стола, молча побежал в сени и прежде, чем мать догадалась, что ее ожидает, сын изо всей силы с бранью ударил ее кулаком по лицу. Она упала на сложенную грудку дров. Грудка под ее тяжестью развалилась. Федор покачнулся и упал на старуху, а так как при малейшем движении дрова раскатывались в разные стороны, и в таком неудобном положении сыну «неспособно» было бить мать, то он до костей изгрыз ей левую скулу...
IX
Черноземи так же, как и в других деревнях, помимо установленных церковью праздников, были и свои местные.
Праздновали на Варламия большого и на Варламия малого, праздновали в день великомученицы Екатерины, потому что это был храмовый праздник в их приходе, праздновали вешнего Георгия, десятую пятницу, и день Рождества Богородицы.
На одного Варламия пили три дня, и потому его называли Варламием большим, в отличие от Варламия малого, когда полагалось пить только один день. Георгия, десятую пятницу и день Рождества Богородицы праздновали по три дня, и потому эти праздники считались большими; Екатерину праздновали только один день, и потому праздник этот считался малым.
Никто не знал, кто и почему установил некоторые из этих праздников, но не праздновать их считалось грехом.
Давно как-то черноземцы перестали было праздновать Варламия малого, но спустя несколько лет в день этого святого пожар уничтожил половину деревни.
Старые люди решили, что святой обиделся и отомстил им за то, что они перестали чтить его память, и праздник был восстановлен.
Когда вечером Леонтий возвратился домой, то застал у себя сватью Акулину с избитым Афонькой.
Акулина приехала к сватам на праздник и кстати просить Леонтия заступиться перед начальством за нее и за ее семью, потому что вчера Сашка всенародно грозился перевести весь Кирильевский род, «чтобы и звания не осталось», и чуть не убил Афоньку. Отняли уж добрые люди. Леонтий возбужденно рассказывал об отысканных убийцах, о своих городских приключениях с кумом Мироном и Деминым, ругал отсутствующую не вовремя полицию, обрушивался на всех господ вообще и особенно на «взяточника» следователя и при каждом случае заявлял, что «начальство нас, мужиков, хуже чем за собак считает, а за господскую собачку нашего брата-мужика в острог засуживает».
По утру к Леонтию пришли и приехали из соседних деревень гости: сестра Елена, два брата ее мужа с женами, тесть и свояк Максима – Леонтьева брата, живущего в Петербурге, и множество других гостей. К обеду вся просторная изба Леонтия была битком набита народом. Некоторые за неимением свободного места сидели на кровати больной Прасковьи, другие на лесенке у печи.
Не принять кого-либо из гостей было нельзя, потому что, когда в других деревнях были свои праздники, Леонтий тоже ездил в гости и его там принимали и чествовали. Единственного человека, кого он на порог к себе не пускал, это зятя Фому, и тот не являлся. То же было и в других избах праздновавшей деревни. Вся Черноземь с наехавшими родственниками, приятелями, сватами целых три дня пьянствовала, ела, плясала и орала. Несомненно, пропьянствовала бы и четвертый день, если бы этим днем оказалось воскресенье или иной какой праздник, но, к сожалению черноземцев, Рождество Богородицы пришлось в субботу. Следовательно, воскресенье было вторым очередным днем праздника. Выпитая черноземцами водка считалась ведрами, а наваренное для этого случая пиво – бочками.
Пьяны были все поголовно, исключая дряхлых стариков да грудных младенцев... Пьян был и урядник, пьян и десятский, пьяны и патрульные из мужиков... непреоборимый соблазн сокрушил даже власти, призванные по долгу службы наблюдать за порядком... Ошалевшие от вина отцы напаивали своих малолетних детей и тешились их опьянением...
Деревня в эти дни представляла собой необычное зрелище.
Вытянутые в две линии, лицом друг к другу сто дворов с бревенчатыми старыми и новыми избами, амбарушками, хлевушками, покосившимися и стоявшими прямо, крытыми соломой и дранкой, без единого деревца под окнами или на задворках и вся длинная улица, разделяющая эти два ряда дворов, были переполнены лохматыми, странными, раздерганными, шатающимися из стороны в сторону, дико орущими двуногими существами... Казалось, все эти люди вдруг заболели острым помешательством и вместо степенной, полной достоинства речи, во все горло выкрикивали непотребные слова, точно все другие ими забыты и только одними ими, этими непотребными словечками, они выражали и радость, и злобу, и дружеский привет, и смертельную угрозу...
Они, как отравленные зельем тараканы, расползались по всем углам и закоулкам, бестолково размахивали руками и головами, сталкивались между собой, то беспричинно обнимались, целовались и плакали от пьяного умиления, то ругались, дрались, падали и засыпали на улице, во дворах, в ямах, в овражках...
И во всей одуревшей от перепоя деревне был только один трезвый человек – плотник Степан Васильев – красивый, с длинной бурой бородой мужик, заика и моргун, никогда не бравший в рот ни пива, ни вина.
В Черноземи на этот случай он один заменил собой все власти.
Его высокая фигура, без шапки, с остриженными в скобку волосами появлялась везде, где начинались ссоры и драки. Он усмирял и запирал в хлевушки и амбары драчунов и буянов. За это опившиеся односельцы ругали его, а иногда наделяли и затрещинами, но огромный кулачище Степана живо успокаивал озорников.
На третий день к вечеру Степан изнемог от отвращения к потерявшим человеческий образ пирующим, плюнул, махнул рукой и заперся у себя в избе.
Всю ночь деревня галдела и дралась, и хотя Черноземь гордилась мирным нравом своих обитателей, однако на этот раз черноземцы не ударили лицом в грязь, оправдали укоренившуюся в последние годы в деревнях поговорку: «Без мертвого тела ни один праздник не обходится». На утро оказался один черноземец зарезанным насмерть, другого с проломленным черепом, в бессознательном состоянии отвезли в больницу; человека три с помятыми ребрами отлеживались дома, а еще человек пять с кровоподтеками, царапинами на лицах и неглубокими ножевыми ранами и совсем не ложились. В довершение всего кто-то, видимо, из мести, выпустил кишки у лошади свата Акима, полоснув ножом в живот.
Животное околело.
И Леонтий также пил три дня и угощал своих гостей; весь четвертый день он опохмелялся, кряхтя и валяясь на лавке разбитый, с больной головой, с опухнувшим лицом и расстроенным животом. Зато от праздника осталось приятно щекотавшее самолюбие Леонтия сознание, что он прошел честь-честью и все гости остались довольны его угощением.
На пятый день утром Леонтий, весь грузный, отекший, с мутными глазами, заехал за кумом Мироном, таким же отекшим и грузным, как и Леонтий. Вдвоем они поехали в Шепталово к Демину. Его они застали дома. Демин догадался, зачем пожаловал Леонтий, потому что о происшествии на базаре ему рассказал Рыжов; сам же он смутно помнил о встрече с Лобовым, а об Леонтии и Мироне и их общих похождениях не имел никакого представления. Демин и вида не подал, что догадывается о причине посещения черноземских мужиков, принял их сдержанно-вежливо, этим тонко подчеркивая, что «дескать, не я в вас нуждаюсь, а вы во мне».
Но и Леонтий был не промах и не менее тонко понимал обращение с людьми. Перекинувшись несколькими незначительными словами о посторонних предметах, он пригласил с собою Демина к сватье Акулине.
Демин от всей души ненавидел парней за то, что они убили Ивана, за то, что ни разу не сдержали своего обещания, т.е. не угостили его водкой, и особенно за то, что заставляли его сыпать себе на голову и есть землю, но он все еще колебался их выдать, и потому что боялся их мести и еще более потому, что это будет нарушением данной им страшной клятвы.
По народному поверью – нарушителя «заклятья» землей ждут неисчислимые беды в этой жизни и вечные муки в будущей.
Но Демин знал и то, что Леонтий, судя по его умелому приступу к делу, приехал не с пустыми руками, а зовет его к Акулине затем, чтобы сперва угостить водкой, а потом просить свидетельствовать против убийц, и Демин, по достоинству оценив поступки Леонтия, охотно принял приглашение. Произошло все как по-писаному: у Акулины мужики выпили и закусили, причем и хозяйка, и Леонтий, и даже Мирон были особенно предупредительны по отношению к Демину, особенно ухаживали и угощали его. Иван и это внимание оценил по достоинству, и когда после двух опорожненных «сороковок» Леонтий приступил к делу, Демин совсем не ломался, рассказал все, чему был свидетелем при убийстве и согласился немедленно ехать с кумовьями в город к начальству.
К этому времени по окрестным деревням стал упорно ходить слух о том, что отец Сашки заплатил следователю пятьдесят рублей, а мать чуть не каждый день таскает к нему на кухню лукошки с маслом и яйцами, поэтому следователь и держит руку убийц. Эта клевета, в которой ни слова не было правды, дойдя до слуха молодого чиновника, больно уязвила его.
Деревенский люд охотно верил подобным россказням, потому что, во-первых, считал всех «господ»для того и поставленными «в начальство», чтобы драть с мужика елико возможно и что возможно; во-вторых, никак не мог понять того простого обстоятельства, что заведомые убийцы не сидят в тюрьме, а гуляют на свободе, и объяснял такую слабость ничем иным, как подкупом; в-третьих, один из предшественников теперешнего следователя не смущался принимать посильные даяния, и хотя за это и был выгнан со службы, но, помня об его деяниях, мужики и его заместителей меряли одной с ним меркой.
На этот раз раздосадованный клеветой следователь был рад, когда явились к нему Леонтий и Демин, потому что теперешние показания Ивана давали ему законный предлог принять против убийц строгие меры пресечения и тем отклонить от себя подозрение в пристрастии. Записав показания Леонтия и Демина, следователь тотчас же распорядился об арестовании и заключении в местную тюрьму впредь до суда троих из убийц, именно: Сашки Степанова, Лобова и Горшкова.
Таким образом, в качестве обвиняемых были привлечены только трое. Рыжов вместо того, чтобы разделить участь товарищей, явился важным свидетелем – очевидцем преступления. Ларионов, не опороченный ни Рыжовым, ни Деминым, избрал самую благую часть: привлеченный в качестве свидетеля, он ото всего отперся, заявив, что в день убийства Кирильева был настолько пьян, что всю дорогу спал в телеге и ничего не видел, не слышал и ничего не помнит.
Не добившись того, чтобы стороны примирились еще при жизни Ивана, и не имея теперь возможности окончательно замять это происшествие, верный себе следователь повел дело так, чтобы преступники возможно меньше пострадали.
Егора Барбоса и его молотобойца, которые у станового определенно показывали, что Сашка грозил Кирильеву расправиться с ним за отобранную землю, он так сбил и запугал предупреждениями об ответственности за лжесвидетельство, что их важные показания сведены были им на нет. Чрезвычайно важные показания Акулины, проливавшие свет на взаимные отношения сторон и невыгодные для убийц, особенно для Сашки, он, пользуясь безграмотностью свидетельницы, скомкал так, что из них получилась чепуха. Так же поступил он и с Рыжовым, когда тот заикнулся о том, что убийцы ограбили Ивана. Так как это обстоятельство могло значительно отягчить вину преступников, то следователь внушительно намекнул Рыжову, чтобы он об этом помалкивал, дабы не ухудшилось его собственное положение.
Рыжов испугался и решил молчать.
Следователь об ограблении ни слова не упомянул в протоколе.
X
В этот день старик Пётра с утра собирался с Егорушкой на молотьбу, но чувствовал себя настолько слабым, что едва слез с печи. За завтраком он только едва прожевал и проглотил кусок черного хлеба и, запив глотком воды, полез снова на печь за кафтаном, но не успел еще занести ногу на первую ступеньку лесенки, как оборвался и, взмахнув в воздухе руками, упал на пол. Немного оправившаяся за последние дни Парасковья, Егорушка и Катерина бросились к старику и стали окликать его. Пётра лежал с открытым ртом на спине, широко раскинув сухие руки, и не шевелился. Его пергаментное лицо побледнело еще сильнее. Семейные подняли его, на руках перенесли и положили на лавку головой к образам, ногами к устью печки.
Целый день старик пролежал, не открывая глаз, не шевелясь и не отзываясь на оклики.
Вечером, когда из города вернулся Леонтий и на столе горела лампа, Пётра пришел в себя и пошевелился. К нему подошла Катерина.
– Дай испить... доченька... – растягивая слова и более глухим и слабым голосом, чем всегда, попросил старик.
Катерина принесла ему в ковшике воды. Пётра приподнялся на локте, перекрестился, глотнул раз, поморщился и рукой отстранил ковшик. Улегшись со вздохом снова на лавку, он прошептал одними губами:
– Тепленького бы чего... чаю бы...
Катерина поставила самовар. Всех домашних удивило последнее желание старца. Во всю жизнь Пётра не притронулся ни разу ни к вину, ни к чаю, жестоко бранил собственных сыновей за пьянство, а когда семья пила чай, он всегда ворчал.
– Все чаи распиваете, – говаривал он, – а потом выбегут в сени и занедужают, сычас у них кашель, глотку заложит...
Сам он не признавал болезни и никогда не болел, не признавал, чтобы зубы падали от старости, и они у него все были целы. Уже будучи столетним старцем, Пётра половой засорил себе глаз, растер его, и глаз вытек. Старец ни одного дня не лежал и каждый день с повязанным чистой тряпицей глазом работал наравне с другими. Только когда недели через две Пётра снял тряпицу, домашние заметили, что старик окривел.
– Тятя, мы думали, что ты помёр, когда упал, – крикнула отцу Катерина.
– Нет, доченька, я не упал... – с одышкой и растягивая слова, не сразу ответил больной, – а когда подошел... на лесенке сидели два мальчика... и протянули мне ручки... Я хотел схватиться, да не поспел, а я не падал...
Очевидно, старцу трудно было говорить и, передохнув с минуту, он сказал Катерине:
– Ты, робенок, бабку-то не оставь... живи тут... у Левона... присмотри... за бабкой-то...
Обращенный к Катерине зрячий глаз его, обыкновенно спокойный и суровый, теперь смотрел размягченно и просительно.
– Што ж ты, тятя, помирать собрался?
Старик ничего не ответил и с недовольной миной отвернул лицо, выражая тем, что о таких важных вещах, как смерть, говорить не следует.
Леонтий, никогда не возвращавшийся из города трезвым, и на этот раз был немного под хмельком.
– Што ж, отец, на меня уж не надеешься? Значит, я не досмотрю за матерью? Эх, жисть моя горемычная!.. работай, работай, пой-корми всех, а вот как благодарят... Видно, дождешься от вас благодарности на том свете угольками...
Старец обернулся к нему, и глаз его на этот раз смотрел сурово и безнадежно...
– Добре охочь до вина, Левон... не хорошо... мало учил... мать разбаловала... Все вы пьяницы...и Егор и Максим... все беспутные...
– Што ж, я пью, да дело разумею. Какое мое питье? Я из дома ничего не тяну... как другие-прочие, а ты мне всегда глаза колешь. Какое мое питье? Што я на твои деньги пью, што ли?
Старец ничего не ответил и с недовольным видом опять отвернул лицо к закоптелой стене, покрытой темной тенью.
Леонтий привез от следователя повестку на имя Катерины. Она вызывалась для дополнительного допроса. Срок был назначен через четыре дня. Этот вызов причинил Катерине страшное беспокойство. Следователя она боялась, как огня. Для 23-летней бабы, ничего не видавшей кроме своей родной деревни, молодой чиновник представлялся каким-то страшилищем.
В первый допрос он сначала обошелся с ней довольно мягко, предлагал помириться с убийцами и взять с них деньги. Когда же она не соглашалась, наивно заявив, что мужа ей вернуть нельзя, а за деньги она его не продает, чиновник вдруг разгорячился, выскочил из-за стола, затопал на нее ногами и закричал: «Какую персону убили, подумаешь? Не хочешь мириться, так тебе же хуже! Все равно, им ничего не будет, потому что нет улик против них, а взяла бы деньги, да и дело с концом. Не хочешь, так и не надо, убирайся, черт с тобой!». И без того потрясенная горем, баба не помнит, как ноги вынесли ее из канцелярии следователя.
И теперь, несмотря на то, что до явки оставалось целых четыре дня, Катерина уже не находила себе места.
На другой день тоска ее дошла до таких пределов, что сидеть на одном месте она не могла и, распростившись с родными, ушла в Шепталово. Ей казалось, что у свекрови ей будет легче.
Вообще смерть Ивана сильнее, чем на всех остальных родных, повлияла на его жену.
Целыми ночами она не спала, ворочаясь с боку на бок; случалось, что иногда отяжелевшие веки ее смыкались, она засыпала, но кто-то толкал ее в бок; она мгновенно просыпалась и вскакивала с сознанием непоправимого горя, и не могла решить, спала она или бодрствовала, потому что и во сне так же, как на яву, та же тоска о муже, то же впечатление невозвратной потери, тот же ужас, какой она впервые испытала на Хлябинском поле при виде окровавленного мужа, ни на минуту не покидали ее, стали частью ее самой, подобно больному, вечно ноющему члену тела.
В последние дни это состояние дошло до того предела, когда Катерина уже с трудом различала, что она делала на яву и что видела во сне. В ее психической жизни сон и явь сливались в одну непрерывную нить. Сон являлся продолжением яви, а явь продолжением сна.
Так как она кроме всего этого еще находилась в последнем периоде беременности, то к ее душевному горю и тревоге присоединилось ощущение тяжести и постоянного недомогания.
XI
Акулина и ее дети обрадовались возвращению к ним Катерины, но с первых же шагов она заметила, что дом свекрови стал для нее совершенно чужим. В нем ей было пустынно, холодно и неприютно, а тревога и тоска еще более усилились. Коробило ее и то, что Афонька окончательно взял верх в семье, капризничал, командовал всеми, кричал на всех, даже на мать, и та не только не останавливала его, но как будто находила, что так и быть должно.
Первый день прошел ладно и складно, потому что не изгладилась еще новизна впечатления и радость от ее приезда. Она была дома на положении дорогого гостя, но на следующий день, когда сели обедать, Катерина заметила, что мальчики неотступно следили глазами за каждым куском, который она съедала, за каждой ложкой, которую она подносила ко рту. И без того обидчивая, она, чтобы не заставлять деверей учитывать то, что она съедала, перестала есть и вышла из-за стола голодной. То же повторилось и в следующие дни.
В назначенный на повестке день Катерина пришла в город. У следователя было вызвано много народа по другим делам, и ей долго пришлось дожидаться очереди. Катерина вошла в канцелярию полумертвая от страха.
Следователь поражен был ее видом. Вместо красавицы, с нежным, матовым лицом, с синими глазами и полными пунцовыми губами, какою он ее запомнил, перед ним стояла изжелта-бледная, испуганная, осунувшаяся баба с уродливо выпяченным животом. Ему стало жаль ее.
– Садись, – сказал он, сам подставляя Катерине стул. – Тебе тяжело стоять. – Потом, усевшись за письменный стол, ища среди других дел в синих обертках дело об убийстве Ивана, добавил: – Мне рассказывали про твоего мужа. Хороший был парень и не пьяница. Жаль, очень жаль...
Катерину поразило, что этот грозный человек мог говорить такие простые, сочувственные слова, приглашению же сесть она просто не поверила, подумав, что ослышалась.
Когда следователь повторил приглашение, она покраснела и ответила:
– Ничего, постою...
– Садись, садись, – решительно пригласил следователь в третий раз.
Катерина кашлянула в ладонь и несмело, стараясь не произвести шума, присела на краешке стула. Не изменяя того же ласкового тона, следователь спросил у Катерины, когда и от кого она узнала об убийстве мужа.
Катерина подробно рассказала о приходе Демина в вечер 25 августа. Следователь записал ее показания и отпустил.
С чувством облегчения, смешанным с недоумением, Катерина отправилась в обратный путь.
Всю осень стоявшая прекрасная, почти летняя погода, видимо, готовилась перемениться. Еще с утра небо туманилось и в воздухе было свежо, к полудню с севера потянул легкий, холодный ветерок и вместо тумана на небе появились длинные узкие облака с закурившимися, как дымом от костра, краями; с полудня ветер усилился и гнал из-за горизонта стаю за стаей мутные облака, напоминавшие разорванные платки. На просторе они соединялись и между собой и захватывали прежние, закрывая понемногу небо и сгущаясь в одну свинцовую тучу, которая, молча, без громов и молний, быстро ползла к юго-востоку.
Когда Катерина вышла от следователя, все небо уже было закрыто тучей. Ветер дул бабе в спину, гнал вперед, заворачивал вокруг ног юбки и иногда при особенно сильных порывах чуть не валил с ног.
Мрачная тень покрыла поля и дорогу; низко по воздуху неслись одинокие желтые листья; на деревьях полуоголенные ветви бились одна о другую и, казалось, сами стволы стонали...
Мелкий, частый, косой дождь застал Катерину уже далеко за кузницами. Его принес сильный порыв ветра. Он с шумом пронесся и быстро перестал. Пепельно-серая, пыльная дорога сразу оказалась мелко, наподобие решета, истыканной. Не успела Катерина достичь Хлябинской горы, как заметила, что ветер ослабел и с совершенно темно-свинцового неба с шумом полился ровный, частый дождь.
С утра у Катерины побаливала голова, теперь разрывалась от боли, но баба, подходя к тому месту, где убили ее мужа, ни о какой боли уже не помнила.
С вершины Хлябинской горы она увидела это место. Никогда она не могла равнодушно проходить здесь, всегда останавливалась хоть на минуту и плакала.
И теперь между двумя разошедшимися колеями дороги, на серой, мокрой и ровной, как разостланное солдатское сукно, придорожной травке, ясно выделялось небольшое темно-оранжевое пятно. Три недели назад здесь билась разможженная голова Ивана, его кровью была окрашена трава, и эту кровь не смыли окончательно дожди, не выела роса, не выжгло солнце.
Чем дальше шла Катерина, тем больше и больше учащались ее шаги, потом побежала... Маленькое буроватое пятно все росло, ширилось и, наконец, мелькнуло перед самыми ее глазами в виде правильного круга, величиною с дно порядочного бочонка...
Сознание непоправимого горя особенно остро, болезненно почувствовалось Катериной. У нее закружилась голова и подкосились ноги.
Она вскрикнула и сознавая, что ноги подкашиваются, и силясь удержаться на ногах, тихо повалилась на землю... Очнулась она через полчаса от ощущения пронизывающего холода. Небо было по-прежнему обложено сплошной тучей, и по-прежнему лился холодный дождь, подхватываемый иногда порывами ветра. У Катерины раскалывалась от боли голова; ее тошнило. Ей пришлось просидеть несколько минут для того, чтобы собраться с силами, и потом только она встала на дрожащие, ослабевшие ноги и, с трудом передвигая ими, шатаясь, как пьяная, побрела домой.
Раз десять Катерина останавливалась и отдыхала, пока не добрела до Хлябинского моста. Дождь не оставил на ней ни одной сухой нитки. Она дрожала от холода и лихорадки. На мосту Катерина оперлась на перила; никаких сил уже не осталось у нее. Сколько времени ей пришлось простоять, она не отдавала себе отчета; глаза ее слезились, и все кружилось перед ней, все звенело и журчало, окутанное мокрым туманом. Тут нагнала ее какая-то старушка, ехавшая в телеге, укрытая с головой порожним мешком. Минуя Катерину, старушка пристально из-под мешка осматривала молодую бабу, и, даже оставив ее позади, она все-таки повернула в ее сторону голову, наконец не вытерпела.
– Чтой-то с тобой, молодка? – спросила она, останавливая мокрую лошадку. – Неможется, сердечная, што ли?
– Головушка разбуянилась, бабушка... и руки-ноги отваливаются... – ответила Катерина.
– То-то гляжу, лица на тебе нетути, дай, думаю, поспрошаю. Из каких будешь-то?
–А из Шапталова...
– А из чьих?
– Акулины Кирильевой... невестка ейная...
– О-ох, сердечная моя, садись, што ль, подвезу. Мы-то с тобой – суседи. Я сама из Кузова буду! Куда ж тебе иттить, недужной!? Не дойдешь так-то. Да еще никак на сносях... Ах ты, голубка моя сизая, садись, садись...
И сердобольная старушка заторопилась опрастывать для Катерины место, сама подвигаясь к передку.
– А свекровушку-то твою малость знаю... сказывали тутотка, сына ейного злые люди забили насмерть.
Катерина с трудом взобралась в телегу.
Старушка тронула лошадь, и копыта и колеса, хлябая по грязной жиже, глухо застучали и загремели по дощатому настилу моста.
– Ты куда же такая недужная ходила, голубка моя? – стараясь перекричать своим слабым голосом гул, спрашивала старушка, обернувшись к Катерине. – Небось нужда горькая загнала. Сама-то, по своей воле такая недужная да тяжелая не пойдешь.
– К следователю вызывали в город. Хозяина у меня убили...
– Хозяина? Так это твово хозяина тутотка в Хлябине и убили. Ммм... – и старушка горестно покачала головой. – О-ох, а мне-то и невдомек, как ты сказала-то, што Акулины шапталовской невестка будешь.
И старушка всплакнула.
– Ноня сколько лихих людей расплодилось, сколько... Едешь по дороге-то, сердечная, попадется кто навстречу и думаешь: не лихой ли человек, не прирежет ли? Верно по грехам нашим Господь наслал такое попущение...
Катерина не слышала и не понимала слов старушки, сперва крепилась, потом покачнулась, упала головой на плечо своей попутчицы и уже не могла поднять ее. Старуха должна была остановить лошадь; кое-как уложила в телегу больную, прикрыла ей лицо своим мешком, а сама примостилась боком в передке.
Дождь, мелкий, частый, порывистый, не переставал ни на одно мгновение... Старуха погоняла лошадку, но как она ни спешила и ни заботилась о том, чтобы возможно лучше укрыть Катерину, они приехали к Акулине обе промокшие до костей.
Катерину домашние ввели в избу, раздели и уложили в постель.
Старушка обсушилась, поплакала вместе с Акулиной, попила чайку и к вечеру, когда дождь немного унялся и над головой прояснело небо, уехала домой.
XII
Среди ночи Акулине, спавшей на полу с детьми, пригрезился страшный сон. Незадолго перед этим она просыпалась и прислушивалась, не попросит ли чего-нибудь Катерина? Но та спала, тяжело дыша и иногда стонала во сне. И только что Акулина стала опять забываться, как ей почудилось, что в избе жужжит большая муха. «Неоткуда теперича быть бы мухам, не лето», – подумала она во сне, но тут же воочию ей представилось, что это не только возможно, но что в открытое окно со двора уже действительно влетела большая-пребольшая муха и даже не простая муха, а косматый, величиною с воробья, шмель и сердито бьется об оконное стекло и, не умолкая ни на минуту, жужжит... «гу-гу-гу», гудит на всю избу так, что даже стены дрожат. И Акулине становится страшно. Она боится этого шмеля и ожидает чего-то таинственного и ужасного. Вдруг вместо шмеля появляется Сашка Степанов и начинает шнырять по всем углам избы. И Сашка не такой, как обыкновенно, а косматый, похожий на шмеля, или, вернее, голова Сашки оказалась на туловище шмеля. Сашка гудит: «Всех перебью, всех перережу. Ваньку убил, теперь черед за Афонькой». И мечется и быстро летает по избе, ища Афоньку, а Афонька от страха забился под загнетку... У Акулины замер дух и захолонуло сердце. Сашка пометался-пометался, увидел его и, поймав за голову, стал вертеть ее, чтобы оторвать, но голова Афоньки оказалась вместе с тем и раздвоенной шляпкой большого винта, и она, несмотря на яростные усилия Сашки, не отрывалась, а отвинчивалась, и вместо шеи из туловища Афоньки вылазил длинный, толстый железный стержень с блестящими винтообразными нарезами...
Акулина порывалась броситься на помощь сыну, но вся была как связанная и не могла пошевелить ни одним членом, хотела крикнуть «караул», но вместо этого, с величайшим усилием едва расклеив сцепившиеся челюсти, только замычала да и то как-то странно, одним горлом.
Тут Акулина проснулась и, еще слыша свое мычание, с усилием приподняла голову. От горячего затылка и от висков, к которым точно приложили припарку из крутого кипятка, с шумом отливала кровь; сердце болезненно, часто, неровно и тревожно колотилось, и все тело дрожало, как в лихорадке. В избе было необычайно светло. Дождь давно перестал, и в окно заглядывала рогатая луна, повисшая брюхом вниз в широком прорыве между черными тучами. Ее ясный, холодный свет ложился на поле светлыми, косыми пятнами, прорезанными черными, узкими, теневыми полосами, отбрасываемыми переплетами оконных рам. В царящем полумраке предметы в избе принимали таинственно-фантастические очертания.
Акулина, как только проснулась, сейчас же услышала, что Катерина говорит что-то. Она сидела на постели, и Акулина в свете луны рассмотрела, что мертвенно-бледное, немного приподнятое вверх, с закрытыми глазами лицо невестки было совершенно неподвижно и только шевелились одни губы.
Голос Катерины, вообще низкий, контральтовый, звучал, как струна виолончели под медленным смычком. Слова выговаривались ею настолько неясно, что Акулина не могла разобрать их и снова поддалась влиянию того таинственного страха, какой только что пережила во сне. Холодные, крупные мурашки, как живые, поползли у нее по хребту к затылку. Она собралась с духом и окликнула Катерину.
– Катя, да с кем ты говоришь? – спросила она повышенным от испуга голосом.
– Да с Ваней... – медленно, с растяжкой, открыв глаза и откашлявшись, ответила Катерина своим обыкновенным, немного заспанным голосом.
– Да Ваня помёр... сотвори молитву, доченька, и ложись спать... ох, как ты меня спужала...все тело трясется... никак в ум не приду...
Катерина, вздохнув, повалилась на подушки. Все тело ее горело, а иногда пронимал озноб, точно вдруг пахнет на нее холодным ветром, а потом обдаст жаром.
Акулина, подождав, пока успокоилась невестка, быстро и крепко заснула.
Казалось, что Катерина мгновенно, как только головой дотронулась до подушки, погрузилась в крепкий сон; на самом же деле она испытывала почти блаженное состояние, если бы не беспокоила головная боль. К ней тотчас же явился муж, которого только что так некстати спугнули, не дав с ним наговориться вволю. Прежде Катерина до смерти боялась его появления: сегодня же, когда он явился, она не только не испугалась, но даже и не удивилась, найдя, что так и быть должно и что его появление так же обыкновенно, как если б он пришел домой с поля или приехал с «дороги».
– Тут всего насказали... – говорила она Ивану, – будто мужики тебя убили... и кровь на траве... большой круг... да все не верю...
Иван улыбнулся, таинственно подмигнул и сел у нее в ногах. Катерина сразу заметила, что он был в черном, новом пиджаке, в белой, с красными крапинками, ситцевой рубашке, в жилетке, при часах с цепочкой и в лакированных сапогах.
– Ну што ж, убили, а я вот жив, – со своей веселой улыбкой ответил Иван.
И Катерина знала, что это так и было и иначе не могло быть.
– Ишь франт какой! – ворчливо сказала она. – Как разрядился! Для праздника, што ли? Поберег бы добрую одёжу... Зачем трепать? Али там, где живешь-то, всякой день праздник?
– Хочешь яблоков? – спросил муж.
– Ой, ты мне ноги отдавил, ишь уселся... думаешь, легонький? Сядь вот тут. – И она, похлопав рукой по одеялу, указала ему место с краю кровати, ближе к ее лицу. Иван послушно пересел.
– Хочешь, што ли? – переспросил Иван и развязал пестрый платок, в котором были краснобокие яблоки.
– Не надо мне твоих яблоков. Не хочу... – капризно заявила она. – Почему не принес мятных пряников? Помнишь, белые... у Соколова в лавке покупал... Принеси...
– А я сычас... одним духом... – ответил Иван, весело подмигнув, так, как он это делал при жизни.
И он убежал в город в лавку Соколова и принес Катерине пряники. И все это произошло так быстро, как будто он совсем и не отлучался, а все время находился при ней и в то же время ходил в лавку. И все это было как нельзя более просто и естественно и иначе быть не могло.
– Ты мне сына-то родишь? – спросил Иван, указав на ее живот.
– А то как же... Кого ж мне родить?!
– Может, девочку... не хочу...
– Нет, мальчишку...
И только что подумала она спросить, принес ли Иван для сына красные козловые сапожки, как муж вынул уже их из кармана своего пиджака.
– Обряди его, сынишку-то, – сказал он, улыбаясь и подавая ей сапожки, и из того же кармана вынул красную шапочку с длинными наушничками и черный дубленый полушубочек, отороченный по борту и воротнику серым курчавым каракулем, и все это передал ей.
– Какой у тебя карман-то... Сколько в ём накладено...
И Катерина рассмеялась от восторга, с восхищением рассматривала эти драгоценности и разглаживала их рукой...
– Ты нас жалеешь... – с благодарностью сказала она, отожествляя себя с будущим сынишкой.
– Как же не жалеть? Кто вас жалеть будет, ежели я не пожалею?
Продолжение следует


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"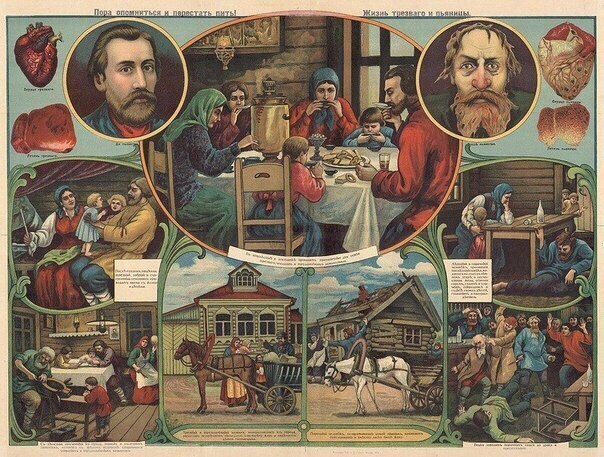





















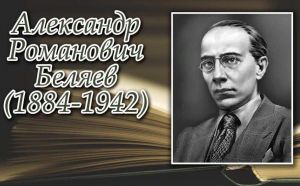








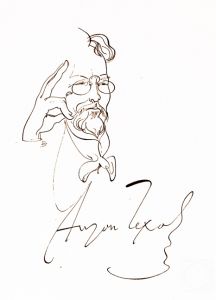





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский