Вот и с Леночкой нежных минут тогда так и не получалось. Никита, как всякий человек охваченный вожделением, мало разумел то, что реально происходило вокруг предмета его вожделения. А, между тем, Артюшка Архипов, Никитин ровесник – будущий эскулап и сочинитель басен, как-то по дороге домой, не без некоторого ехидства заметил, что Никита напрасно пялится на Елену Станиславовну. Что она, словами Пушкина «другому отдана и будет век ему верна».
- Кому же это? – Спросил Никита, заранее уверенный в том, что ответ будет просто смехотворным по содержанию.
- А ты будто не знаешь? – с насмешкой уже совершенно явственной продолжил Артюшка. – Леночка у нас заштрихована. Мих-Мих её на стихах прицапцарапал по полной схеме. Он тогда её стихи на литстраницу вместе с твоими рассказами протиснул. Главный не хотел ставить по причине сугубой лиричности. А Штрих уломал и редколлегию, и Главного. А потом на бюро обкома ВЛКСМ газете выдали на орехи за то, что хорошую публикацию – твои рассказы, стало быть, испортили цветаевщиной. Это Ленку-то сравнили с Цветаевой. Умора! Главный влепил Мих-Миху строгий выговор с предупреждением, так что он теперь увечный воин, пострадавший за идею. А женщине дай только поутешать пострадавшего! Да ещё за неё пострадавшего. Я их тут как-то вечером встретил. Ветер, снег метёт, а они идут за руки держатся.
- Брешешь.
- Была бы нужда брехать.
А через два дня Никита должен был по уговору явиться на ТУ квартиру. Он и явился. Василий Степанович, выглядевший по-особому приветливо, отворил дверь со словами : «Заждался я тебя, заждался». Никита привычно прошел к письменному столу начал писать, а Полубыков погромыхивал на кухне крышкой чайника и позвякивал чайными ложечками. Сегодня писать было о чём. На последнем семинаре литгрупповцы обсуждали длинное, как сцепка трамвайная - восемнадцать пятистиший – стихотворение Гоши Кульчумова.. Гоша написал о том, как Эпоха, погромыхивая сапогами, идет, не разбирая дорог, по росным лугам, по свету утренней зари, по людям, « и кованые гвозди оставляют на всём, на всём неизгладимый след». Стихотворение было слабоватым, кое-какие рифмы прихрамывали, ребята накинулись на Гошу с критикой. Но на его защиту неожиданно встал Штрих. Он рубил воздух ладонью и повторял, что Гоша выдал на гора то, что всегда было в России вершиной поэтической судьбы – гражданскую лирику. «Поэтом можешь ты не быть…» - громыхал Штрих, выкатывая классика, словно пушку, на прямую наводку. И в завершение прочёл наизусть, в качестве примера: «Мы живём, под собою не чуя страны». Даже Никита, равнодушный к рифмованной речи, почувствовал силу этих строк. Правда, Штрих так и не назвал имя автора, отшутившись от вопрошавших стихотворной строкой: «Вырастешь, Саша, узнаешь».
- Ага! – с удовлетворением в голосе сказал Василий Степанович, прочтя написанное Никитой. - Мандельштам! А ты не ошибся?
- Тут ошибешься! - Никита даже обиделся малость, и процитировал: « Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина».
Полубыков удовлетворённо кивал головой и переспрашивал, пытаясь досконально выведать, как отнесся к прочитанному каждый из Никитиных сотоварищей. И Никита рассказал, что стихи оценили все, и после чтения затеяли разговор о стихотворении, и о жизни вообще, и проговорили долго, так что расходились уже около одиннадцати вечера. Полубыков потребовал расписать всё, как было, не жалея подробностей обсуждения. Как ни странно, эти записки, которые Никита вёл по просьбе Василия Степановича, становились хорошей школой работы над словом. Дотошность вопросов обязывала к дотошности описания и точности нюансов. Никите, который сначала несколько тяготился этим занятием, теперь втянулся в него. Нравилось ему высвечивать детали, обрисовывая характеры, выстраивая драматургию происходившего в небольшой, насмерть прокуренной комнате отдела культуры областной молодёжной газеты. Сразу же после заседания литгруппы, идучи в общежитие, он уже начинал обдумывать, как построит рассказ о состоявшемся обсуждении очередных шедевров. Он примечал и горбатый нос Штриха, словно бы заострявшийся во время споров, и то, как Елена клала руки на стол, и как затихал, съёживался сидевший по привычке в углу Витенька Самсонов. Как с вечной полуулыбкой на лице слушал других Артюшка - баснописец. О каждом из литгрупповцев Никита знал, как о самом себе. Каждого он ощущал так, словно бы вползал в их, чужую кожу. Трудно становилось только тогда, когда вдруг приходил новичок. Но уже после пары занятий Никита и у новичка находил некую брешь, через которую он мог, как ему мнилось, проникнуть в самую суть чужой человеческой души, Сложнее всего оказалось с Еленой. Была меж ними какая-то завеса, кисея - не кисея, которая не пропускала Никиту с его выведыванием. Словом, мешала Никите в работе его страсть. Но со страстью что поделаешь? Ничегошеньки! Страсть – она и есть страсть!
Тут вернулась со двора Евдокия Гордеевна и сообщила, что на улице совсем растеплилось, куры клюют хорошо и несутся вдвое против прежнего. Сказавши, что она затевает чай, маманя спросила:
- Васенька! А что же та писателю труды свои не покажешь? Он ведь у меня, - продолжила маманя, - такой мастеровитый. Весь в отца Степана Артамоновича. Они и похожи.
И, забыв про чай, потащила Никиту Павловича в залу. В зале господствовал непременный сервант с непременным же иконостасом парадно-выходной посуды. Здесь же овальный стол с шестёркой стульев вокруг. У стены тахта, накрытая клетчатым пледом. Над тахтою - ковёр тонкой выделки. « Васенькин подарок из Афганистана». Само собой, телевизор и портреты в рамках: подполковника Полубыкова в полевой афганской форме, рядом - молодого лейтенанта – надо полагать, сына подполковничьего в парадной, и Степана Артамоновича – голова к голове – с Евдокией Гордеевной. – Он у меня машинистом был, - с особой гулкостью в голосе сообщила Евдокия Гордеевна.
А у Никиты Павловича никаких портретов дома отродясь не висело. Мать не любила фотографироваться. Даже на районную доску почёта её буквально заставил сфотографироваться сам товарищ Костиков – зампред райисполкома.. А отец…. Алиментщик он был, преподобный Павел Христофорович, к тому же пугало огородное: рыжий, конопатый, длиннорукий, с глазами чуть навыкате и великий знаток женского пола. Собственно, Никиту ставила на ноги мать одна. Отец появлялся в доме редко. Возвращался с каких-то, ему одному известных, отхожих промыслов, выворачивал карманы, полные мятых рыжих рублей и зелёных трёшек, демонстрируя богачество и щедрость. День-два сидел дома и за это время переделывал уйму работы по дому, требовавшей мужской руки. И мать в эти короткие дни ходила с губами, словно сметаной намазанными. Но рано ли, поздно ли, отец выходил во двор, сладко потягивался и кочетом смотрел окрест. А потом шёл к базарчику или автобусной станции и очень скоро заводил разговор с какой-нибудь, как правило, немужней бабёшкой. А разговорщик он был первостатейный, и уже через пять минут бедная слушательница готова была идти за Павлом Христофоровичем в любые дали дальние. Чаще всего, если дело было летом, прогулка заканчивалась в бывшем саду помещика Пинаева, что по-над прудом, в романтических развалинах помещичьего дома, который с самой революции разбирали на кирпичи, но до конца не смогли разобрать по причине качества старорежимной кладки. Завершались эти истории всегда одинаково; Какая-нибудь доглядчица специально заворачивала в баню и рассказывала матери об очередном заходе «твоего Павлушки». Вечером мать выставляла палец и указывала им на дверь. Павел Христофорович начинал, было, рассказывать, что повстречал дочку-племянницу-сноху- троюродную сестру старого фронтового друга, но палец не опускался, и он, покидав кое-что в фибровый чемоданчик, говорил на прощание: «Так я в Савватеевку. Там восемь печей перекладывать и сруб у колодца править. А ты мамку слушайся, Никита, слушайся». Потом надвигал по самые лопоухие уши картуз с пуговичкой на маковке и покидал дом вразвалочку, как бы по своей воле. И Никита оставался слушаться мамку.
Перед чаем они опять выпили под присловье: «перед чаем даже барыня пила». И опять заговорили о всяком отвлечённом, словно не было сцены у книжного стеллажа и зачитывания отрывков из некогда крамольных книг. Чай был удивительной густоты и не теперешнего аромата: «А всё вода! Вода, всё вода из деповских, ещё дореволюционных скважин. Тогда воду специально искали для паровозов, чтобы накипи было меньше» - поясняла маманя, а сама накладывала в розеточки вареньице из разных баночек.
Подполковник Полубыков тоже умел круто заваривать чай. Когда Никита завершил свои писания про последнее заседание литгруппы, они сели чаевничать на сей раз с сушечками, и Василий Степанович объяснял, какое важное дело для интересов страны делает Никита:
- Понимаешь, брат, какое осиное гнездо вьёт этот ваш Михалыч-Моисеич? Стишки, видите ли! Любовь-морковь! А на деле, вам голову антисоветчиной густопсовой забивает. Его за этим делом в одном городе на Дальнем Востоке почти, кхе-кхе-кхе, прищучили, а он почуял капкан и уволился из Дома народного творчества. И как в воду канул. А у нас - всплыл.
- Что же теперь нам всем будет?- Не без испуга в голосе спросил Никита.
- Хорошего, кхе-кхе-кхе, мало; литгруппу вашу скорее всего разгонят. Ну, а Штрих… сам понимаешь…
- А может, зря? Жалко же! - сказал Никита. И сам понял, что сморозил неподобающее.
- Мы ничего не делаем зря, - с враз окаменевшим лицом сказал Василий Степанович.- Он вас в омут затягивает. Да к тому же… не хотел я тебе показывать это, но уж покажу, чтоб у тебя, кхе-кхе-кхе, сомнений не было - И он вытащил из ящика письменного стола плотный конверт.- Смотри!
Никита взял конверт и достал пять фотографий. Сперва он не понял, что на них запечатлено. Потому что съемка велась словно через дырочку. А потом разобрал, что на снимках была комната. в которой проходили заседания литгруппы. В комнате были двое: Штрих и Елена. Они сидели и о чём-то беседовали. На следующей Штрих обнимал девушку. А дальше… Дальше было запечатлено то, что не оставляло место сомнениям: и приспущенные брюки Штриха и вздернутые ноги Елены, по-видимому, полулежавшей на столе, за которым обычно рассаживались литрупповцы..
- Два воскресенья тому назад . бесстрастно констатировал Полубыков.
- Кто же их..? - спросил Никита, сообразив, что съемка велась через замочную скважину.
А скважина- то была как раз напротив распахнутой двери отдела культуры газеты, в котором и происходило то, что происходило.
Напротив располагалась фотолаборатория, в которой царствовал Кузя Беклемишев – фотограф от Бога, замечательный репортёр и тонкий пейзажист. Был он, однако, не без греха: частенько попахивало от Кузи чем-то таким неопределённым: то спиртным напахнёт, то лавровым листом, который всегда у него можно одолжить, если кому-нибудь из редакционнеых, оказавшихся в аховом положении, предстоял срочный и неотложный заход в кабинет Главного. Кузя являл собою чистый пример страдальца от фотоискусства: ни репортажи, ни пейзажи в номер не ставили. Всё Кузино творчество оставалось втуне, потому что качество печати в газете было архискверное, да к тому же Главный считал, что в газету помещать надо только чугунные лица комсомольских героев.
- Приноровились они по воскресеньям, кхе-кхе-кхе, встречаться эдаким манером. – Полубыков комментировал увиденное Никитой. - Штрих ключ от редакции завёл, да не предусмотрел, что не один он по воскресеньям в редакции может быть.
- Сука, - сказал Никита. – Сука, - повторил он, вкладывая дрожащими пальцами фотографии в конверт.
- Сука, - согласился с начинающим писателем Никитой Боровковым капитан Комитета Государственной Безопасности СССР Василий Степанович Полубыков.
И они опять отправились на крылечко покурить. На сей раз, курили подполковничий «Беломор», потому что сигареты у Никиты кончились. Папиросы были покруче псевдоамериканских сигареток. Да и пачка была… роднее что ли? Была в ней некая незыблемость, какое-то весомое напоминание о прежней, навеки теперь утраченной жизни. Хотя, какая может быть весомость в бумажной пачке?! А всё же Никита подумал, что стоит об этом написать. Он порядочное время назад завёл специальную тетрадь, куда записывал, «Искорки», как назвал он мимолётные заметки, начатые, когда жёг весной прошлогоднюю листву и сухие ветки у себя на дачном участке. Листья дымили, а ветки потрескивали и пускали крошечные фейерверки в остывающий к ночи весенний воздух. Начинались заметки, как элегические размышления о бренности всего сущего и не мешали работать над программным, как он сам для себя определил, романом « За оврагами». Но роман стал идти всё туже и туже, сюжетные ходы рвались. А тут некстати навалилась митинговщина, писатели меж собой разругались в пух и прах, власть на писателей махнула рукой, в издательстве за трехтомник, который он, было, собрал, запросили анафемски большую сумму денег. А Леденцов – бывший директор издательства обкома, а ныне владелец, удачно приватизировавший бывшую партийную собственность, сказал Никите, покачиваясь с носков на пятки: «Теперь Никита Павлович, рынок. Печатают то, что будет продаваться. А продаётся то, что люди читают. Вот и посудите сами, стоит ли нам вкладывать собственные средства, рисковать, тасазать, финансовым положением, чтобы издавать ваши сочинения?» Побегал в те поры Никита Павлович по новым русским, у которых на пиджаках ещё видны были отметины от свежеснятых комсомольских значков. Потенциальные меценаты смотрели с прищуром, но всё больше поверх головы. Еле наскрёб денег Боровков под обещание поместить фамилии благодетелей в трёхтомнике крупным шрифтом на видном месте. Поместил. А пока тираж печатался, двоих из трёх милостивцев застрелили, а третий денег не додал, потому что грянул дефолт и вчерашний почти олигарх вынужден был пойти на твёрдую зарплату в правительство области руководителем в департамент, который занимался повышением эффективности управления государственным имуществом. С тех пор Никитины «Искорки» становились всё более трескучими. И потихоньку Никита стал заносить на страницы заветной тетради брюзгливые размышления по всё более мельчавшим поводам, а дальше и вовсе строки, исполненные ненавистью ко всему, с чем его теперь сталкивала жизнь. Он даже как-то поймал себя на мысли, что полюбил ненавидеть. Он копил ненависть, заботливо выращивал её, нянькал в самой глубине души. И она росла, хрипела в лёгких, подступала, будто удушье. А он разражался ненавистью, словно приступом кашля, каким обычно кашляют застарелые курильщики перед тем, выхаркнуть густую, пропитанную никотином мокроту.
Вот и подполковник Полубыков уже начинал вызывать в нём не самые добрые чувства. Что он, на самом-то деле, ему под нос бунинские «Окаянные дни» тычет?! Что Никите Бунин? Что из того, что нобелевский лауреат? Попал в антисоветскую струю, вот и лауреатство. А о чём писал? Да ни о чём! О том, как с бабами спал! Никита тоже мог бы написать, написать про своих баб. Взять, например, и написать, как после разгромной статьи в областной партийной газете, разгона литгруппы и исчезновения Штриха он заявился как-то днём к Елене. Увидав Никиту, она удивилась; ведь основной разоблачительный заряд в статье был направлен против неё лично, её публикации, её стихов. Пакостная эта статья возвещала, что в стихах молодой поэтессы превалирует пропаганда разнузданности и животного индивидуализма. Критикесса – а это была некая к.ф.н., старая клизма из педвуза - надёргала строчек из Елениных стихов, пришпандорила к ним свои толкования, и вдоволь поизгалялась над собственными же предположениями о затаённых смыслах поэтических образов. Написанная тяжёлым слогом, с патетическими всхлипываниями по поводу пропаганды тлетворных нравов среди творческой молодёжи, эта статья прокатывалась по Елене, словно асфальтовый каток по свежему, ещё не успевшему схватиться асфальту; О каких-таких русалках пишет молодой автор? Где она встречала героинь с хвостом? В заводском цеху? На колхозной ферме? В студенческой аудитории? Или она не видит, чем занята современная молодёжь?
Ну, а, кроме того, не только среди бывших теперь уже литгрупповцев, но и в городе пошли толки о каких-то немыслимых оргиях, которые устраивал Михаил Михайлович (он же Моисеевич) и участии в этих оргиях Елены и некоторых других юных дарований. Вот она и сидела дома и даже за хлебом в магазин не выходила, а тут на тебе - Никита.
- Привет, - сказал он. – Пустишь?
- Пущу, - сказала она. – И впустила его в квартиру.
Квартира была так себе, типично интеллигентская: с непременным портретом старика Хэма в свитере грубой вязки, тахтой и столиком у тахты на паучьих лапках под торшером. У стены на таких же лапках радиола «Ригонда» и на полу перед радиолой накиданы были пластинки – видно, она слушала музыку
- А я выпить принёс, - сказал Никита, доставая из полотняной сумки большую, как фаустпатрон, бутылку вермута.
Она молча сходила на кухню и принесла два фужера и яблоко, уже разрезанное на четыре части и нож. Никита сковырнул ножом полиэтиленовую пробку. Она пододвинула один фужер к другому, и он налил вермут и ей, и себе почти по-полной. Чокнулись, выпили. Елена надкусила яблоко. Никита ещё никогда не сидел так близко к Елене. Он видел завитки волос над её ухом, он различал запах тела, он слышал её дыхание, он углядел, что уголки её губ мокры от вермута, только что выпитого одним махом … сердце у него колотилось, словно мотоцикл в груди завели. Ах, если бы не эти фотографии!
- Ты уцелел? – Спросила Елена.
- В каком смысле?
- В том, что тебе по комсомольской линии ничего… после статьи?
- Беседовали, - с уклончивой интонацией ответил Никита. – Так, побеседовали и всё. А потом, обо мне ничего не написали…
- De mortuis aut bene, aut nihil.
- Не понял, - несколько обиженно протянул Никита.
- Это латынь. В переводе означает: «О мёртвых либо ничего, либо хорошо»
- Опять не понял.
- Ничего страшного, Никита.- Елена как-то странно улыбнулась. Такой улыбки Никита у неё никогда не видел.- Артюшку из института исключают.
- Его-то за что?
- За то, что слушал и не донёс.
- Куда не донёс? – как бы изумился Никита.
- А ты не знаешь разве, куда доносят?
- И знать не хочу! – Как топором отрубил он. - Моё дело – скотину обиходить. Вот, весной кончу ВУЗ, уеду в какую-нибудь Косорыловку, буду по ночам в сельской тиши настукивать повесть о простых людях колхозной деревни.
- Настукивать?
- Ну да! Я теперь машинкой обзавёлся.
У Никиты и впрямь появилась печатная машинка. После всей этой истории, во время последней встречи на ТОЙ квартире, Василий Степанович вручил ему новенькую машинку в сером коробе со словами: «Это тебе. Премия».
- Ты - сможешь, сказала Елена. – Ты у нас талантливый. Ты настукаешь. – Она говорила, и губы её подрагивали, и казалось, что она вот-вот заплачет. - Давай, наливай что ли…
И они снова выпили. А когда поставили пустые фужеры на столик, Никита внезапно, и даже не осознав, что это такое он делает, обхватил Елену за плечи и повалил на диван. От неожиданности она позволила себя повалить. Но тут же стала уворачиваться от мокрых Никитиных губ, и правой рукою отпихивать его лицо от своего.
Что тут сказать? А ничего тут не скажешь! Не передалось Никите отцово умение убалтывать женщин, улещивать их, услаждать бабий слух наворковыванием разных приятностей. Писать был горазд, а вот говорить с бабами…
- Пусти, дурак! - хрипела Елена надсадно, извиваясь, сколько можно, всем телом, и давила, давила Никитин подбородок от себя..
А он, навалившись на неё всем телом, правой рукою обнимая за плечи, левой – уже задрал подол халатика и норовил сдёрнуть трусики. Она уже начинала слабеть, Никита почти добился желаемого, но тут она плюнула ему прямо в глаза. Никита обмяк, отпустил её, встал, ладонью отёр слюну и сказал:
- Сука! Ему во всех позах давала, а мною брезгуешь? Сука! А я ещё тебя так любил!
- Знаешь, Никита Павлович, кхе-кхе-кхе, где теперь Елена наша Станиславовна обитает? – Подполковник затянулся и выпустил дым через ноздри. – Сроду не догадаешься.
- Не стану и догадываться…
- Так ведь ты её любил. Или нет?
- Много вы знали, товарищ подполковник…
- Служба у меня такая была – знать.
Никита замахал руками, заговорил о том, что теперь не лучше, что теперь кругом охрана и видеонаблюдение, что режим, этот режим, это всеобщее стеснение, это разобщение, эта рублёвая удавка на шее народа… О накипевшем говорил Никита Павлович, о самом-самом. Говорил о том, о чём обычно помалкивал, о чём обычно мог только зубами проскрипеть. Говорил так, как и не следовало бы говорить, да больно забориста оказалась собственного производства, настоянная на каком-то разнотравии. Диво дивное, а не напиток. Пил бы да пил, Да пришла пора притормаживать в застольях - в последнее время начал напоминать о себе организм. Стал подстукивать, подбрякивать, подвывать на слишком больших оборотах - совсем как треклятый «Жигуль». А тут на его голову подполковник Полубыков! Вот и сорвался. Чуял же Никита Павлович Боровков - писатель и публицист, ещё на рынке, сразу же, при встрече чуял, что не следует соглашаться ехать в гости. А поехал, не посмел отказаться. И от угощения отказываться не посмел Но разве дело в том: посмел или не посмел? В покладистости ли характера первопричина? Да он, Никита Павлович, ещё и сейчас кого угодно может в бараний рог согнуть. И сгибает. Хотя бы и жену, например. Писатели, кто помоложе, пожиже талантом, до сих пор перед ним на цырлах ходят, в рот заглядывают. Ждут от него похвалы или грозного порицания за то, что вильнул, сошёл со столбовой дороги русской словесности, которая ему одному, Никите Боровкову, прорисована во всех мыслимых и не мыслимых подробностях., А здесь не устоял. Прогнулся. Потому, что маленький такой вопросик к подполковнику имеет. Манюсенький! А ответ - дорогого стоит. И с вопросом , с одной стороны, спешить не следует, однако, с другой, и ответа он заждался. Заждался! Твою мать, как заждался! Сколько уж лет ждёт – ума лишиться можно! А касаемо Елены, знает он или не знает где она? Слыхивал, что она из города уезжала куда-то в Сибирь, незнай кем работала, потом возвращалась, и Никита помнил о ней, как помнят о ссадине, пока не затянется красной корочкой, пока саднит и напоминает о себе при каждом случайном касании. А потом однажды корочка отсыхает и отколупывается, даже и не замечаешь когда. И всё. Отболело. Отошло. Да и что бы ему было помнить и своё хотение, и свой конфуз, и это унизительное ощущение слюны в глаза?. Что помнить обо всём этом, и об этих людях, когда у него с той поры пошло-покатило? Вскоре вышла, как бы сама собой, книжечка с рассказами о домашней живности, и книгу эту немало хвалили, и даже чуть захваливали. Но он поверил в эту похвальбу, и даже привык понемногу к положению захваливаемого. Его повлекли в разные стороны: в президиумы всяких комсомольских конференций просиживать во втором ряду для представительства от, так сказать, творческой интеллигенции. Хоть и не пафосно во втором-то ряду, а всё-таки рядом с руководством. А за кулисами, в комнате президиума так и вовсе словечком можно переброситься, особенно если руководство на тебя очи возведёт. На семинары молодых да ранних стали приглашать, где и познакомился и сдружился он на всю оставшуюся жизнь с критиком Ванюшкой Малоедовым, с которым они вдвоём и винца попили вдосталь, и девушек из поэтической секции, как говорится, «просеминарили». А дальше ещё одна книга вышла со «взрослыми» историями из деревенской, хорошо ему знакомой жизни. А дальше – памятная поездка в составе писательско-журналистской бригады на комсомольско-молодёжную стройку химкомбината для создания коллективного сборника очерков о героях протекающей на тот момент пятилетки. А дальше – вынужденная женитьба на Альбине - толстомясенькой журналистке с радио, которая, на беду, тоже была в бригаде, и – стерва - не предохранялась. А дальше – сын, а дальше развод и отъезд в райцентр, к маме. И похаживание по вечерам - исключительно по медицинским показаниям - к одинокой лор-врачихе из райбольницы, которое ничем существенным не завершилось. А дальше, дальше, дальше… А дальше книга, про которую подполковник Полубыков говорил своей мамане, и литературно- комсомольская премия за эту книгу. Тут уж и достаток начал приходить, можно было развернуться, прикупить кооперативную квартиру и начинать жить в полную силу. И он жил. Жил, чёрт подери! Разумеется, думать не думал о Грунской Елене Станиславовне, хотя подсознательно опасался, но и надеялся подсознательно встретить на каком-нибудь литературном семинаре, что проводились с молодыми авторами. Вот бы на самом деле встретиться и посмотреть ей в глаза. И пройти мимо. Или не пройти? Или сказать нечто такое? Или покровительственно улыбнуться? Или добиться своего, додавить, и пусть плюётся, сколько хочет. Это тогда, по молодости он обмишурился, а теперь знал наверняка, что бабы есть бабы. И он своё дело сделает. Уж будьте уверены! Но она исчезла, как исчезла. Стихи что ли бросила писать? Он был уже во второй раз женат. Теперь на парикмахерше из Дома Быта, которая вся состояла из перекатывающихся под платьем окружностей. Как сам он шутил в дружеском застолье: «В сексуальном плане укомплектован сверх комплекта». Хотя при случае не прочь приударить за какой-нибудь прелестницей, если это не грозило особыми хлопотами. И про товарища Полубыкова начал забывать. Тот сгинул, исчез. Да и хрен бы с ним! Волнение подступило, когда поднялась перестроечная муть, когда рухнули, казалось бы незыблемые устои, и хлынули тёмные воды, смывавшие на своём пути всё. В том числе и ведомство, в котором служил товарищ Полубыков. С той самой поры хотелось Никите знать: а те листы, которые он своей рукой густо усеивал буковками на ТОЙ квартире, они где? Где?! Лежат-полёживают?! А ну, их извлекут? И покажут? Ведь называют же имена тех, кто сотрудничал со Штази в ГДР! И прибалты мерзостные тоже добрались до архивов и трясут, трясут бумажками, и губят людей. Да и у нас доскреблись. И до кого доскреблись! До архипастырей – не обольщайтесь, мол, люди добрые, бородами серебряными да ризами золотыми – все они, суть тьма кромешная, агенты КГБ. Тут у писателя Боровкова так подступило к горлу - слюны не сглотнуть. Он даже зачем-то пошёл на ТУ квартиру. Зачем только? Прошелся вдоль бывшего лабаза купеческого, придумав, что изучает особенности архитектуры прошлого века, если кто встретится из знакомых и спросит, зачем он тут. И к дому, где была ТА квартира, подошёл. На фронтоне, возле подворотни увидел вывеску: «Адвокаты» и стрелочку, что зазывала в подворотню. Следующая стрелка в подворотне указывала на дверь, в которую он столько раз входил. Которая была столь памятна ему, через неё, можно сказать, он начал свой путь в профессиональное писательство, будь оно неладно. Никита постоял перед дверью. Ощутил, как замолотило сердце. И не вошёл.
Продолжение следует
Павел Рыков (г.Оренбург)


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



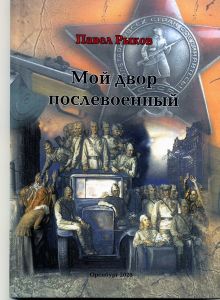

















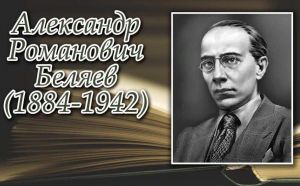








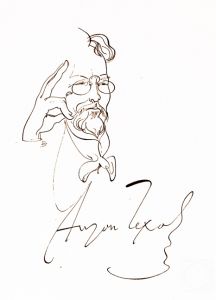





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов