V
Башмачкин мой брат? Вот это новость! С какой стати? Во-первых, удивительно, каким слухом нужно обладать, чтобы в словах «оставьте меня» расслышать слова «я брат твой»? Видимо, самым восприимчивым слухом. Подобная подмена смыслов, когда говорят одно, а слышать велят другое, напоминает мне фокус с зайцем, когда вместо ушей посаженного в шляпу зайца фокусник вытягивает две бесконечно длинных ленты. А, во-вторых, я просто возмущён навязыванием мне братства с кем бы то ни было.
Призрак Акакий мне брат? Брат по призрачности? Брат во Христе? Или как-то иначе нужно понимать это братство? Причём, даже если бы настоящий, а невыдуманный чиновник Башмачкин, буде он существовал когда-либо, был бы описан Гоголем и представлен мне как брат, я бы опешил от наглости. Вот мудрого Аввакира и стойкого Акакия, девять лет прожившего у немилостивого старца и каждодневно терпевшего от него мучения, я бы почёл за честь назвать братьями по вере, поскольку назвать их братьями по духу с моей стороны было бы слишком дерзновенно – неизвестно, захотят ли преподобные иметь такого родственничка. А картонный Акакий каким боком и по какому свойству мне брат? Нет, что-то спутал Николай Васильевич, что-то очень важное перескочил, когда писал это предложение, спеша навязать мне в братья своего персонажа.
Я, конечно, понимаю, что хотел сказать Гоголь, и в советской школе меня этому учили: Гоголь, создавая образ Акакия Акакиевича, хотел донести до читателя мысль, что не должно пренебрегать, а тем более обижать никого из людей, какого бы звания и состояния они ни были. Но, спрашивается, зачем мне читать образы и мысли Гоголя, если я не от него, а от своей бабули с детских сопливых лет знаю, что нельзя обижать никого не только из людей, но и любую тварь от комара до дерева. И не потому, что комар или берёза мне брат или сестра, а просто потому, что они – Божии.
Не обижайте никого, жалейте всех – как бы говорит Н.В. Гоголь своим персонажем. Это понятно, непонятно другое. Зачем надо было выдумывать Башмачкина, если и без него закон Божий известен всем? Зачем надо было писать повесть, когда есть Евангелие, церковь, святые отцы? Или они плохо разъясняют, как надо жить по заповедям Божиим? Или они не так доходчиво это делают в сравнении с Гоголем? Или в художественном виде закон Божий воспринимается легче? Пора, читатель, нам оттрясать душевную слепоту. Пора всколыхнуть вас вопросом: а что если причина, которой руководился Гоголь, призывая соблюдать заповедь «не обидь», не является Евангельской? «Как? - скажете вы, - разве могут быть у Евангельских заповедей не Евангельские причины?» Ещё как могут. Возьмём, к примеру, известный лозунг: «Свобода, равенство, братство». Все слова этого лозунга – Христовы, но Христа-то в них нет. Ведь мы проходили это, читатель. И «равенство», и «братство», и «свободу». Жили по Божьим нормам, но самого Бога отрицали. И Моральный кодекс вроде соблюдали, но для чего и для кого? Для себя, т.е. для построения самим себе земного рая – коммунизма. Точно так Гоголь в своей повести призывает любить Башмачкина, но не ради Бога, а ради того, что он – брат. Повеление любить – Евангельское, но выполнять его Гоголь предлагает, исходя не из Евангелия, а из человеческого соображения: «я брат твой». Это и есть заповедь наоборот, или пародия на заповедь.
Поскольку речь зашла о Евангелии, обратимся к нему, к слову Божию. В Евангелии мы находим пример унижения гораздо более трогающий душу, чем история Башмачкина. Это притча о богаче и Лазаре. Это даже не притча, поскольку в Евангелии она не названа таковой, это рассказ Господа, который начинается словами: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно (Лк. 16:19). Бедного Башмачкина толкали? Над ним смеялись? С него сорвали шинель и не позаботились вернуть её? Да что вы говорите? Какая жалость! А вот послушаете, что было с нищим Лазарем. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его (Лк. 16:20, 21). Степень унижения Лазаря – самая крайняя. Нищета Лазаря столь ужасна, что Башмачкин в сравнении с ним может быть назван баловнем судьбы. Но почему христиане должны жалеть Лазаря и соревноваться в милости к нему, т.е. не к нему, а к тем, кого Лазарь собой олицетворяет – несчастным беднякам? Потому что он брат наш? Нет. Лазарь не говорит: зачем, дескать, ты, богач, меня обижаешь, ведь я брат твой. Лазарь вообще ничего не говорит. Он молчит! Говорят только Авраам и богач. Так, Авраам говорит богачу: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь (Лк. 16:25).
Обращаясь к богачу словом «чадо», Авраам даёт понять, что и он, и Лазарь – его сыновья, стало быть, братья между собой. Т.е. то, что педалирует Гоголь, праведный Авраам даже в расчёт не берёт, потому как всеобщее людское братство принимает им как само собой разумеющееся. Да и кому это неизвестно, что все люди братья и чада одного отца – Адама? И богачу это известно. Только заботится он не о брате Лазаре (зачем ему нужен презренный пролетарий?), а о братьях-богачах. Тогда сказал он [богач]: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Обратите внимание, как этот богач витиевато выражается, почти как Гоголь. Разве трудно было сказать: пусть Лазарь скажет братьям, чтобы они не поступали с нищими, как я поступил с ним? Зачем такие пространные обороты? … пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения… Язык богача не повернулся назвать свою вину, вернее сказать, язык его вывернулся, и вместо покаяния мы слышим какую-то витиеватую речь. Что же Авраам, который есть отец всем нам (Рим. 4:16), ответил богачу? Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Вот он! Настоящий отцовский ответ. Если не слушают Евангелие, то никакому чуду не поверят, даже воскресшему мертвецу. Ну, а если воскресению не поверят, то тем более не поверят писаниям Гоголя. Так зачем Гоголь писал их? Это мы от Евангелия к нашей теме возвращаемся, читатель. Скажите, зачем нам книжки Гоголя читать? Зачем нам вообще что-либо читать, а писателю писать, если не для укрепления в вере? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим (Еф. 4:29). А для назидания в вере что может быть полезнее этих немногих стихов 16-ой главы Евангелия от Луки? Но, увы, даже эти стихи не доходят, уворачивается от них слух, как увернулся язык у богача, когда нужно было признать свою вину пред Лазарем.
Подведём некоторый итог. Как в сравнении с Евангелием, так и в сравнении с Житием мы видим, что в повести «Шинель» указываются иные нравственные ориентиры. С внешней, повествовательной стороны повесть «Шинель» побуждает читателя поступать по-Евангельски, но при внимательном чтении текста открывается, что мотивация этих с виду благочестивых поступков, оказывается не Евангельской, но земной, душевной, бесовской. Да, именно бесовской, как говорит апостол Иаков: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская (Иак. 3:15). Короче, в повести Н.В. Гоголя «Шинель» нравственное ударение смещено относительно Жития преподобного Акакия из области небесной в область земную, из духовной – в душевную. Ради чего терпит беды преподобный Акакий Синайский? Ради вечного спасения. Ради чего терпит гораздо меньшие беды чиновник Акакий Башмачкин? Ради того, чтобы вызвать в душе читателя жалость и возмущение.
VI
Выше мы говорили, что Жития святых Акакия и Аввакира не дают возникнуть в душе читающих «праведному» гневу на их обидчиков и гонителей. А вот в повести всё иначе. «Шинель» как будто подталкивает вступиться за обижаемого Башмачкина. Особенно эта история с совестливым молодым человеком, который, «по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный…». Эта история для того только, кажется, и приведена автором, чтобы вызвать в душе читателя возмущение. Перечитаем её.
«Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…». Как много букв и слов. Зачем они собраны Гоголем? Наверно, затем, чтобы пробудить в читателе совесть, как пробудилась она в описанном молодом человеке? И верно, нечто пробуждается, но совесть ли это? Лучше спросить, чья это весть, поскольку слово «совесть» происходит от слова «весть»? Ведь вести бывают разные: есть вести от Бога, а есть…
Рассмотрим, как и куда движется мысль автора. Сперва даётся описание издевательств над Башмачкиным, затем молодой человек останавливается, «как будто пронзенный», отделяется от товарищей какой-то неестественной силой, и после, как сообщает нам Гоголь, долгое время «среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу», и «много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много…». Здесь мы остановимся, чтобы не перепечатывать вторично слов осуждения. Или никакого осуждения в этом абзаце нет? Или я опять наговариваю, но уже не на героя, а на автора повести? Давайте смотреть. Поскольку Гоголь не написал ясно, где именно молодой человек видел много «бесчеловечья и свирепой грубости», то попробуем оправдать писателя. Попробуем предположить, что много всего этого молодой человек видел в себе и только в себе, и никого кроме себя не осуждал. Предположить это можно, но согласиться с этим трудно, поскольку содержание абзаца говорит об обратном: писатель переносит вину на окружение молодого человека. Даже Бога призывает в свидетели своего суда над ближним. Несчастный, не разумеет, что говорит. Или, наоборот, хорошо разумеет, для того и призывает Бога во свидетели?..
Я не ясно выразился? Давайте прояснять. Если эти слова сказаны автором от себя, то посочувствуем его духовному невежеству, поскольку далеко не так, как пишет Гоголь, учит нас Евангелие и святые отцы воспринимать дурные поступки ближнего. А если эти слова нашептаны Гоголю лукавым духом, то ужаснёмся коварству последнего, призывающего Бога во свидетели, чтобы потом клеветать на каждого, кто разделит это осуждение. Ну, а если никакого призывания не было, то грех налицо – это нарушение 4-ой заповеди Закона Божьего: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно (Исх. 20:7).
Итак, молодой человек если не прямо, то косвенно осуждает окружающих его людей, причём, делает это неоднократно, о чём автор замечает, что: «много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…». Чьи мысли мы сейчас читаем, боголюбивый читатель? Не революционера ли? Не напоминают ли они нам мысли тех людей, которые видели причину несовершенства мира не в самих себе, но в других людях, даже в тех, которых свет признаёт благородными и честными? Остаётся только подбросить в эти мысли огоньку, ну скажем, газетку террористов «Искру», чтобы последующие за ними дела вспыхнули кровавым пожаром.
Вы скажете, читатель, что теперь уже мы осуждаем молодого человека и революционеров. Тогда они, а теперь мы обвиняем, и никогда нам, революционерам и священникам, не вырваться из порочного круга взаимных обвинений, пока одни не уничтожат других окончательно. Вендетта. На ваше справедливое замечание хочу сказать, что я не для того обращаюсь к повести «Шинель», чтобы найти виноватых и пригвоздить их к доске позора. Не ищу я виноватых, потому как для учеников Христовых вопрос «кто виноват» решён давно и бесповоротно. Как святые отцы учат христиан реагировать на грехи «бесчеловечья и свирепой грубости»? Читаем авву Дорофея: «Поистине, если человек совершит и тьмы добродетелей, но не будет держаться сего пути [самоукорения], то он никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других, теряя чрез то все труды свои. Напротив, какую радость, какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя! Куда бы ни пошёл укоряющий себя, как сказал авва Пимен, какой бы ни приключился ему вред или бесчестие или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается. Есть ли что беспечальнее такого состояния?» Переживания совестливого молодого человека имеют ли что общего со словами аввы Пимена? Увы, молодой человек, хотя и был совестливым, хотя и закрывал себя рукою и много раз содрогался на своём веку, но остался без небесной мзды, потому что поистине, если человек совершит и тьмы добродетелей, но не будет держаться пути самоукорения, то он никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других, теряя чрез то все труды свои.
Это понятно. Непонятно другое. На каком основании мы высказываем молодому человеку слова святого человека, дескать, учись, как надо думать и говорить? Действительно, если авва Дорофей имел право передать слова аввы Пимена в наставление всем христианам, то какое право имею я, не понесший ни тяготы монастырского дня, ни зноя Синайской пустыни, отчитывать ими литературного персонажа, и понятно, что не персонажа даже, но его создателя? Это право даёт мне сложившаяся вокруг имени Гоголя обстановка. Прошу читателей понять, что не столько к Гоголю мы обращаемся со словами аввы Пимена, сколько, скажем так, к работникам культуры – той культуры почитания и обожания писателя, которая за полтора века лет выросла вокруг его таланта, и имя которой – кумирня. Цель возведения этой кумирни – провозглашение Гоголя гением, а стало быть, учителем русского народа и утверждение его в этом качестве на века. Эта цель велика, а значит, велик и счёт, который мы вправе предъявить тем, кто такие цели перед собой ставит. Самому Гоголю эти цели, наверняка, не нужны. Поэтому лично к Николаю Васильевичу (замечательный был человек, упокой, Господи, его душу) мы пока ничего не имеем. Но мы хотим убедиться, а правда ли, так качественен товар, как его преподносят нам рекламные агенты ВРЛ? Поэтому, хотя лучше закрыть себя рукою, подобно гоголевскому молодому человеку, при следующих ниже словах аввы Дорофея, но тот большой счёт, о котором мы говорили, не только даёт право, но и обязывает нас обратиться с ними к герою повести «Шинель» Акакию Башмачкину.
Но если кто-нибудь скажет: если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить себя? Поистине, если кто-либо испытает себя со страхом Божиим, то найдет, что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода, то верно он когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто и за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал, со страхом Божиим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным» (Поучение 7-е. О том, чтобы укорять себя, а не ближнего).
Спросим читателя: эти мысли святых отцов вложил ли Гоголь, хотя бы намёком, в голову выдуманного им Ак. Ак.? Нет, не вложил. Но, может, вы скажете: а зачем Гоголю это надо: он – художник, а не моралист. Гоголь не моралист? По-моему, он один из главных российских моралистов. Не будем называть другого большого моралиста из числа писателей, чтобы вторично не осквернять страниц этой статьи его именем. Тут опять вопрос возникает. На каком основании мы требуем от персонажей Гоголя подобия святым отцам? Гоголь – поэт, а для поэта, как для сердца девы, нет закона. По какому праву мы загоняем вдохновение в монастырскую ограду? И наоборот: не запрещает ли нам известная пословица входить в поэтическую вольницу со святоотеческим уставом? У литературы свой мир, у отцов – свой, и требовать, чтобы литература подчинилась учению отцов также невозможно, как от отцов требовать подчинения литературе. Поэтому вы сами решайте, читатель, кого избрать учителями: святых отцов или художников слова? А в том, что их наставления разнятся между собой и разнятся решительно, мы убеждаемся, читая повесть «Шинель».
Но, может быть, вы хотите сказать, что Гоголь как человек укорял себя более всех своих персонажей? Может быть. Только мы старательно подчёркиваем, что это не наше дело. В наших литературоведческих изысканиях мы личной жизни писателей не касаемся, мы рассматриваем только тексты. Гоголь, может, гораздо более меня, грешного священника, винил и сокрушал себя перед Богом, и Бог ему в том свидетель, но вот повесть… Что мы видим в ней? Мы видим, как камушек, брошенный писателем в должностное лицо в начале повести, вырастает в булыжник пролетариата в конце её.
VII
Опять читаем повесть Гоголя, самое начало. «В департаменте… но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом».
Ха-ха, мы опять потешаемся. Но давайте задумаемся, что хочет сказать автор этим абзацем? Что просьба капитана-исправника смешна? Что его тревога о гибнущих государственных устоях напрасна? И нет нужды заботиться о том, что стали появляться на свет сочинения, которые в прежние времена были немыслимы? И это неправда, что через унижение должностного лица унижаются государственные постановления? Но ведь всё это – истинная правда. В романах Достоевского живёт штабс-капитан, который, когда в трактире зашёл разговор о Боге и о том, что Его нет, сказал: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» И сказав сие, вышел. Как прав капитан Достоевского, так прав капитан Гоголя. Зачем же смеяться над последним? Зачем подвергать сомнению эту очевидную мысль, что если раздаются смешки вокруг государевых служителей, то недалеки смешки и над ним самим. Нет, я не так выразился. Смешки не недалеки, они уже налицо, потому что в смехе над капитаном сокрыт смех над государем и, следовательно, над самим Богом, потому что Им государь поставлен.
Зайдём с другой стороны. Значит, капитана-исправника унижать можно, а Акакия Акакиевича нельзя? Акакий – брат, а капитан – не брат? Где же логика? Если смеяться, то давайте смеяться над всеми: над капитаном, над Акакием, над генералом, над Гоголем… А то одних осмеиваем, а других жалеем. Это уже лицемерие, или, как нынче говорят, политика двойных стандартов. Или потому, что капитан государственное лицо, а Акакий – частное, то последний должен быть защищён от первого? Вернее сказать, поскольку частное лицо не нашло защиты у власти, то власть надо осудить, а Башмачкина поддержать? Эта, как кажется, справедливая мысль на самом деле близка к бреду. Почему? Потому что Башмачкин уже потому защищён, что существует капитан. Акакий уже потому может всласть писать свои буквы и спокойно «ложиться спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра?», что его оберегает капитан-исправник.
Что же хочет сказать автор этим абзацем? Что обосновывает? Революцию? Да, именно её, голубушку, зовёт Гоголь, и нужно сказать, что при любом государственном устройстве чтение книг с такими абзацами принесёт один и тот же плод – разрушение. Подобные абзацы шьют всем читающим и одобряющим их (смехом ли, молчанием ли) одно общее наказание – шинель арестанта. И зачем эта заговорщицкая мина, которую делает автор, когда не называет департамента, в котором служит призрак Акакий? Неужели и вправду «во избежание всяких неприятностей»? Мне кажется, что Гоголь затем только скрывает название этого департамента, чтобы «одним департаментом» (курсив автора. – Г.С.) назвать всю Россию.
Впрочем, мы хотели показать читателю, как камешек, брошенный с интеллигентским смешком в капитана-исправника, превратился к концу повести в булыжник. Этот булыжник – описание поездки значительного лица «к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения». Да-с, читатель, это уже не пьянство капитана, «не помню какого-то города», это прелюбодейство генерала столицы.
«Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: bonjour, papa. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело».
Да, задачи бывают разные… Но зачем писать о тех из них, судить о которых не наше дело? Или мы никого не судим? Мы пишем объективно, без осуждения? Пишем так, как оно есть? Этим отговоркам трудно поверить, потому что, например, в телевизоре тоже показывают жизнь, как она есть, но лучше бы там ничего не показывали. Впрочем, гоголевское предложение написано витиевато, и нельзя понять, о чем судить «не наше дело»? О том ли, почему генерал изменяет жене с такой же по возрасту и по внешности женщиной? Или о том, почему он ей изменяет? Или вообще судить о генерале не наше дело? Вы спросите: зачем нам в этих мелочах разбираться? Затем, что и здесь может быть западня.
Пиша повесть, Гоголь хотел нас чему-то научить, так? А мы, читая её, должны чему-то научиться. Только при таком отношении к литературе не будет греха празднословия ни у пишущих, ни у читающих. Чему же учит нас Гоголь этим рассказом из личной жизни генерала? Он осуждает его? Оправдывает и извиняет? Говорит, что судить его – не наше дело? По-моему, ни то, ни другое, ни третье. Зачем же тогда он написал этот абзац? Ещё могут спросить: а где у Гоголя сказано, что генерал изменял жене? Нет описания – нет преступления. Ну да, генерал чайком поехал побаловаться в другую часть города к заведённой для «дружеских отношений», т.е. для совместных чаепитий приятельнице. Или вы хотите сказать, что для доказательства измены, нужно её детальное описание? Да-а, читатель, избаловали вас телевидение и современная литература, уже воображения напрячь не хотите, всё вам подавай на блюдечке показанным и описанным. Впрочем, можно не сомневаться, что живи Гоголь в 21-м веке, его описание было бы соответствующим, но он жил в 19-ом, потому и писал так, как того требовало время.
И всё-таки, зачем было Гоголю касаться подробностей частной жизни значительного лица? Хотелось ему сказать о несправедливости, которую тот учинил в отношении Башмачкина, ну и сказал бы об этом. Зачем было Каролину Ивановну в эту историю вмешивать? По-моему, затем же, зачем в преогромнейшем томе какого-то романтического сочинения чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде… Вы скажете, что я клевещу на писателя Гоголя, что я не знаю его сердечных намерений, что не имею права судить о них и т.д. и т.п. Я, действительно, не знаю его намерений, но лишать меня права задаваться вопросами об этих намерениях, вы не имеете права, читатель. Вернее сказать, не сердечные намерения Гоголя как таковые меня интересуют. Я хочу знать: соответствуют ли его намерения духовному устроению святых отцов? Как это узнать? Сравниваем тексты.
Одно из поучений на тему, описываемую Гоголем, находим у аввы Дорофея. Что сделал святой Аммон, как однажды братия пришли к нему в смущении и сказали ему: "Пойди и посмотри, отче, у такого-то брата в келлии женщина"? Какое милосердие показала, какую любовь имела святая оная душа! Понявши, что брат скрыл женщину под кадкою, он пошел и сел на оную и велел им искать по всей келлии. Когда же они ничего не нашли, он сказал им: "Бог да простит вас". И так он постыдил их, утвердил и оказал им великую пользу, научив их не легко верить обвинению на ближнего; и брата оного исправил, не только покрыв его по Боге, но и вразумив его, когда нашел удобное к тому время. Ибо, выслав всех вон, он взял его за руку и сказал ему: "Подумай о душе своей, брат". Брат сей тотчас устыдился, пришел в умиление, и тотчас подействовало на душу его человеколюбие и сострадание старца.
Сравнивая выдуманную и невыдуманную истории, мы видим, что они учат разному. Старец покрывает грех, Гоголь открывает его. Старца просили рассудить, Гоголь сам судит то (ну, хорошо, пусть не судит – усмехается над тем), чего касаться его никто не просил. Старец заботится о грешнике и своей любовью приводит его в умиление. Гоголь тоже заботится о генерале и тоже приводит его в умиление, но отличным от старца образом, о чём мы поговорим ниже. Короче, ничего общего у поучений аввы Дорофея с поучениями Гоголя мы не находим. Чему же учат нас последние?
И опять мне могут сказать, зачем же я, священник Божий, не покрыл грех раба Божия, как это сделал авва Аммон с оступившимся братом? Зачем осуждаю Николая Васильевича? И опять я вынужден подчеркнуть, что личности Гоголя не касаюсь и говорю только о его литературе. Чему она учит? Любить? Миловать ближнего? Жить так, как святые отцы учили и жили? Нет, и ещё раз нет. Мстить – вот чему учит повесть Гоголя «Шинель».
VIII
Пришло время поговорить о посмертных похождения Башмачкина, и лучшего слова как «похождения» для его загробных дел не подобрать. Ночные налёты и грабежи, дерзкая борьба с будочниками, бандитское ограбление генерала, – это только часть дел, дошедших до писателя Гоголя и через него до нас, читателей «Шинели». А сколько ещё из посмертных злодеяний добрейшего обитателя столицы, безобиднейшего чиновника, Акакия Акакиевича Башмачкина остались сокрытыми в безвестности и ночной тьме, кто знает?
«По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы – словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели».
Мы опять смеёмся, читатель? Хочу поделиться с вами профессиональным опытом. По долгу службы мне довольно часто приходится иметь дела с умершими, отпевать и хоронить их. Так вот, уже по виду покойника можно судить о многом. Иногда он бывает светлым и умиротворённым. «Отмучился», - как говорили в старину наши благочестивые предки. Действительно, будто на минуту прилёг отдохнуть от трудов человек, а не навсегда умер. Но чаще видишь обратное, как страсти, сдерживаемые человеком при жизни, после его смерти выходят наружу и, словно победители, усаживаются на мёртвом теле в виде различных неприятных картин.
Гоголевское описание посмертной участи Башмачкина может ли смешить верующих людей? Ведь ясно же, что мучается, страдает, не находит себе покоя призрачная душа мятежного Акакия. Когда к священникам в церковь приходят за советом, как поступить, если умерший снится, прося одежды или еды, то стараешься объяснить, что не еда и одежда нужны ему, но молитвы об оставлении его грехов и помощь неимущим. Говоришь обеспокоенным и напуганным подобными снами людям, что нужно обратиться к Богу с усиленной просьбой об умилостивлении суда над усопшим. Говоришь это не от себя, но согласно многотысячелетнему опыту Церкви. А как писатель Гоголь пытается помочь мечущейся душе Башмачкина? Чем утешает, чем успокаивает её? Молитвами? Милостыней? Нет, генеральской шубой и самочинным судом, произведённым призраком Акакием в отместку над своим обидчиком.
«Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, – отдавай же теперь свою!»
Что тут говорить, читатель? Неужели осуждать писателя Гоголя за то, что тот не научил своего персонажа мудрости Псалтири: Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает (Пс. 54:23)? За то, что не остановил Башмачкина словами апостола Павла: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим. 12:19)? За то, что позволил Акакию мстить за себя и даже весьма ему в этом поспособствовал? Каким образом? Да вот таким, что не писал бы он этой душевредной истории, никто бы не знал о ней, ни Достоевский, ни все последующие писатели и читатели, вышедшие из «Шинели» и прошедшие бесславный путь от слов к делу, т.е. от мечтаний о справедливой и братской жизни к непосредственному строительству социализма в отдельно взятой стране. Не писал бы Гоголь своей повести – не научающей ни милости, ни терпению, ни смирению, но, напротив, как бы говорящей: верши сам свой суд, маленький человек, не надейся на Бога и царя, грабь награбленное, – и победа революции на 1/6 части земли, глядишь, и отодвинулась бы хоть на малое время.
Я опять преувеличиваю? Или уже каким-то иным словом вы хотите назвать мои выводы, читатель? Но прочитайте самый конец «Шинели» и согласитесь со мной, что яснее выразить революционный замысел своей повести Гоголь, если бы и захотел, не смог. «… итак, будучи бессилен, он [будочник] не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «ничего», да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте».
Призрак коммунизма, бродивший по Европе с 1848 года, о чём сообщили сочинители «Манифеста коммунистической партии», был шестью годами раньше замечен в Санкт-Петербурге. Выйдя из повести «Шинель», он направился к Обухову мосту. Призрак коммунизма, по описанию Гоголя, носил преогромные усы (ай да Гоголь! ай да прозорливец!) и такой кулак, какого у живых не найдёшь. Почему я говорю, что призрак вышел из повести, а не замечен или отражён Гоголем в ней? Потому что, согласно идеалистическим воззрениям на связь слов и дел, мыслей и поступков, литература не отражает, но двигает жизнь, не последствует, но даёт направление жизни. И обратите внимание, как верен себе автор, как не может он пройти без ядовитой шутки даже мимо будочника, благодаря службе которого Гоголь мог спокойно писать свои сочинения и получать за них неплохие гонорары.
Гоголь: «…один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен (замечу, кстати, что выражение «несколько бессилен» не имеет смысла, потому что бессилие нельзя измерить, тогда как слово «несколько» говорит о мере; почему нельзя было написать просто: очень слаб? зачем эти словесные кренделя? – Г.С.), так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, – итак, будучи бессилен…» Что последовало из этого «итак», мы читали выше.
Вернёмся к значительному лицу. Как сказалась на нём ночная встреча с призраком коммунизма, делегированным от профсоюза униженных и оскорблённых? С удовлетворением замечаем, что переговоры двух героев повести на метельной улице Санкт-Петербурга принесли свои положительные плоды, а для читателей из генералов и из более мелких чинов, плоды даже поучительные. «Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело». Генерал смирился, стал меньше важничать и больше слушать то, что ему говорят подчинённые. Но сравним эти плоды с учительной пользой от чтения Жития святого Акакия. Сделать это сравнение легко, потому что, как в повести умерший чиновник Акакий видится со своим генералом, так в Житии умерший послушник Акакий встречается со своим наставником.
Житие: Спустя пять дней после этого наставник его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорит ему: «Отче, брат Акакий умер». Но старец, услышав это, сказал ему: «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом». «Поди и посмотри», — отвечал тот. Немедленно встав, старец приходит в усыпальницу с наставником блаженного оного подвижника и взывает к нему, как бы к живому (ибо поистине он был жив и после смерти), и говорит: «Брат Акакий, умер ли ты?» Сей же благоразумный подвижник, оказывая послушание и после смерти, отвечал великому: «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Тогда старец, который был прежде наставником Акакия, пораженный страхом, пал со слезами на землю; и потом, испросив у игумена лавры келию близ гроба Акакиева, провел там остаток жизни уже добродетельно, говоря всегда прочим отцам: «Я сделал убийство».
Вот это урок! Вот это назидание всем читателям Жития. Разве может оно сравниться с уроком, который пытается преподать моралист Гоголь своей повестью? Никак. Но непонятно, о каком убийстве горюет драчливый старец, когда меняет свой образ жизни на добродетельный? Ведь его послушник жив, да ещё как жив. Под убийством, совершённым нерадивым старцем, нужно разуметь убийство его собственной души, как об этом пишет апостол Иаков: …похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть (Иак. 1:15), и апостол Павел: … возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6:23). Грех это убийство своей души, умерщвление её для вечной жизни. Стало бы, покаяние это воскресение и оживление души для жизни в Боге. Пример такого покаяния даёт нам наставник преподобного Акакия. Заметим, кстати, что его имя, как имя богача в Евангельском рассказе о Лазаре, равно как и имя значительного лица в повести Гоголя, не сохранились в истории.
Обратим также внимание на гуманность «Шинели» и негуманность Жития. О чём речь? Если Гоголь лишил генерала, повинного в безвременной кончине Акакия, всего только шубы и душевного равновесия на незначительное время, то Иоанн Лествичник лишает нерадивого наставника всей привычной для него жизни и приковывает цепями покаяния к могиле своего ученика до конца дней. И можно не сомневаться, что послушник, спасённый его дерзким нравом, теперь сам стал спасать наставника своими молитвами. Вот вам, читатель, ещё одно сравнение повести и Жития. Акакий из «Шинели» и после смерти не мог успокоиться, пока не отомстил оставшимся на земле обидчикам, тогда как Акакий из Лествицы, преодолев Божией благодатью и долгими бореньями свои страсти, стал после смерти подавать помощь всем молитвенно призывающим его в борьбе ними. Поэтому самыми подобающими словами для завершения статьи будут слова: Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами преподобного Акакия Синайского, помилуй нас и раба Твоего Николая. Аминь.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

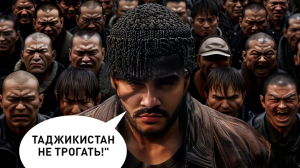

















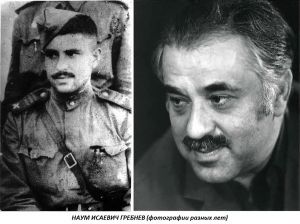






























 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Виталий Даренский
Виталий Даренский