Глава 3. Караваны невольников
Маетно ехать в вагон-заке, непереносимо в воронке, замучивает скоро и пересылка, — да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами.
Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь, прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понято в ГУЛАГе и отлично освоено: караваны краснух(красных телячьих вагонов), караваны барж, а уж где ни рельсов, ни воды — там пешие караваны (эксплуатировать лошадей и верблюдов заключённым не дают.)
Красные эшелоны всегда выгодны, когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена — и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929-31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В тридцатых годах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику Немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации — так же. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей — из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ, кто сам подъезжал туда. В 1949 так собирали Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря.
Вагон-заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымается из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага.
Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых — сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как может быть подумал читатель: что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми, — это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то надо его проконопатить и поставить печку. (Когда построен был участок железной дороги от Княж-Погоста до Ропчи, ещё не включённый в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключённых — в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зэки лежали зимой на промёрзлом снежном полу и ещё не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше, чем за сутки. Кто может в мыслях перележать там, пережить эти 18–20 часов — да переживет!) А подготовка вот какая: должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие оконца; должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужною частотой вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с пулемётами), а если площадок мало, они должны быть достроены; должны быть оборудованы всходы на крыши; должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должен быть подцеплен штабной классный вагон, а если нет его — хорошо оборудованы и утеплены теплушки для начальника караула, для оперуполномоченного и для конвоя; должны быть устроены кухни — для конвоя и для заключённых. Лишь после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там «скоропортящийся». (В "Седьмом вагоне" Евгения Гинзбург описала очень ярко этап красными вагонами и во многом освобождает нас сейчас от подробностей.)
Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важных обязательных цели: скрыть посадку от народа и терроризировать заключённых.
Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около тысячи человек (по крайней мере двадцать пять вагонов), это не маленькая группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида вместе. В Орле в 38-м году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда-нибудь! И не надейся: не модно, не модно…) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: молодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно, каждой ночью, и так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну этапа (воронки заняты на новых арестах). Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают — и вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат: такого-то здесь нет?… такого-то и такого-то нет?… И бегут к следующему, а к этому подбегают новые: такого-то нет? И вдруг отклик из запечатанного вагона: "Я! я здесь!" Или: "Ищите! он в другом вагоне!" Или: "Женщины! слушайте! моя жена тут рядом, около вокзала, сбегайте скажите ей!"
Это недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок.
И в Москве, со старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это закон.
Однако, не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила, конвой использует ночные солнца — прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужное место — туда, где арестанты испуганной кучкой сидят на земле в ожидании команды: "Следующая пятёрка — встать! К вагону — бегом!" (Только — бегом! Чтоб он не осматривался, не обдумывался, чтоб он бежал как настигаемый собаками и только боялся бы упасть.) И на эту неровную дорожку, где они бегут; и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают: они — важная театральная часть арестантского перепуга, вместе с резкими криками, угрозами, ударами прикладов по отстающим; вместе с командой "садись на землю!" (а иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади: "стать на колени!" — и как новые богомольцы, тысяча валится на колени); вместе с этой совсем ненужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону; вместе с яростным лаем собак; вместе с наставленными стволами (винтовок или автоматов, смотря по десятилетию). Главное, должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтоб у них и мысли не завязалось о побеге, чтоб они ещё долго не сообразили своего нового преимущества: из каменной тюрьмы они перешли в тонкодощатый вагон.
Но чтобы так чётко посадить ночью тысячу человек в вагоны, надо тюрьме начать выдёргивать их из камер и обрабатывать к этапу с утра накануне, а конвою весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора.
Кроме обычных перекличек, проверок, стрижки, прожарки и бани основная часть подготовки к этапу это — генеральный шмон (обыск). Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах и собственными оперативно-боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключённым ничего способствующего побегу: отобрать всё колющее-режущее; отобрать всевозможные порошки (зубной, сахарный, соль, табак, чай), чтобы не был ими ослеплён конвой; отобрать всякие верёвки, шпагат, ремни поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге (а значит — и ремешки! и вот отрезают ремешки, которыми пристёгнут протез одноногого — и калека берёт свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями). Остальные же вещи — ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон — камеру хранения, а в конце этапа возвращены владельцу.
Но слаба, не натяжна власть московской инструкции над вологодским или куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции: по справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. "Сесть на землю!", "стать на колени!", "раздеться догола!" — в этих уставных конвойных командах заключена коренная власть, с которою не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск (Куйбышев, лето 1949). Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг — множество настороженных вооружённых солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах — настроение, когда человек перестаёт уже заботиться о своих вещах. Конвой всё делает нарочито-резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача — напугать и подавить. Чемоданы вытряхиваются (вещи на землю) и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские «ценности» все отбираются и, безымянные, бросаются в тут же стоящую бочку. (И именно то, что это — не сейф, не сундук, не ящик, а бочка — почему-то особенно угнетает голых, и кажется бесполезным протестовать.) Голому впору только поспевать собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки? Можешь сдать, кидай вот сюда, распишись в ведомости! (не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу!) И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами уже в сумерках, арестанты видят, как конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересылочная придурня' .
Вот чего вам стоило за сутки добраться до телячьего вагона! Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем.
Если в вагоне есть блатные (а их не отделяют, конечно, и в красных эшелонах), они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев,[169] в лютый мороз на их «теплушку» на всю дорогу от Воронежа до Котласа (это несколько суток) в 1949 году выдали три ведра угля! Тут уж блатные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у фраеров все тёплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. Подохни ты сегодня, а я завтра! — Чуть хуже с едой — весь паёк вагона принимают извне блатные и берут себе лучшее или по потребности. Лощилин вспоминает трёхсуточный этап Москва-Переборы в 1937 году. Из-за каких-нибудь трёх суток не варили горячего в составе, давали сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селёдку разрешали делить; значит были не голодны. Когда паёк горячий, а воры на подсосе , они же делят и баланду (трёхнедельный этап Кишинёв-Печора, 1945). При всём том не брезгуют блатные в дороге и простой грабиловкой: увидели у эстонца зубы золотые — положили его и выбили зубы кочергой.
Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание: на глухих станциях (опять-таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или (как в том же кишинёвском эшелоне) наливают баланду в те самые вёдра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем! — потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или принеся баланду и кашу на вагон, мисок дают с недостатком, не сорок, а двадцать пять, и тут же командуют: "Быстрей, быстрей! Нам другие вагоны кормить, не ваш один!" Как теперь есть? Как делить? Всё разложить справедливо по мискам нельзя, значит надо дать на глазок да поменьше, чтоб не передать. (Первые кричат: "Да ты мешай, мешай!", последние молчат: пусть будет на дне погуще.) Первые едят, последние ждут — скорей бы, и голодны, и баланда остывает в бачке, и снаружи уже подгоняют: "ну, кончили? скоро?" Теперь наложить вторым — и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить её хоть на двоих в одну миску. Всё это время сорок человек не столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются.
Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят — но и спать же не дадут. Днём конвоиры хорошо видят весь поезд и минувший путь, что никто не выбросился вбок и не лёг на рельсы, ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулаговский стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона: не управились ли её уже выпилить? А на некоторых остановках распахивается дверь вагона. Свет фонарей или даже луч прожектора: "Проверка!" Это значит: вспрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут — в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками (а другие с автоматами ощерились полукругом извне) и показали: налево! Значит, левые на местах, правые быстро перебегай туда же, как блошки, друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался — тех молотками по бокам, по спине, бодрости поддать! Вот конвойные сапоги уже топчут ваше нищенское ложе, расшвыривают ваши шмотки, светят и простукивают молотками — нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посредине и начинают со счётом пропускать вас слева направо: "Первый!.. Второй!.. Третий!.." Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем, но так бы страху не было, а наглядней, безошибочней, бодрей и быстрей — отстукивать этот счёт всё тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придётся. Пересчитали, сорок. Теперь ещё расшвырять, осветить и простучать левую сторону. Всё, ушли, вагон заперт. До следующей остановки можете спать. (Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым — из красных вагонов бегут, умеючи. Вот простукивают доску — а её уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видят: среди небритых лиц несколько бритых. И с автоматами окружают вагон: "Сдать ножи!" А это мелкое пижонство блатных и приблатнённых: им «надоело» быть небритыми, и вот теперь приходиться сдать мойку — бритву.)
От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем (1942) — вся насыпь была уложена трупами, лишь немногие доехали живыми. Зимами 1944-45 и 1945-46 годов в посёлок Железнодорожный (Княж-Погост), как и во все главные узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых территорий — то прибалтийский, то польский, то немецкий, то наши из Европы, — шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная (Унжлаг) сколько раз, дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мёртв: не вылез, значит и мёртв.
Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для двадцати пяти печек. Но и в жару ехать не так-то сладко: из четырёх малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один вагон-зак. Лучшие месяцы этапов поэтому считаются у арестантов — апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идёт эшелонтри месяца (Ленинград-Владивосток, 1935). А если надолго так он и рассчитан, то продумано в нём и политическое воспитание бойцов конвоя и духовное призрение заключённых душ: при таком эшелоне в отдельном вагоне едет кум — оперуполномоченный. Он заранее готовился к этапу ещё в тюрьме, и люди по вагонам рассованы не как-нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона и в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызвать из вагона одного и другого, выспрашивает, о чём там в вагоне говорят. Уж такому оперу стыдно окончить путь без готовых результатов — и вот в пути он закручивает кому-нибудь следствие, смотришь — к месту назначения арестанту намотан и новый срок.
Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспересадочностью, этот красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли! Скорей бы уж приехать.
Человек — это надежда и нетерпение. Как будто в лагере будет опер снисходительнее или стукачи не так бессовестны — да наоборот! Как будто когда приедем — не с теми же угрозами и собаками нас будут сошвыривать на землю: "Садись!" Как будто если в вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то уж мы и доехали до самого места, а нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. (А как на открытых платформах везти? как конвоировать? — задача для конвоя. Вот как: велят нам скрючиться, повалом лечь и накроют общим большим брезентом, как матросов в «Потёмкине» для расстрела. И за брезент ещё спасибо! Оленёву с товарищами досталось на Севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день: их погрузили уже, а паровоз не слали. Сперва пошёл дождь, он перешёл в мороз, и лохмотья замерзали на зэках.) Поездочек на ходу будет кидать, борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросит под колёса. А вот загадка: от Дудинки ехать узкоколейкой 100 километров в полярный мороз и на открытых платформах — так где усядутся блатные? Ответ: в середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под рельсы не свалиться. Верно. Ещё вопрос: а что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки (1939)? Будут ли там здания? Нет, ни одного. Землянки? Да, но уже заполненные, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет, потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. — А жить? — Чту жить?… Ах, жить… Жить — в палатках.
Но не всякий же раз ещё и на узкоколейке?… Нет, конечно. Вот приезд на самое место: станция Ерцево, февраль 1938. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разожжены костры и при них происходит выгрузка на снег, счёт, построение, опять счёт. Мороз — минус тридцать два градуса. Этап — донбасский, арестованы были все ещё летом, поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях. Пытаются греться у костров — их отгоняют: не для того костры, для света. С первой же минуты немеют пальцы. Снег набился в лёгкую обувь и даже не тает. Никакой пощады, команда: "Становись! разберись!.. шаг вправо… шаг влево… без предупреждения… Марш!" Взвыли на цепях собаки от своей любимой команды, от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках — и обречённые в летнем платьи пошли по глубокоснежной и совершенно не проторенной дороге — куда-то в тёмную тайгу. Впереди — ни огонька. Полыхает полярное сияние — наше первое и наверно последнее… Ели трещат от мороза. Разутые люди мерят и торят снег коченеющими ступнями, голенями.
Или вот приезд на Печору в январе 1945. ("Наши войска овладели Варшавой!.. Наши войска отрезали Восточную Пруссию!"). Пустое снежное поле. Вышвырнутых из вагонов посадили в снегу по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали шесть километров по снежной целине. Этап тоже с юга (Молдавия), все — в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, и они толкали зэков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылки (в ряду этом шли два священника — старый седовласый о. Фёдор Флоря и поддерживавший его молодой о. Виктор Шиповальников). Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок! — ведь укусить как хочется!
Наконец, дошли. Приёмная лагерная баня: раздеваться в одном домике, перебегать через двор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже всё можно перенести: отмучились от главного. Теперь-то — приехали! Стемнело. И вдруг узнаётся: в лагере нет мест, к приёму этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками — и опять, волоча свои вещи, всё те же шесть километров, только уже во тьме, они месят снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки выстыли, в них не осталось даже прежнего жалкого тепла, да к концу пути и уголь весь сожжён, и взять его сейчас негде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухой тарани (а кто хочет пить — жуй снег) — и повели опять по той же дороге.
И это ещё случай — счастливый! — ведь лагерь-то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов приходить в пустоту, конец этапа нередко становится днём открытия нового лагеря, так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на ели дощечку: "Первый ОЛП" (Отдельный Лагерный Пункт). Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом.
А если лагерь образовался хоть две недели назад — это уже комфорт, уже варят горячее, и хоть нет мисок, но первое и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы, шестёрка становится кружком (столов и стульев тоже нет), двое держат левыми руками банный таз за ручку, а правыми в очередь едят. Повторение? Вогвоздино? Нет, это Переборы, 1937 год, рассказ Лощилина. Повторяюсь не я, повторяется ГУЛАГ.
…А дальше дадут новичкам бригадиров из старых лагерников, которые быстро их научат жить , поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы Эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный Акатуй с тремя днями отдыха прибывшим.[170]
* * *
Постепенно расцветает хозяйство Архипелага, протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водою плыли. Но живы ещё туземцы, кто расскажут, как плыли по реке Ижме ну в настоящих древнерусских ладьях, по сто человек в ладье, сами же и гребли. Как по рекам Печоре и Усе добирались к родному лагерю — шнягами. И на Воркуту-то гнали зэков на баржах: до Адзьвавум на крупных, а там был перевалочный пункт Воркутлага, и оттуда уже — на мелководной барже десять дней, вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, то переволоками, то пешими перегонами.
И были там пересылки свои — жердевые, палаточные — Усть-Уса, Помоздино, Шелья-Юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвойные правила и, конечно, свои особые команды, и особые хитрости конвоя, и особые тяготы зэкам. Но уж видно той экзотики нам не описать, так не будем и браться.
Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны — и только так можно было управиться сбросить всю эту серую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом — то ли чтоб не видеть, то ли чтоб лучше охранить, не от дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив в тундру — уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой.
Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими освобождённые западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме стояливплотную — и это не одни сутки. Мочились в стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор, а что пристигало серьёзнее — то шло в штаны.
Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30-х годах навесы, и под этими навесами в холодные сибирские вёсны дрогли по суткам и по двое арестанты, ждущие перевозки.[171] Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — трёхэтажный, тёмный. Только через колодец проёма, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах 37-38-го, 44-45-го (а смекнём, что и в промежутке) вниз, в трюм, не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на «этажах» лежат вповалку в две длины: один ряд головами к бортам, другой к ногам первого ряда. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешают вынести вовремя (бочку с нечистотами по крутым трапам наверх — это надо представить!), они переполняются, жижа течёт по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат. Кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники — из заключённых же, и там, в вечной тьме (сегодня, может быть, есть электричество) при свете "летучих мышей" раздают. Такой этап до Дудинки иногда продолжался месяц. (Сейчас, конечно, могут управиться за неделю.) Из-за мелей и других водных задержек поездка, бывало, растягивалась, взятых продуктов не хватало, тогда несколько суток не кормили совсем (и уж конечно "за старое" никто потом не отдавал).
Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап проходит трудно, то без стеснения отметают святой костыль (отбирают пайку у серой скотинки). Долгую дорогу воры коротают в карточной игре: карты для этого они делают сами, а игральные ставки собирают себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех, лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое-то время проигрываются и перепроигрываются между ворами, потом сплавляются наверх, конвою. Да, читатель всё угадал: конвой на крючке у блатных, ворованные вещи берёт себе или продаёт на пристанях, блатным же взамен приносят поесть.
А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали сопротивление блатным ( сукам ), которых было человек около восьмидесяти (и, как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на владивостокской пересылке «Три-десять», они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщиков, все потайки знают, но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё. Зная это, они уже в трюме обманом объявили: "У кого есть деньги — можно купить махорки." И Мишка Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Сука Володька-Татарин крикнул ему: "Ты что ж, падло, налогов не платишь? " И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) оттолкнул его. Володька-Татарин сделал рогатку в глаза, Павел сбил его с ног. Подскочило сук сразу человек 20–30, а вокруг Грачёва и Павла встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан; Серёжа Потапов; Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью), или помешала им близость часового (это было под самым люком), а они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи — они ехали перехватить у честных воров Александровскую пересылку (ту самую, которую описал нам Чехов) и Сахалинскую стройку (не затем перехватить, разумеется, чтобы строить) — но они отступили, ограничась угрозой: "На земле — мусор из вас будет!" (Бой так и не состоялся, и «мусора» из ребят не сделали. На Александровской пересылке сук ждала неприятность: она уже была захвачена "честными".)
В пароходах, идущих на Колыму, устраивается всё похоже, как и в баржах, только всё покрупнее. Ещё и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое-кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией «Красина» весной 1938 в нескольких старых пароходах-галошах — «Джурма», «Кулу», «Невострой», «Днепрострой», которым «Красин» пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах три яруса, но ещё на каждом ярусе — двухэтажные нары из жердей. Не всюду было темно: кое-где коптилки и фонари. Отсеками поочерёдно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли по три-четыре тысячи человек. Весь рейс занял больше недели, за это время заплесневел хлеб, взятый во Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 граммов до 400. Кормили рыбой, а питьевой воды… Ну да, да, нечего злорадствовать, с водой были временные трудности . По сравнению с речными этапами здесь ещё были штормы, морская болезнь, обессиленные измождённые люди блевали, и не в силах были из этой блевотины встать, все полы были покрыты её тошнотворным слоем.
По пути был некий политический эпизод. Суда должны были пройти пролив Лаперуза — близ самых Японских островов. И вот исчезли пулемёты с судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам ещё из Владивостока было предусмотрительно записано, что везут, упаси боже, не заключённых, а завербованных на Колыму. Множество японских судёнышек и лодок юлили около кораблей, не подозревая. (А с «Джурмой» в другой раз, в 1939, такой был случай: блатные из трюма добрались до каптёрки, разграбили её, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из «Джурмы» дым, японцы предложили помощь, — но капитан отказался и даже не открыл люков! Отойдя от японцев подале, трупы задохнувшихся от дыма потом выбрасывали за борт, а обгоревшие полуиспорченные продукты сдали в лагеря для пайка заключённых.)
С тех пор идут десятилетия, но сколько случаев на мировых морях, где кажется не зэков уже возят, а советские граждане терпят бедствие, — однако из той же закрытости, выдаваемой за национальную гордость, отказываются от помощи! Пусть нас акулы лопают, только б не вашу руку принять! Закрытость и есть наш рак.
Перед Магаданом караван застрял во льду, не помог и «Красин» (было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу). Второго мая выгрузили заключённых на лед, не дойдя берега. Приезжим открылся маловесёлый вид тогдашнего Магадана: мёртвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков да двухэтажное здание Дальстроя. Всё же играя висправление , то есть делая вид, что привезли не кости для умощения золотоносной Колымы, а временно-изолированных советских граждан, которые ещё вернутся к творческой жизни, — их встретили дальстроевским оркестром. Оркестр играл марши и вальсы, а измученные полуживые люди плелись по льду серой вереницей, волокли свои московские вещи (этот сплошь политический огромный этап почти ещё не встречал блатных) и несли на своих плечах других полуживых — ревматиков или безногих (безногим тоже был срок).
Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет читать, потому что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут грузовиками на сотни километров, и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках.
Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках, тут их будуткомиссовать , то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными). И ещё, конечно, их поведут в баню и в предбаннике велят им оставить их кожаные пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна, бурки, сапоги, валенки (ведь это приехали не тёмные мужики, а партийная верхушка — редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии, уж они все в начале тридцатых годов знали толк в вещах). "А кто будет охранять?" — усумнятся новички. "Да кому нужны ваши вещи? — оскорбится обслуга. — Заходите, мойтесь спокойно." И они зайдут. А выход будет в другие двери, и там они получат чёрные хлопчатобумажные брюки и гимнастёрки, лагерные телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. (О, это не мелочь! Это расставание со своей прежней жизнью — и со званиями, и должностями, и гонором.) "А где наши вещи?!" — взвопят они. " Ваши вещи — дома остались! — рявкнет на них какой-то начальник. — В лагере не будет ничего вашего! У нас в лагере — коммунизм! Марш, направляющий!"
Но если «коммунизм» — что ж тут им было возразить? Ему ж они и отдали жизни…
* * *
А ещё есть этапы — на подводах и просто пешие. Помните, в «Воскресении» — гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала. В Минусинске же, в 194…, после того, как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет, — вывели, построили и погнали двадцать пять километров до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, ни даже главы его, об этом написано не будет: на погосте живучи, всех не оплачешь.
Пеший этап — это дедушка железнодорожного, дедушка вагонного и дедушка краснух. В наше время он всё меньше применяется, только там, где ещё невозможен механический транспорт. Так из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участке доставляли осуждённых до краснух (женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтоб не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик — живого ли, мёртвого). Так в 30-е годы отправляли с Котласской пересылки каждый день этап в сто человек до Усть-Выми (около 300 километров), а иногда и до Чибью (более пятисот). Однажды в 1938 гнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день 25 километров. Конвой шёл с одной-двумя собаками, отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заключённых, котёл и продукты везли сзади на подводах, и этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были и этапные избы — разорённые дома раскулаченных с выбитыми окнами, сорванными дверьми. Бухгалтерия Котласской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически-расчётное время, если всё в пути будет гладко, и никогда ни на день лишний (общий принцип всякой нашей бухгалтерии). При задержках же в пути — продукты растягивали, кармливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничем. Здесь было некоторое отступление от классики.
В 1940 этап, где шёл А. Я. Оленёв, после барж погнали пешком по тайге (от Княж-Погоста на Чибью) — и вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил — собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу брюками и поедали живой. (И с какой-то поляны им объявили: тут будете строить железную дорогу Котлас-Воркута!)
И в других местах нашего европейского Севера пешие этапы гонялись до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами проложенным, не побежали весёлые красные вагоны, везя вторичных арестантов.
У пеших этапов есть своя техника, её разрабатывают там, где приходится перегонять почасту и помногу. Когда таёжной тропой ведут этап от Княж-Погоста до Весляны, и вдруг какой-то заключённый упал и дальше идти не может — то делать с ним? Разумно подумайте — что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку — стрелков мало, заключённых много. Значит?… Стрелок остаётся с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно, уже один.
Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабаса в Спасск. Всего там 35–40 километров, но прогнать надо в один день и человек тысячу зараз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той предсмертною нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, — но палки? но неутомимой палки, всё снова бьющей их по чём попало? — палки они побоятся и пойдут! Это проверено, это — так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от неё в пятидесяти метрах, но ещё и внутренней цепью солдат не вооружённых, но с палками. Отстающих бьют (как впрочем, предсказывал и товарищ Сталин), бьют и бьют — а они иссиливаются, но идут! — и многие из них чудом доходят! Они не знают, что это — палочная проверка , и что тех, кто уже и под палками всё равно лёг и не идёт — тех забирают идущие сзади телеги. Опыт организации! (Могут спросить: а почему бы не сразу всех на телеги?… А где их взять, и с лошадьми? У нас ведь трактора. Да и почём ныне овёс?…) Эти этапы густо шли в 1948-50 годах.
А в 20-е годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова-на-Дону их гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда "…открывает огонь без предупреждения!" тогда звучала иначе, опять-таки из-за другой техники: ведь конвой часто бывал только с шашками. Командовали так: "шаг в сторону — конвой стреляй, руби!" Это сильно звучит — "стреляй, руби!" Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади.
Да даже и в 1936 в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами, в самотканных зипунах, в лаптях и онучах — "Русь уходящая"… И вдруг наперерез — три автомобиля с председателем ВЦИКа Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался.
Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колес? Это идут вагон-заки. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков. Всё время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых.
Мы пересмотрели все способы доставки — и нашли, что все они — хуже. Мы оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, — ложная надежда.
В лагере будет — хуже.
Глава 4. С острова на остров
А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архипелага. Это называется —спецконвой . Это — самый нестеснённый вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достаётся немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза.
Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом , который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядчик чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются отрезки пути (тем более разительные). Например, едет латыш Бернштейн по спецнаряду с Севера на нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут "шаг вправо, шаг влево…" — и вдруг ссаживают на маленькой станции Занзеватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: "Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтрева пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь." И Анс — гуляет. Да вы понимаете ли, что значит — гулять человеку, у которого срок десять лет, который уже с жизнью прощался сколько раз, у которого сегодня утром ещё был вагон-зак, а завтра будет лагерь, — сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масла и дынь, собираются уходить. Он идёт вбок три, четыре и пять шагов, и никто не кричит ему: "стой!", он не верящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет.
А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не садиться и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще-то, предупреждает он, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако, поедемте просто , держитесь легко, не давайте понять, что вы — заключённый. (Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности и интересы государства полностью совпадают.)
Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами (от хватки инструмента они у меня перестали разгибаться) жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвёл меня от развода и со внезапным уважением сказал: "Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел…"
Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: "навешивать будут новый срок", другие говорили: "на освобождение". Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учётные карточки ГУЛАГа (после войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли). Важнейшая графа там была «специальность». И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности: «парикмахер», «портной», «кладовщик», «пекарь». А я прищурился и написал: "ядерный физик". Ядерным физиком я отроду не был, только до войны слушал что-то в университете, названия атомных частиц и параметров знал — и решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал, забыл.
Это — глухая, совершенно недостоверная, никем не подтверждённая легенда, которую нет-нет да и услышишь в лагерях: что где-то в этом же Архипелаге есть крохотные райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был — молчит, не высказывается. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах, ниже как сметаной и яйцами там не кормят; там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная.
И вот на те-то райские острова (в арестантском просторечии — шарашки ) я на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю (уж есть о них роман). Вот с тех-то островов с одного на другой, со второго на третий меня и перевозили спецконвоем: двое надзирателей да я.
Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем.
Ты окунаешься в гущу воли , толкаешься в станционном зале. Успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском «диване» и слушаешь странные и ничтожные разговоры: о том, что какой-то муж бьёт жену или бросил её; а свекровь почему-то не уживается с невесткой; а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног; а кто-то кому-то мешает по службе; а кого-то зовут в хорошее место, но он не решается на переезд: как это с места сниматься, легко ли? Ты всё это слушаешь — и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове: тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной! мера всех слабостей и страстей! — а этим грешникам никак не дано её увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими.
И — незаполнимая бездна между вами! Ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи: ведь ты — дух, ты — призрак, а они — материальные тела.
Как же внушить им — прозрением? видением? во сне? — братья! люди! Зачем дана вам жизнь?! В глухую полночь распахиваются двери смертных камер — и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селёдки горькими языками сухие губы, они грезят о счастьи распрямлённых ног, об успокоении после оправки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля — и лишь тогда в неё закапывают кости умерших за зиму. А у вас — под голубым небом, под горячим солнцем есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя — какое ж электричество в коридоре? при чём тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки её — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти!..
Но конвоиры поглаживают в карманах чёрные ручки пистолетов. И мы сидим втроём рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья.
Я тру лоб, я закрываю глаза, открываю — опять этот сон: никем не конвоируемое скопище людей. Я твёрдо помню, что ещё сегодня ночевал в камере и завтра буду в камере опять. А тут какие-то контролёры со щипчиками: "Ваш билет!" — "Вон, у товарища."
Вагоны полны (ну, по-вольному «полны» — под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят). Мне сказано — держаться просто, я и держусь куда проще: увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюблёнными глазами за мной следят. В Переборах освобождается место через столик против меня, но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке, меховой шапке, с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал: лагерного изготовления, mаdе in Архипелаг.
"Фу-у-уф", — отдувается парень. Света мало, но вижу: он раскраснелся весь, посадка была с дракой. И достаёт флягу: "Пивка выпьешь, товарищ?" Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе: не должен же я пить алкогольного, нельзя! Но — держаться надо просто. И я говорю небрежно: "Да налей, пожалуй." (Пиво?? Пиво!! За три года я его не выпил ни глоточка! Завтра в камере буду хвастать: пиво пил!) Парень наливает, я с содроганием пью. Уже темно. Электричества в вагоне нет, послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок, на четыре купе сразу: на два вперёд и два назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как ни перегибается мой конвоир — ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане — открытка домой. Сейчас объясню моему простецкому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам сидел. Но он опережает меня: "Знаешь, еле отпуск выпросил. Два года не пускали, такая служба собачья." — "Какая же?" — "Да ты не знаешь. Я — асмодей , голубые погоны, никогда не видал?" Тьфу, пропасть, как же я сразу не догадался: Переборы — центр Волголага, а чемодан он изнудил из зэков, бесплатно ему сделали. Как же проткало это нашу жизнь: на два купе два асмодея уже мало! — третий сел. А может и четвёртый где притаился? А может они в каждом купе?… А может ещё кто из наших едет спецконвоем?…
Мой парень всё скулит, жалуется на судьбу. Тогда я возражаю ему загадочно: "А кого ты охраняешь, кто по десять лет ни за хрен получил — тем легче?" Он сразу оседает и замолкает до утра: в полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком-то полувоенном — шинель, гимнастёрка. Он думал — просто вояка, а теперь шут его знает: может я — оперативник? беглецов ловлю? зачем я в этом вагоне? а он лагеря при мне ругал…
Огарок в фонаре заплывает, но всё ещё горит. На третьей багажной полке какой-то юноша приятным голосом рассказывает о войне — настоящей, о какой в книгах не пишут, был сапёром, рассказывает случаи, верные с правдой. И так приятно, что вот незаграждённая правда всё же льётся в чьи-то уши.
Мог бы рассказать и я… Я бы даже хотел рассказать!.. Нет, пожалуй уже не хочу. Четыре года моей войны как корова слизнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. Два года здесь , два года Архипелага, затмили для меня фронтовые дороги, всё затмили. Клин вышибается клином.
И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую: уста мои немы: мне нечего делать среди них, мне — связанно здесь. Хочу — свободной речи! хочу — на родину! хочу — к себе на Архипелаг!
Утром я забываю открытку на верхней вагонной полке: ведь будет кондукторша протирать вагон, снесёт её в ящик, если человек…
Мы выходим на площадь с Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички, Москвы не знают. Поедем трамваем «Б», решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки — свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берём. Старика не пускают: не инвалид, через заднюю влезешь!
Мы подъезжаем к «Новослободской», сходим — и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне, хотя четвёртый раз уже меня в неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала! Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары, как домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери — и ничто мне, что сейчас поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: "Фамилия? имя-отчество?… год рождения?…"
Фамилия!.. Я — Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — неподвластна им.
Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введён буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине (все камеры такие), с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом — и встречу не известных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть.
А на мисках будет выбито (чтоб на этап не увезли): «Бутюр». Санаторий Бутюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, мало известный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить два-три килограмма. В санатории же Бутюр, совсем под боком, любой бы из них похудел на полпуда в неделю безо всяких упражнений.
Это — проверено. Это не имело исключений.
* * *
Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, — та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, Архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на всё то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в Архипелаге — добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше двенадцати миллионов (одни уходили в землю, Машина приволакивала новых). И не больше половины из них было политических. Шесть миллионов? — что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Немудрено же, попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись — и обязательно найдёшь с однокамерниками общих знакомых. (Да что там, если Долган, в одних одиночках год пересидев, попадает после Сухановки, после рюминских избиений и больницы, в лубянскую камеру, называет себя — и шустрый Ф. сразу ему навстречу: "А-а, так я вас знаю!" — "Откуда? — дичится Долган. — Вы ошибаетесь." — "Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергало. Я был на воле и читал.")
Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького (не новичка — тот входит подавленно, смущённо, а уже сиделого зэка). И сам люблю входить в новую камеру (впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил) — беззаботная улыбка, широкий жест: "Здорово, братцы! — Бросил свой мешочек на нары. — Ну, какие новости за последний год в Бутырках?"
Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови, лови: на Красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин…
— Позвольте, не полярный лётчик?
— Да-да, его имени…
— …остров в Таймырском заливе. А сам он сидит по 58–10. Так скажите, значит пустили его в Дудинку?
— Откуда вы знаете? Да.
Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда может быть и не встречу, но деятельная память всё отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил червонец , а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира (это же — негулаговский остров). Его взяли на авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север. Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это — ни за чем, но я все запомнил. А через десять дней я окажусь в одном бутырском банном боксе (есть такие премиленькие боксы в Бутырках с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать) ещё с неким Р. Этого Р. я тоже не знаю, но оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на рыбинскую шарашку. Ещё три дня — и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф: внимание, память и встречи.
А этот симпатичный мужчина в роговых очках? Гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта:
И юность вновь гнетёт меня,
И долог путь к могиле…
— Царапкин, Сергей Романович.
— Позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог? Невозвращенец? Из Берлина?
— Откуда вы знаете?
— Ну как же, мир тесен! В сорок шестом году с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским…
…Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?… Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному "распоряжению министра внутренних дел". Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75-ю камеру. Освещённая из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подёргивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света. Остро пахла параша — разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек восемьдесят. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был ещё кусочек свободного пола, и я лёг. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня.
По команде "Подъём!", выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать — новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: обычный поток свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь специалистов — физиков, химиков, математиков, инженеров-конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты. (Тут я успокоился, что министр не будет мне доматывать срока.) Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закруглённым под ястреба:
— Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно?
Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесенная с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не видел? Пустой вопрос, конечно, нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе.
После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допонять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке — незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович всё это у меня отбирал, и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из лос-аламосской группы.
Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух-дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том (а может быть и зная), имел смелость написать для канадского журнала: "Русская биология не отвечает за Лысенко, русская биология — это Тимофеев-Ресовский" (во время разгрома биологии в 1948 Жебраку это припомнили). Шрёдингер в брошюре "Что такое жизнь" нашёл место дважды процитировать Тимофеева-Ресовского, уже давно сидевшего.
А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую учёные следующих поколений даже и не хотят иметь (или изменились возможности охвата?). Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — боковой потомок Степана Разина, и эта казацкая могута очень в нём чувствовалась — в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.
А история была та, что в 1922 году немецкий учёный Фогт, создавший в Москве Институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев-Ресовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, не ограниченную временем. Хоть они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели собственно в науке, и когда в 1937 (!) году им велели вернуться на родину, это оказалось для них инерционно-невозможным: они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, ещё не могли потому, что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою пятнадцатилетнюю работу в Германии, и только это дало бы им право существовать (да и дало ли бы?). Так они стали невозвращенцами, оставаясь однако патриотами.
В 1945 советские войска вошли в Бух (северо-восточное предместье Берлина), Тимофеев-Ресовский встретил их радостно и целеньким институтом: всё решалось как нельзя лучше, теперь не надо расставаться с институтом! Приехали представители, походили, сказали: — У-гм, пакуйте всё в ящики, повезём в Москву. — Это невозможно! — отпрянул Тимофеев. — Всё погибнет! Установки налаживались годами! — Гм-м-м… — удивилось начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивные, они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но да восторжествует генеральная линия! На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники родины (е?), дали по десять лет, и теперь президент научно-технического общества 75-й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки.
В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие: даже тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтоб он там её разостлал, затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходят, пол под нарами подметается разве что в месяц раз, руки помоешь ты только на вечерней оправке, да и то без мыла, — нельзя сказать, чтоб тело своё ты ощущал как сосуд Божий. Но я был счастлив! Там, на асфальтовом полу под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок счастлив. Правильно высказал Эпикур: и отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после десятичасового рабочего дня, после холода, дождей, с наболевшей спиной — о, какое счастье целыми днями лежать, спать и всё-таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день — из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово — санаторий Бутюр.
Спать! — это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать! Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердца — а срок идёт, а срок идёт! Когда трещит и брызжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость восемь часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадёжены — благословение тебе, сон четырнадцатичасовой!
Но в той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперёд, за это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше, уже на нары, и на нарах дошёл до арки. Я уже мало спал — хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги (их, путёвых, три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут прогулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий как лесное озеро. Эн-те-эсовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз — и я выступаю на защиту, ведь я марксист. Ещё год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался! Но этот первый арестантский год наслоился во мне — когда это произошло? я не заметил — столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить: их нет! это буржуазная ложь! Теперь я должен признавать: да, они есть. И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя.
И опять идут пленники, пленники, пленники — поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты — из Европы и из Маньчжурии. С эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого-то знаете? Конечно знает. (Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича.)
И старый немец — тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда-то (двести лет назад?) заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир!.. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить осталось меньше гораздо… И ещё другой немец — долговязый, молодой, но оттого ли что по-русски ни слова не знает — безотзывный. Его и за немца не сразу признаешь: немецкое с него содрали блатные, дали на сменку вылинявшую советскую гимнастёрку. Он — знаменитый немецкий ас. Первая его компания была — война Боливии с Парагваем, вторая — испанская, третья — польская, четвёртая — над Англией, пятая — Кипр, шестая — Советский Союз. Поскольку он — ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей! — военный преступник, 10 лет и 5 намордника. — И, конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): "Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдёте!" — "И ты же, собака, на удобрение!" — кричат ему. — "Нет, моё дело пересмотрят, я осуждён невинно!" Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки: "Дети мои, помиримся!.. Дети мои!" Воют и ему: "В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!" Только — сыновья ГУЛАГа.
После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе. Тут и курили во все лёгкие! Дым заполнял камеру, колебался как туман, в окно не было тяги из-за намордника. Выходил к столу Костя Киула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже нескладисто смешной, и читал свои стихи, сложенные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были: "Первая передача", «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силлабо-тонической системы и кончаются ли строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слёзы твоей жены. В камере плакали.[172]
С той камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме. А там я читал вслух Есенина, почти запрещённого до войны. Молодой Бубнов — из пленников, а прежде кажется недоучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь, и скорее всего — по чистоте и прямоте своего характера — чтобы там умереть, такие там не живут. И эти вечера в 75-й камере были для него и для других — в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того прекрасного мира, который есть и — будет, но в котором ни годика, ни молодого годика не давала им пожить лихая судьба.
Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам: "Ат-бой!" Нет, и до войны, учась в двух ВУЗах сразу, ещё зарабатывая репетированием и порываясь писать — кажется и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере в то лето…
…- Позвольте, — говорю я Царапкину, — но с тех пор от некоего Деуля, мальчика, в шестнадцать лет получившего пятёрку (только не школьную) за "антисоветскую агитацию"…
— Как, и вы его знаете?… Он ехал с нами в одном этапе в Караганду…
— …я слышал, что вы устроились лаборантом по медицинским анализам, а Николай Владимирович был всё время на общих…
— И он очень ослабел. Его полумёртвого везли из вагона в Бутырки. Теперь он лежит в больнице, и от Четвёртого Спецотдела[173] ему выдают сливочное масло, даже вино, но встанет ли он на ноги — сказать трудно.
— Четвёртый Спецотдел вас вызывал?
— Да. Спросили, не считаем ли мы всё-таки возможным после шести месяцев Караганды заняться налаживанием нашего института на земле отечества.
— И вы бурно согласились?
— Ещё бы! Ведь теперь мы поняли свои ошибки. К тому же всё оборудование, сорванное с мест и заключённое в ящики, приехало и без нас.
— Какая преданность науке со стороны МВД! Очень прошу вас, ещё немножко Шуберта!
И Царапкин напевает, грустно глядя в окна (в его очках так и отражаются тёмные намордники и светлые верхушки окон):
Vom Abendrot zum Morgenlicht
War mancher Korf zum Greise,
Wer glaubt es? meiner ward es nicht
Auf dieser ganzen Reise. [174]
* * *
Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек, — а за год пройдёт и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели.
Попадая в Бутырки в четвёртый или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо (так лошадь без кнута и вожжей спешит домой, где ждёт её овёс) — я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в осьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Её намордники совсем уже не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме, — это посеревший подгнивающий тёс, указывающий на второстепенность здания. Там как бы внутрибутырская пересылка для свежеосуждённых.
А когда-то, в 45-м году, я переживал как большой и важный шаг: после приговора ОСО нас ввели в церковь (самое время! не худо бы и помолиться!), взвели на второй этаж (там нагорожен был и третий) и из осьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго-восточную.
Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время двести человек. Спали, как всюду, на нарах (они одноэтажные там), под нарами и просто в проходах, на плитчатом полу. Не только намордники на окнах были второстепенные, но и всё содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков Бутырок: в эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахмат и шашек, а алюминиевые миски и щерблёные битые деревянные ложки забирали тоже от еды до еды, опасаясь как бы их не увезли впопыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало счастье-несчастье получить передачу от родных (а в эти последние дни перед далёким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что-то передать). Родственники сами не имели тюремного образования, и в приёмной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой посуды, единственной дозволенной арестанту, но — стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти мёды, варенья, сгущённое молоко безжалостно выливались и выскребались из банок в то, что есть у арестантов, а в церковной камере у него ничего нет, значит просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полу одежды — по ГУЛАГу вполне нормально, но для центра Москвы? И при всём том — "скорей, скорей!" — торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал (а торопил потому, что и сам ещё рассчитывал облизать отбираемые банки). В церковных камерах всё было временное, лишённое и той иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на Красной Пресне не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота — ходить самим трижды в день за баландою (здесь не было в день ни каши, но баланда — трижды, и это милосердно, потому что чаще, горячей, и тяжелей в желудке). Льготу эту дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме, и надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжёлые большие баки издалека, через двор, и потом взносить по крутой лестнице, это было очень трудно, сил мало, а ходили охотно — только бы выйти лишний раз в зелёный двор и услышать пение птиц.
В церковных камерах был свой воздух: он уже чуть колыхался от предсквозняков будущих пересылок, от предветра полярных лагерей. В церковных камерах шёл обряд привыкания — к тому, что приговор свершился и нисколько не в шутку; к тому, что как ни жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять её. Это трудно давалось.
И не было здесь постоянства состава, который есть в следственных камерах, отчего те становятся как бы подобием семьи. Денно и нощно здесь вводили и выводили единицами и десятками, от этого всё время передвигались по полу и по нарам, и редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток. Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его не откладывая, иначе упустишь на всю жизнь.
Так я упустил автослесаря Медведева. Начав с ним разговаривать, я вспомнил, что фамилию его называл император Михаил. Да, он был его одноделец, один из первых читавших "Воззвание к русскому народу" и не донесших о том. Медведеву дали непростительно, позорно мало — всего лишь три года! — это по 58-й статье, по которой и пять лет считалось сроком детским. Видно, всё-таки императора сочли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнать, как это всё понимает Медведев — а его взяли "с вещами". По некоторым обстоятельствам можно было сообразить, что взяли его на освобождение. Этим подтверждались те первые слухи о сталинской амнистии, которые в то лето доходили до нас, об амнистии никому , об амнистии, после которой даже под нарами не становилось просторнее.
Взяли на этап моего соседа — старого шуцбундовца (всем этим шуцбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии, здесь, на родине мирового пролетариата, в 1937 году вжарили по десятке, и на островах Архипелага они нашли свой конец). И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами — тёмными вишнями, однако с укрупнённым расширенным носом, портившим всё лицо до карикатуры. С ним рядом мы полежали сутки молча, на вторые у него был повод спросить: "За кого вы меня принимаете?" Говорил он по-русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался: было в нём кавказское как будто. Он улыбнулся: "Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мной. Я собирал профсоюзные взносы." Я оглядел его. Действительно комичная фигура: коротышка, лицо непропорциональное, беззлобная улыбка. И вдруг он напрягся, черты его стали отточенными, глаза стянулись и как взмахом чёрной сабли полосанули меня:
— А я — разведчик румынского генерального штаба, лукотенант Владимиреску!
И рассказал историю своей «работы» у нас в тылах, во время войны. Так ли, нет, но выглядело ярко.
Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретится подлинного шпиона. За одиннадцать лет тюрем, лагерей и ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной-то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодёжь, что только таких людей и ловят Органы.
Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму-то молодёжь они в первую очередь и ловят. Война кончалась, можно было дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили: их не придётся уже брать в солдаты. Говорили, что с 1944 на 1945 год через Малую (областную) Лубянку прошла "демократическая партия". Она состояла, по молве, из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту — ученик 10-го класса московской школы, был её "генеральный секретарь". — Мелькали и студенты в московских тюрьмах в последний год войны, я встречал их там и здесь. Кажется и я не был стар, но они — моложе…
Как же незаметно это подкралось! Пока мы — я, мой одноделец, мои сверстники, воевали четыре года на фронте — а здесь росло ещё одно поколение! Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле?! — и вдруг по плитам тюремных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы поражённо узнаём, что самые молодые и умные уже не мы — а они! Но я не был обижен этим, уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, всё знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках — шевеление тюремного ореола вокруг самовлюблённых и умных мордочек.
За месяц перед тем в другой бутырской камере, полубольничной, я ещё только вступил в проход, ещё места себе не увидел, — как навстречу мне вышел с предощущением разговора-спора, даже с мольбой о нём — бледно-жёлтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трёпаную прострелянную солдатскую шинель: его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я, не помню почему, упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил как само собой ясное:
— Ну, это конечно ханжество.
И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, он как будто приподнялся и спросил:
— По-че-му? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренно верить в Бога?
Только всего и было сказано! Уж там каков Рузвельт, но — с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рождённого в 1923 году?… Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живёт в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство, и оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение своё проговорил, а это в меня со стороны вложено. И — я не сумел ему возразить. Я только спросил:
— А вы верите в Бога?
— Конечно, — спокойно ответил он.
Конечно? Конечно… Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди первых заметило это.
Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержантом-противотанкистом на сорокапятках "прощай, Родина!", но и получил ранение в лёгкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулёзный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, — и так сплелись в нём две пряжи: одна — от солдатчины, другая — от совсем не глупой и совсем не мёртвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем (хотя это им не было никем поручено) — и вот оттуда намётанный глаз Органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37-м году, и сын рвался на тот же путь. На следствии он с выражением прочёл следователю несколько своих стихотворений. (Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил, и не могу теперь сыскать, я бы привёл здесь.)
На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами: ещё в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Добровольского. Потом в Бутырской церкви нагнал меня и Георгий Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах, перед ним при политическом смирении открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него уже был близок концу роман о Дебюсси. Но первые успехи не выхолостили его, на похоронах своего учителя Юрия Тынянова он вышел с речью, что того затравили, — и так обеспечил себе 8 лет срока.
Тут нагнал нас и Гаммеров, и в ожидании Красной Пресни мне пришлось столкнуться с их объединённой точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение прежде, чем не найдёт для него ярлык из готового запаса: то ли это — мятущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли — воинствующий нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтоб Ингал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого — и с какой стороны! Толстой отвергал церковь? Но он не учитывал её мистической и организующей роли! Он отвергал библейское учение? Но для новейшей науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках её о создании мира. Он отвергал государство? Но без него будет хаос! Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке? Но это — бессмысленная нивелировка способностей! И наконец, как видим мы по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим!
И в предтюремные и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер — и уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям — это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шёл стопой в указанную ленинскую стопу, и по советам Троцкого.
Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их ещё не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то читал "Сестра моя жизнь" и не полюбил, счёл далёким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде, и эта меня проняла, так подходила к нам:
Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду…
И не желаю. Гаммеров и Ингал так светло и были настроены: не надо нам вашего снисхождения! Мы не тяготимся посадкой , а гордимся ею! (Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками ещё не было близкой.) Не здесь ли, в тюремных камерах, и обретается великая истина? Тесна камера, но не ещё ли теснее воля ? Не народ ли наш, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?
Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.
Молодёжь, сидящая в тюремных камерах с политической статьёй, — это никогда не средняя молодёжь страны, а всегда намного ушедшая. В те годы всей толще молодёжи ещё только предстояло — «разложиться», разочароваться, оравнодушеть, полюбить сладкую жизнь, — а потом ещё может быть, может быть из этой уютной седловинки начать горький подъём на новую вершину — лет через двадцать? Но молоденькие арестанты 45-го года со статьёй 58–10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним шагом, — и бодро несли свои головы — вверх под топор.
В Бутырской церкви уже осуждённые, отрубленные и отрешённые, московские студенты сочинили песню и пели её перед сумерками неокрепшими своими голосами:
…Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера,
И иглой тюремной контрабандою
Шьём себе в дорогу сидора.
О себе теперь мы не заботимся:
Подписали — только б поскорей!
И ког-да сюда е-ще во-ро-тимся?…
Из сибирских дальних лагерей?…
Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов — а тут ещё одна молодёжь выросла и тронулась! Да нетуда ли она тронулась?… Не туда ли, куда мы не могли б и осмелиться? — не так были воспитаны.
Наше поколение вернётся, сдав оружие и звеня орденами, рассказывая гордо боевые случаи, — а младшие братья только скривятся: эх вы, недотёпы!..
Конец второй части.
Продолжение следует.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



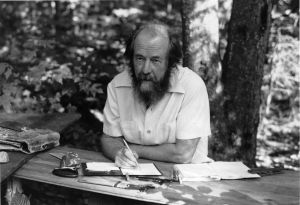

















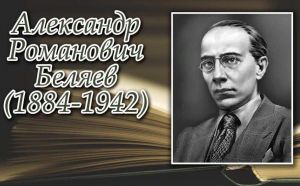








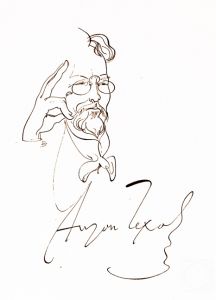





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов