Глава 19. Зэки как нация. (Этнографический очерк Фан Фаныча)
В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие.
При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с Передовым Учением.
Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал.
В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что зэки Архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная (многомиллионная) группа людей имеет единое (общее для всех них) отношение к производству (именно: подчинённое, закреплённое и без всяких прав этим производством руководить). Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда (именно: никакого отношения, получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования). Кроме того, вся работа их — не мелочь, а одна из главных составных частей всей государственной экономики.[177]
Но нашему честолюбию этого уже мало.
Гораздо сенсационнее было бы доказать, что эти опустившиеся существа (в прошлом — безусловно люди) являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens. (Может быть как раз — недостающим для теории эволюции промежуточным звеном.) Однако, эти выводы у нас ещё не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков (уж не используем затрёпанного по метафорам волка) и оказалось бы, что телесно он выдюживает (кто сразу ножки съёжит, с того и спроса нет), — так вот мог ли бы он, ведя новую жизнь, всё же остаться среди барсуков — человеком? Думаем, что нет, так и стал бы барсуком: и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое.
Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться или немедленно умереть, — что мнёт и жуёт характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир.
Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу: доказать, что зэки составляют особую отдельную нацию .
Почему в обычной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами, встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Зэки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, их жизнь проходит в общении только друг с другом (вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего кроме приказаний и ругательств не слышит). Ещё углубляется их отобщённость тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти, то есть, выбиться в другие, более высокие классы общества.
Кто из нас ещё в средней школе не изучал широко-известного единственно-научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это исторически сложившаяся (но не расовая, не племенная) общность людей, имеющих общую территорию; общий язык; общность экономической жизни; общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архипелага вполне удовлетворяют! — и даже ещё гораздо больше! (Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна.)
Наши туземцы занимают общую территорию (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся), где другие народы не живут. Экономический уклад их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства). Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте ("питаться на научной основе, воровать как сумеешь"). Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже распорядок дня у них — един по всем островам и обязателен для каждого зэка. (Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые распорядок дня, пищу и одежду?)
Что понимается в научном определении нации под общностью культуры — там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет письменности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, у большинства — по недостатку именно культуры, у зэков — по избытку цензуры.) Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке — общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чём можно только мечтать другим народам и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их ещё один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином матерщина (от латинского mater). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства.[178]Постоянное психологическое состояние зэков получает наилучшую разрядку и находит себе наиболее адекватное выражение именно в этой высоко-организованной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нём мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии.
Язык туземцев Архипелага без особого изучения так же непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. (Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как:
— сблочивай лепйнь!
— я ещё кл'ыкаю;
— дать набой (о чём);
— лепить от фонаря;
— петушок к петушку, раковые шейки в сторону!?)
Всё сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека.
Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он пополняется не обычным способом деторождения? (Кстати, в единственно-научном определении нации это условие не оговорено!) Ответим: да, он пополняется техническим способом посадки (а своих собственных детёнышей по странной прихоти отдаёт соседним народам). Однако, ведь цыплят выводят в инкубаторе — и мы же не перестаём от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом?
Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают , сомненья быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток.
Два слова о самом термине зэки . До 1934 года официальный термин был лишённые свободы . Сокращалось это "л/с", и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как «элэсов» — свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключённые» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы , чем тюрьмы). Сокращённо стали писать: для единственного числа "з/к" (зэ-ка), для множественного — з/к з/к (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переиначивать: в одних местах говорили "Захар Кузьмич", или (Норильск) "заполярные комсомольцы", в других (Карелия) больше «зак» (это верней всего этимологически), в иных (Инта) — «зык». Мне приходилось слышать "зэк".[179] Во всех этих случаях оживлённое слово начинало склоняться по падежам и числам. (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «зэ-ка». Остаётся пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.) Пишем же мы это слово через «э», а не «е» потому, что иначе нельзя обеспечить твёрдого произношения звука "з".
* * *
Климат Архипелага — всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря. Климат Архипелага — двенадцать месяцев зима, остальное лето . Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы.
Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошною стрижкою голов у мужчин придаёт им единство внешнего вида: осуровленность, безличность. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц — всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если б они были отлиты из этого смугло-медного (зэки относятся, очевидно, к индейской расе), шершавого, почти уже и не телесного материала, для того, чтобы постоянно идти против встречного ветра, на каждом шагу ещё ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развёрнуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остаётся в бездействии, в одиночестве и в размышлениях — шея его перестаёт выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирождённую. Самое естественное положение, которое принимают его освободившиеся руки, это — соединиться в кистях за спиною, если он идёт, либо уж вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нём и когда он подойдёт к вам — вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, а в землю, но если вынужден будет посмотреть, — вас поразит его тупой бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения (впрочем, не доверяйтесь: он его не выполнит). Если вы велите ему снять шапку (или он сам догадается), — его обритый череп неприятно поразит вас антропологически — шишками, впадинами и асимметричностью явно-дегенеративного типа.
В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно-тупо либо с подобострастием, если ему о чём-нибудь нужно вас просить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы пожалуй навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру — как бы толкающую звуками, зло-насмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остаётся наедине с туземкою (кстати, островными законами это строжайше воспрещено), то представить себе нельзя, чтоб он от этой манеры освободился. Вероятно и ей высказывается также толкающе-повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», "пожалуйста", "если вы не возражаете", также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идёт к цели, как сам он прёт против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьёт словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто.
С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему:
— Послушайте, товарищ, вы бы с курением всё-таки поосторожнее, а?…
Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам:
— А вы не застрахованы?
И пока вы ищете, что же ответить (ведь не найдёшься), он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень всё похоже на туземную манеру.
Помимо прямых многослойных ругательств, зэки имеют, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указание. Такие выражения, как:
— Не подначивайте, я не вашего бога!
или
— Тебя не[180] — не подмахивай! — (Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого, ругательного, слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл.)
Подобные отбривающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафор эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование ещё и этими примерами. Мы осмелимся привести только ещё одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт (некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы), но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел он вернуться на свои прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными звёздами на погонах и там ему объявили:
— Вот вы — инженер-радист, и мы хотим вас использовать…-
он не дал им договорить "по специальности". Он резко дёрнулся:
— Использовать? Так что — стать раком?
И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров, ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен.
Любопытно отметить, что сами туземцы Архипелага отлично сознают, что вызывают большой интерес со стороны антропологии и этнографии, и даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространена и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что некий профессор-этнограф, очевидно наш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлое сочинение, где пришёл к тому окончательному выводу, что арестант — ленив, обжорлив и хитёр (здесь и рассказчик и слушатели довольно смеются, как бы любуясь собою со стороны). Но что якобы вскоре после этого посадили и самого профессора (очень неприятный конец, но без вины у нас не сажают, значит, что-то было). И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, профессор понял свою ошибку, он понял, что на самом деле арестант — звонкий, тонкий и прозрачный . (Характеристика — весьма меткая и опять-таки в чём-то лестная. Все снова смеются.)
Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передаётся новичкам весь кодекс правильного зэческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запечатлённый, осуществлённый в нравственной структуре туземца, и даёт то, что мы называем национальным типом зэка . Печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом — русского или татарина, или поляка.
В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертою оглядеть комплексно то, чту есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков.
* * *
Отношение к казённой работе. У зэков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь, значит, их главное спасение: работая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам: всей работы не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот мол кончу побыстрей и присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Работа дураков любит .
Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу — неизбежно, но там-то, в рабочий день, надо не вкалывать , а «ковыряться», не мантулить , а кантоваться, филонить (то есть, не работать всё равно). Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто, наотрез — это бы его погубило. Но он — тянет резину . "Тянуть резину" — одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — главное спасительное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Зэк выслушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже чаще всего — и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремлённых неутомимых командиров производства! Естественно возникает желание — кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, — ведь ему же русским языком было сказано!.. Что за беспонятливость? (Но в том-то и дело, что русский советский язык плохо понимается туземцами, ряду наших современных представлений — например "рабочая честь", "сознательная дисциплина" — на их убогом языке даже нет эквивалента.) Однако, едва наскочит начальник вторично — зэк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идёт дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам — а зэк за его спиной сейчас же садится и бросает работу (если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачётов). Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она такова.
Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? ведь работа сама не сделается, а начальник подойдёт ещё раз — будет хуже? А вот на что он рассчитывает: сегодня третий раз начальник скорей всего и не подойдёт. А до завтра ещё дожить надо. Ещё сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер — а отработанное им тогда достанется другому? А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра . На зэка, где сядешь, там и слезешь . Опасается он потратить лишнюю калорию там, где её может быть удастся не потратить. (Понятие о калориях — у туземцев есть и очень популярно.) Между собою зэки так откровенно и говорят: кто везёт, того и погоняют (а кто, мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк лишь бы день до вечера .
Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило "кто везёт, того и погоняют" оказывается одновременно и старой русской пословицей. Находим мы у Даля[181] также и другое чисто зэковское выражение: "живёт как бы день к вечеру ". Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей: теория заимствования? теория странствующих сюжетов? мифологическая школа? Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие:
— Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь это же и есть принцип лагерной резины! ).
— Дай Бог всё уметь, да не всё делать.
— Господской работы не переделаешь.
— Ретивая лошадка недолго живёт.
— Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. (Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат.)
Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революций и социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения, — пожимают друг другу чёрные корявые руки?… Этого не может быть!
Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению.
Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимости он очень послушен ему; например одна из «заповедей» зэков: не залупайся! — то есть никогда не спорь с начальством. По видимости он очень боится его, гнёт спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчёт: избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает своё начальство — и лагерное и производственное, но прикровенно, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются между собой: было бы сказано, а забыть успеем! Зэки внутренне считают, что они превосходят своё начальство — и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает, но тут зэки в своём самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззрении . Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — это как хочу, так и кручу, или "закон здесь — я!"
Однако это даёт нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нём нечто высшее, отчего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренно обожал своего начальника.
А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами, читатель, соотечественников: зэки не тянутся за похвалой, за почётными грамотами и красными досками (если они не связаны прямо с дополнительными пирожками). Всё то, что на воле называется трудовой славой, для зэков по их тупости — лишь пустой деревянный звон. Тем ещё более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать.
Вообще у зэков вся шкала ценностей — перепрокинутая, но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за крохотное зеркальце они отдают жирную свинью, за дешёвые бусы — корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, — ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего — у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки нацело лишены патриотического чувства , они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни:
"Будь проклята ты, Колыма!
Придумали ж гады планету!.."
Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии побегами .
Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая пайка — это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, который мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают её почти до рук, — трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идёт махорка или самосад, причём меновые соотношения дико произвольные, не считающиеся с количеством общественно-полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На третьем месте идёт баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев). Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою: эти бритые головы, шапки-нашлёпки, лохмотья связаны верёвочками, лица злые, кривые (откуда у них на баланде эти жилы и силы?), — и двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей — туп-туп, туп-туп, отдай пайку, начальничек! Посторонись, кто не нашей веры! В эту минуту на двадцати пяти лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер зэка.
Мы замечаем, что рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имён. Но это — не порок нашего метода, это отражение того стадного строя жизни, который ведёт этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства (они уверены, что их народ будет пополнен другим путём). На Архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни — то ли наследие первобытного общества, то ли — уже заря будущего. Вероятно — будущего.
Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница, они не применяют снотворных, спят все ночи напролёт, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя под конвоем в строю на работу — тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрей идёт срок. И ещё ночь для сна, а день для отдыха . Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа: — Ходя наемся, стоя высплюсь. — Где щель, там и постель.}
Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за «законной» (как они говорят) баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зэков — жизненного напора (и это не идёт в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора). Напор этот — и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью — едой, тёплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок; идут ли два зэка поднять бревно — оба они направляются к хлыстовому концу, так чтобы комлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле — напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях (столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую struggle for life) от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь — и в этом пробитии дороги себе за счёт других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: совесть? в личном деле осталась . При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом Архипелага: лучше ссучиться, чем мучиться .
Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, изворотливостью в труднейших обстоятельствах.[182] Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам: для того чтобы сохранить от гибели своё жалкое ублюдочное добро — какой-нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу. Однако в борьбе за важное место в островной иерархии — изворотливость должна быть более высокая, тонкая, рассчитаннаятемниловка . Чтобы не отяжелять исследование — вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того понта , с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие-то глиняные конусы. — "А это — что у тебя?" — "Конусы Зегера."- "А зачем?" — "Определять температуру в печах."- "А-а-а,"- с уважением протянет начальник и подумает: ну, и хорошего ж я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины не только не стандартной, а — неизвестно какой. Примелькиваются конусы, — и у начальника мастерских новая игрушка на столе — оптический прибор без единой линзы (где ж на Архипелаге линзы брать?). И опять все удивляются.
И постоянно должна быть голова зэка занята вот такими ложными боковыми ходами.
Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять гибкость поведения — от грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем не обязательному. (Так почему-то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам и исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым мы видим только в музее Останкино, бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет.)
Эта же гибкость поведения отражается и известным правилом зэков: дают — бери, бьют — беги .
Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю по началу кажется, что зэки гнутся как травка — от ветра и сапога.[183] (Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых "стукачей".[184] Скрывать ему надо удачи свои, чтоб их не перебили. Скрывать надо планы, расчёты, надежды — готовится ли он к большому «побегу», или надумал, где собрать стружку для матраса. В зэковской жизни всегда так, что открыться — значит потерять… Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так (даю в русском переводе): "откроешься, где спать тепло, где десятник не найдёт, — и все туда налезут, и десятник нанюхает. Откроешься, что письмо послал через вольного,[185] и все этому вольному письма понесут и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе каптёр сорочку рваную сменить — молчи, пока не сменишь, а когда сменишь — опять же молчи: и его не подводи и тебе ещё пригодится.[186] С годами зэк настолько привыкает всё скрывать, что даже усилия над собой ему для этого не надо делать: у него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. (Может быть следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы.)
Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости: он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нём особенно сильное подозрение. Закон-тайга , вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. (На островах Архипелага и действительно большие массивы тайги.)
Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества — жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называют "сыном ГУЛАГа". Это у них — как бы звание почётного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни.
Сын ГУЛАГа считает себя непроницаемым, но что, напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на два метра под ними вглубь. Может быть это и так, но тут-то и выявляется, что даже у самых проницательных зэков — обрывистый кругозор, недальний взгляд вперёд. Очень трезво судя о поступках, близких к нему, и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явлений общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко: даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, ещё осторожнее — к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от зэка фразы: "на будущую весну я…" Потому что все знают, что ещё перезимовать надо, да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину: день мой — век мой!
Сыновья ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых заповедей зэков. На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. (Зэки — не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке.) Но, как уверяют сыновья ГУЛАГа, живя по их заповедям, на Архипелаге не пропадёшь.
Есть такие заповеди, как: не стучи (как это понять? очевидно, чтоб не было лишнего шума); не лижи мисок , то есть после других, чту считается у них быстрой и крутой гибелью. Не шакаль .
Интересна заповедь: не суй носа в чужой котелок. Мы бы сказали, что это — высокое достижение туземной мысли: ведь это принцип негативной свободы, это как бы обёрнутый my home is my castle и даже выше него, ибо говорит о котелке не своём, а чужом (но свой — подразумевается). Зная туземные условия, мы должны здесь понять «котелок» широко: не только как закопчёную погнутую посудину и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нём, но и как все способы добывания еды, все приёмы в борьбе за существование, и даже ещё шире: как душу зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь, — вот что значит этот завет. Твёрдый жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять своей силы и напора из пустого любопытства. (Но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств: хоть ты рядом и околей — мне всё равно. Жестокий закон, и всё же гораздо человечнее закона «блатных» — островных каннибалов: "подохни ты сегодня, а я завтра". Каннибал-блатной отнюдь не равнодушен к соседу: он ускорит его смерть, чтоб отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства понаблюдать за ней.)
Наконец, существует сводная заповедь: не верь, не бойся, не проси! В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью отливается общий национальный характер зэка.
Как можно управлять (на воле) народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью?… Страшно подумать.
Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути.
Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом всё более и более наблюдаем: душевная уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на своё место во вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью, напротив: он понимает её как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф: будто где-то существуют "ворота Архипелага" (сравни в античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись: "не падай духом! ", а на обратной стороне для выходящего: " не слишком радуйся! ". И главное, добавляют зэки: надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом: приходящий не грусти, уходящий не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь Архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своём грубом обветренном лице и говорит: глубже шахты не опустят . Или успокаивают друг друга: бывает хуже! — и действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение — могло быть и хуже! — явно поддерживает и приободряет их.
Зэк всегда настроен на худшее, он так и живёт, что постоянно ждёт ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим.
Отклонения от равновесного состояния очень малы у зэка — как в сторону светлую, так и в сторону тёмную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости.
Это удачно выразил Тарас Шевченко (немного побывавший на островах ещё в доисторическую эпоху): "У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Ужели постоянные несчастья могут так переработать человека?" (Письмо к Репниной.)
Именно. Именно могут. Устойчивое равнодушное состояние является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на Архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же — остаётся жить. Одним словом: не околеешь — так натореешь.
У зэка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже — ко всей своей жизни, — он не испытывает душевного сочувствия и к горю окружающих. Чей-то крик боли или женские слёзы почти не заставляют его повернуть голову — так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями — но не судите их за это сурово, это они не по злу: у них просто атрофировалось сочувствие, и остаётся для них заметной лишь смешная сторона события.
Самое распространённое среди них мировоззрение — фатализм. Это — их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке, и не понимая его толком, и не представляя, чту случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться, — переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт. Может это будет к лучшему, может к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупрёков: пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность.
При такой тёмной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму: если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте — обязательно погоришь на этап .[187]
Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что Архипелаг существовал вечно и раньше на нём было ещё хуже.
Но пожалуй самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки воспринимают своё устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях — как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий хоть несколько разредеть, ударам судьбы несколько ослабнуть — и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе "В ссылке" перевозчик Семён Толковый выражает это чувство так:
"Я… довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни .- (Курсив наш.) — Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет."
Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А. П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?
До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим.
Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого казалось бы атеистического народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис "не судите, да не судимы будете", они считают, что судимость от этого не зависит), — тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить: на том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, — он ни во что не верит. Но лишённый зрения абстрактного, лишённый исторического расчёта, он с дикарскою наивностью отдаётся вере в любой дальний слух, в туземные чудеса.
Давний пример туземного легковерия — это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так называемую Амнистию . Трудно объяснить, что это такое. Это — не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Пришествием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на тёплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтверждённая ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и зэки мистически ожидают (всегда безуспешно) первых чисел ноября и мая. Подует ли на Архипелаг южный ветер, тотчас шепчут с уха на ухо: "наверно, будет Амнистия! уже начинается!" Установятся ли жестокие северные ветры — зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трут уши, отаптываются и подбодряют друг друга: "Значит, будет Амнистия. А иначе замёрзнем все на…! (Тут — непереводимое выражение.) Очевидно — теперь будет."
Вред всякой религии давно доказан — и тут тоже мы его видим. Эти верования в Амнистию очень расслабляют туземцев, они приводят их в несвойственное состояние мечтательности, и бывают такие эпидемические периоды, когда из рук зэков буквально вываливается необходимая срочная казённая работа, — практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об «этапах». Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств.
И ещё есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни, — это тайная жажда справедливости.
Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем впрочем не нашего Архипелага: "Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость, и если её нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие."
Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью.
Начиная с попадания зэков на Архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить и ранить так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.) И в фольклоре своём они создают легенды уже даже не о справедливости, а — утрируя чувство это — о неоправданном великодушии. (Так, в частности, и был создан и десятилетия держался на Архипелаге миф о великодушии относительно Ф. Каплан — будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах, и находились даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от неё книги из бутырской библиотеки.[188] Спрашивается, зачем понадобился туземцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить. Они тогда могут мысленно обратить его к себе.)
Ещё известны случаи, когда зэк полюбил на Архипелаге труд (А. С. Братчиков: "горжусь тем, что сделали мои руки") или по крайней мере не разлюбил его (зэки немецкого происхождения), но эти случаи столь исключительны, что мы не станем их выдвигать как общенародную, даже и причудливую черту.
Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности — другая туземная черта: любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом (особенно — женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Зэки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. (В другом отношении — имея воспитателей , напротив содержатся как нация сплошных детей.) Слова из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку всё: и как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. (Часами они слушают, кто как «попал», и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее, поверхностней, короче встреча двух зэков (одну ночь рядом полежали на так называемой "пересылке"), — тем развёрнутей и подробней они спешат друг другу всё рассказать о себе.)
Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в "Мёртвый дом" — и говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно: потому что в "Мёртвый дом" попадали за преступление, и вспоминать о нём каторжникам было тяжело.
На Архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств — но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого "преступления", — и поэтому нет на Архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории чем — "как попал".
Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют ещё и другую цель и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее зэка — настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем зэк; даже пьяного бродягу вне Архипелага называют "товарищем"). Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берёт назад те высоты, с которых его свергла жизнь.[189] Воспоминания ещё обязательно приукрашиваются, в них вставляются выдуманные (но весьма правдоподобно) эпизоды — и зэк-рассказчик (да и слушатели) чувствуют живительный возврат веры в себя.
Есть и другая форма укрепления этой веры в себя — многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа зэков. Это — довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времён (когда солдата брали на двадцать пять лет). Вам расскажут и как один зэк пошёл к начальнику дрова колоть для кухни — начальникова дочка сама прибежала к нему в сарай. И как хитрый дневальный сделал лаз под барак и подставлял там котелок под слив, проделанный в полу посылочной комнаты. (В посылках извне иногда приходит водка, но на Архипелаге — сухой закон, и её по акту должны тут же выливать на землю (впрочем никогда не выливали), — так вот дневальный собирал в котелок и всегда пьян был.
Вообще зэки ценят и любят юмор — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор — их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань-то ценят именно по юмору: которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшой толикою юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем, Спросишь зэка, сколько он уже пробыл на Архипелаге, — он не скажет вам "пять лет", а:
— Да пять январей просидел.
(Своё пребывание на Архипелаге они почему-то называют сиденьем , хотя сидеть-то им приходится меньше всего.)
— Трудно? — спросишь. Ответит, зубоскаля:
— Трудно только первые десять лет.
Посочувствуешь, что жить ему приходится в таком тяжёлом климате, ответит:
— Климат плохой, но общество хорошее.
Или вот говорят о ком-то уехавшем с Архипелага:
— Дали три, отсидел пять, выпустили досрочно.
А когда стали приезжать на Архипелаг с путёвками на четверть столетия:
— Теперь двадцать пять лет жизни обеспечено!
Вообще же об Архипелаге они судят так:
— Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет.
(Здесь — неправомерное обобщение: мы-то с вами, читатель, вовсе не собираемся там быть, правда?)
Где бы когда бы ни услышали туземцы чью-либо просьбу чего-нибудь добавить (хоть кипятку в кружку), — все хором тотчас же кричат:
— Прокурор добавит!
Вообще к прокурорам у зэков непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот например по Архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение:
— Прокурор — топор.
Кроме точной рифмы мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва ассоциативных и причинных связей, которые снижают мышление зэков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше.
Вот ещё образцы из милых беззлобных шуток:
— Спит-спит, а отдохнуть некогда.
— Воды не пьёшь — от чего сила будет?
О ненавистной работе к концу рабочего дня (когда уже томятся и ждут съёма) обязательно шутят:
— Эх, только работа пошла да день мал!
Утром же вместо того, чтобы приняться за эту работу, ходят от места к месту и говорят:
— Скорей бы вечер, да завтра (!) на работу!
А вот где видим мы перерывы в их логическом мышлении. Известное выражение туземцев:
— Мы этого лесу не сажали и валить его не будем.
Но если так рассуждать — леспромхозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь — типичная детскость туземного мышления, своеобразный дадаизм.
Или вот ещё (со времени Беломорканала):
— Пусть медведь работает!
Ну как, серьёзно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего великий канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно освещён ещё в трудах И. А. Крылова. Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу — не сомневайтесь, что это было бы сделано в социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты.
Правда, у туземцев есть ещё параллельное высказывание о медведях — очень несправедливое, но въевшееся:
— Начальник — медведь.
Мы даже не можем понять — какая ассоциация могла породить такое выражение? Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно, чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что-то заключить.
Переходя к вопросу о языке зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае есть ещё специфические трудности.
Одна из них — агломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя делить живое!),[190] но и помещать всё, как есть, на научные страницы мешает нам забота о нашей молодёжи.
Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа зэков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или "урками"), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин отдельного исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива — документ, марочка — носовой платок, угол — чемодан, луковица — часы, прохоря' — сапоги). Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают:
свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться; филонить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фитиль; шестёрка; сосаловка; отрицаловка; с понтом; гумозница; шалашовка; бациллы; хилять под блатного; заблатниться; и другие, и другие.
Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик — на цырлах! Его можно перевести на русский язык только сложно-описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цырлах значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием — и всё это одновременно.
Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие.
Но это попечение — уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на Архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте, — то есть, не только в смысле отдела кадров, но: не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так до сих пор не хватало русскому языку: "с ходу", "всю дорогу", "по новой", «раскурочить», "заначить", «фраер», "дурак, и уши холодные", "она с парнями шьётся" и ещё многие, многие!
Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и прежде всего в язык молодёжи. Это подаёт надежду, что в будущем процесс пойдёт ещё решительней и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть даже и составят его украшение.
Но тем трудней становится задача исследователя: разделить теперь язык русский и язык зэческий!
И, наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвёртую трудность: первичное, какое-то доисторическое влияние самого русского языка на язык зэков и даже на язык каннибалов (сейчас такого влияния уже не наблюдается). Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически-островных выражений:
жить законом (костромское) — в смысле жить с женой (на Архипелаге: жить с ней в законе);
вынбчить (офенское) — выудить из кармана
(на островах сменили приставку — занбчить, и означает: далее спрятать);
подходить — значит: беднеть, истощаться
(сравни — доходить);
или пословица у Даля
"щи — добрые люди" — и целая цепь островных выражений:
мороз-человек (если не крепкий), костёр-человек и т. д.
И "мышей не ловит" — мы тоже находим у Даля. А «сука» означало «шпиона» уже при П. Ф. Якубовиче.
А ещё превосходное выражение туземцев упираться рогами (обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивании на своём), сбить рога, сшибить рога — восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» (кичливость, высокомерие, надменность) вопреки пришлому, переводному с французского "наставить рога" (как измена жены), которое в простом народе совершенно не привилось, да и интеллигенцией уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью.
Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования.
В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались: они полагали, что эти расспросы ведутся для кума (душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы). Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою (дорогих сортов они не курят), они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, в других — Фан Фаныч. Надо сказать, что на Архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы.
Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация, этническим объёмом во много миллионов человек.
Глава 20. Псовая служба
Не в нарочитое хлёсткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали: служба их — та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у неё хорошую злобность . И если содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущёвских рублей (овчарок кормят питательней, чем заключённых),[191] то содержание каждого офицера — не паче ли?
А ещё на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? "Начальство, начальники"- слишком общо, относится и к воле, ко всей жизни страны, да и затёрто уж очень. "Хозяева"- тоже. "Лагерные распорядители"? — обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо «псы», как в лагере говорят? — как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово лагерщики : оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника» и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют. Так испросив у строгих читателей прощения за новое слово (оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка), мы его от времени ко времени будем употреблять.
Так вот о ком эта глава: о лагерщиках (и тюремщиках сюда же). Можно бы с генералов начать, и славно бы это было — но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота, и не могли мы разглядеть ничего.
Так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальниках ГУЛага — этих царях Архипелага. А уж попадётся фото Бермана или словечко Апетера — мы их тут же подхватываем. Знаем вот "гаранинские расстрелы" — а о самом Гаранине не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить; он, по лагерю идя, и сам из маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выходила. Пишем вот о Кашкетине — а в глаза того Кашкетина не видели (и слава Богу). О Френкеле подсобрался материальчик, а об Абраме Павловиче Завенягине — нет. Его, покойника, с ежовско-бериевской компанией не захоронили, о нём смакуют газетчики: "легендарный строитель Норильска"! Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу очень о нём хорошо отзывался эмведешник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили.
Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря, спасибо написал нам инженер Побожий.[192] Эту картинку мы всем советовали бы прочесть: разгрузку лихтеров на реке Таз. В глуби тундры, куда дорога ещё не пришла (да и придёт ли?), египетские муравьи тянут паровозы на снег, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок даёт на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит, свита пляшет перед ним, куда твой Наполеон, а личный повар тут же на раскладном столике, среди полярной мерзлоты, подаёт ему свежие помидоры и огурчики. И ни с кем, сукин сын, не делится, всё суёт себе в утробу.
В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах, там перейдём к сержантам, скользнём по стрелковой охране — да и того будет с нас. Кто заметил больше — пусть больше напишет. В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные, и по сравнению с этим снопом страданий, на который не хватает твоих разведенных рук, — что тебе эти тупые люди на должности псов? их мелкие интересы? их ничтожные склонности? их служебные успехи и неуспехи?
А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало.
Уж не спрашивая о даровании — может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор — при зачислении в войска МВД, в училища МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, различение злого и доброго, — будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твёрдости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому даётся и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается — и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди всё равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти!
А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно полезной. И даже почётной. А кому-то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие.
Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. И чем дольше, чем непрерывнее и отметнее человек служит в Органах, тем с большей вероятностью он — злодей.
Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: "Кто из вас очерствел, чьё сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключение — уходите из этого учреждения!" Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? — если при этом защищался Косырев? (часть первая, гл. 8.)? И кто этому внял? Ни "террор как средство убеждения", ни аресты по признаку «сомнительности», ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера — не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за эти годы уходил из Органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться, — кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был чёрств — тот-то и остался. (Да может в другие разы Дзержинский подавал совет совсем другой, да у нас цитатки нет.)
Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. Старый чекист! — кто не слышал этих слов, произносимых протяжно, в знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, говорят: "А начальник там ста-арый чекист!" (Ну, например, как тот майор, который сжёг кандальную сонату Клемпнера.) Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. "Старый чекист" — ведь это по меньшей мере значит: и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии, всем угодил.
Но не разрешим себе растечься и говорить о "чекистах вообще". О чекистах в собственном смысле, о чекистах оперативно-следственного направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами, только тянутся к тому званию, или с тех должностей пришли сюда — на отдых, потому что здесь не треплются их нервы и не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития, ни того активного злого давления, что там. В ЧКГБ надо быть острым и попасть обязательно в глаз, в МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу.
С огорчением, но не возьмёмся мы объяснять, почему лозунг "орабочения и окоммунизирования состава лагерных работников",[193] успешно проведенный в жизнь, не создал на Архипелаге этого трепетного человеколюбия по Дзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном Карательном Отделе и губкаротделах готовился для тюрем и для лагерей младший адмстройсостав (то есть внутренний надзор) "без отрыва от производства" (то есть уже служа в тюрьмах и лагерях). К 1925 только 6 % осталось царского надзорсостава. А уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться: сперва на факультетах права Наркомпроса (да, Наркомпроса! и не бесправия, а — права!), с 1931 это стали исправтруд-отделения институтов Права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70 % рабочих и 70 % коммунистов! С 1928 постановлением Совнаркома и никогда не возражающего ЦИКа ещё были расширены и режимные полномочия этих орабоченных и окоммунизированных начальников мест заключения,[194] - а вот поди ж ты, человеколюбия почему-то не получилось! Пострадало от них миллионов людей больше, чем от фашистов, — да ведь не пленных, не покорённых, а — своих соотечественников, на родной земле.
Кто это нам объяснит?
Сходство жизненных путей и сходство положений — рождает ли сходство характеров? Вообще — нет. Для людей, значительных духом и разумом, — нет, у них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умственный, — у них сходство характеров разительное и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные всеобщие черты.
Спесь. Он живёт на отдельном острове, слабо связан с далёкой внешней властью, и на этом острове он — безусловно первый: ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь — самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок: всякий жалобщик всегда оказывается неправ (подавлен). У него — лучший на острове дом. Лучшее средство передвижения. Приближённые к нему следующие лагерщики тоже весьма возвышены. А так как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности, — то им и невозможно понять себя иначе, как особую расу — прирождённых властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это — их талант ("организационный"). Каждый день и каждый обиходный случай даёт им зримо видеть своё превосходство: перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают. И если он (БАМлаг, Дукельский) выходит к воротам посмотреть, как, замыкаемая овчарками, идёт колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор — в белоснежном летнем костюме. И если они (Унжлаг) надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в чёрных одеждах, увязая в грязи по пузо и пытаются копать картошку (впрочем, вывезти её не успеют и весной перекопают на удобрение) — то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают, элегантные всадники, мимо утопающих рабынь как подлинные олимпийцы.
Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествлённый всё знает доконечно, ему не надо читать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего, достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические и этнографические исследования, — но даже для смеха нельзя представить себе на всём Архипелаге одного такого лагерщика! И если Кудлатый (начальник одной из усть-вымьских командировок) решил, что выполнение государственных норм на 100 % ещё не есть никакие сто процентов, а должно быть выполнено его (взятое из головы) сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паёк, — переубедить его невозможно. Выполнив 100 %, все получают штрафной паёк. В кабинете Кудлатого — стопы ленинских томов. Он вызывает В. Г. Власова и поучает: "Вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам." (Под паразитами он понимает заключённых, выполнивших только 100 %, а под пролетариатом — себя. Это у них в голове укладывается рядом: вот моё поместье, и я пролетарий.)
Да старые крепостники были образованы не в пример: они ж многие в Петербургах учились, а иные и в Геттингенах. Из них смотришь, Аксаковы выходили, Радищевы, Тургеневы. Но из наших эмведешников никто не вышел и не выйдет. А главное — крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своём разбирались. Но чванные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя ещё и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают своё безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство (отнюдь не всегда управлявшееся с самого верха, история это поймёт: очень часто именно средняя прослойка своей инерцией покоя определяла государственное не-развитие) вынуждено рядом со всей их золотопогонной иерархией воздвигать ещё такую же вторую из трестов и комбинатов. (Но это никого не удивляло: чту в стране у нас не дублируется, начиная с самой власти советов?)
Самовластие. Самодурство. В этом лагерщики вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX века. Бесчисленны примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых — показать власть. Чем дальше в Сибирь и на Север — тем больше, но вот и в Химках, под самой Москвой (теперь уже — в Москве), майор Волков замечает 1-го мая, что зэки не веселы. Приказывает: "Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным — в кондей!" А чтоб развеселить инженеров — шлёт к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные частушки. Скажут, что это — не самодурство, а политическое мероприятие, хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок, Ивановский, представляется как танцор Большого театра. "Что? Артист? — свирепеет Волков. — В кондей на двадцать суток! Пойди сам и доложи начальнику ШИзо!" Спустя время позвонил: "Сидит артист?" — "Сидит."- "Сам пришёл?" — "Сам."- "Ну выпустить его! Назначаю его помкоменданта." (Этот же Волков, мы уже писали, велел остричь наголо женщину за то, что волосы красивые.)
Не угодил начальнику ОЛПа хирург Фустер, испанец. "Послать его на каменный карьер!" Послали. Но вскоре заболел сам начальник, и нужна операция. Есть другие хирурги, можно поехать и в центральную больницу, нет, он верит только Фустеру! Вернуть Фустера с карьера! Будешь делать мне операцию! (Но умер на столе.)
А у одного начальника вот находка: з/к инженер-геолог Козак, оказывается, имеет драматический тенор, до революции учился в Петербурге у итальянца Репетто. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941-42 годы, где-то идёт война, но начальник хорошо защищён бронью и берёт уроки пения у своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его О. П. Козак из ссылки ищет мужа через ГУЛаг. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает этого. Почему? Он «успокаивает» Козака, что жена его… сослана, но живёт сытно (педагог, она работает в Заготзерно уборщицей, потом в колхозе). И — продолжает брать уроки пения. Когда в 1943 году Козак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. (Так ещё не злой начальник?)
Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда — и всё самовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство друг перед другом. Начальник одного кенгирского лагпункта: "А у меня профессор в бане работает!" Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под корень: "А у меня — академик дневальным, параши носит!"
Жадность, стяжательство. Это черта среди лагерщиков — самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур — но обогатиться за счёт бесплатного труда зэков и за счёт государственного имущества старается каждый, будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика, и никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого.
В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата (с двойными и тройными надбавками "за полярность", "за отдалённость", "за опасность"). Ни — премирование (предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79-й статьей исправитнльно-трудового Кодекса 1933 года — того самого кодекса, который не мешал установить для заключённых 12-часовой рабочий день и без воскресений). Ни — исключительно выгодный расчёт стажа. (На Севере, где расположена половина Архипелага, год работы засчитывается за два, а всего-то для «военных» до пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище 22-х лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года!)
Нет! Но каждый обильный или скудный канал, по которому могут притекать бесплатные услуги или продукты, или предметы, — всегда используется каждым лагерщиком взагрёб и взахлёб. Ещё на Соловках начальники стали присваивать себе из заключённых — кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался (и сверху никогда не запрещался) этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например в 1933, в БАМлаге, любой вольнонаёмный за небольшую плату в кассу лагеря, мог получить личную прислугу из заключённых. В Княж-Погосте тётя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагеря — и была за то награждена — стаканом молока в день. И по нравам ГУЛАГа это было щедро. (А ещё верней по нравам ГУЛАГа, чтоб корова была не начальникова, — "для улучшения питания больных", но молоко бы шло начальнику.)
Не стаканами, а вёдрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счёт пайка заключённых — обязательно это делал! Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9, этот вопль наверно бывшего каптёра. Ведь не из голода, не по нужде, не по бедности эти Курагин, Пойсуйшапка и Игнатченко тянули мешки и бочки из каптёрки, а просто: отчего же не поживиться за счёт безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов? А тем более во время войны, когда все вокруг хапают? Да не живи так, над тобой другие смеяться будут! (Уже не выделяю особым свойством их предательство по отношению к придуркам, попавшимся на недостаче.) Вспоминают и колымчане: кто только мог потянуть из общего котла заключённых — начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаёмные служащие, дежурные надзиратели — обязательно тянули. А вахтёры — чай сладкий таскали на вахту! Хоть ложечку сахара, да за счёт заключённого слопать! От умирающего отнять — ведь слаже…
А что же было, когда им доставались в руки "американские подарки" (сбор жителей Штатов для советского народа)! На Усть-Нере в 1943, по рассказу Т. Сговио, начальник лагеря полковник Нагорный, политотдела — Голоулин, Индигирского управления Быков и геологического управления Раковский вместе с жёнами сами открывали все ящики подарков, отбирали себе и дрались. Остальное, не взятое ими самими, они потом раздавали как премии на собрании вольных. Ещё и до 1948 года дневальные начальства продавали на чёрном рынке остатки американских подарков.
Начальников КВЧ лучше не вспоминать — смех один. Всё тащат, да мелочно как-то (крупней им не разрешено). Вызовет начальник КВЧ каптёра и даёт ему свёрток — рваные ватные брюки, завёрнутые в «Правду» — на мол, а мне новые принеси. А с Калужской заставы начальник КВЧ в 1945-46 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительстве. (И потом ещё по Москве ехал в автобусе — шинель и вязанка дровишек, тоже жизнь несладкая…)
Лагерным хозяевам мало, что сами они и семьи их обуваются и одеваются у лагерных мастеров (даже костюм "голубь мира" к костюмированному балу для толстухи жены начальника ОЛПа шьётся на хоздворе). Им мало, что там изготовляют им мебель и любую хозяйственную снасть. Им мало, что там же льют им и дробь (для браконьерской охоты в соседнем заповеднике). Им мало, что свиньи их кормятся с лагерной кухни. Мало! от старых крепостников тем и отличаются они, что власть их — не пожизненна и не наследственна. И оттого крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть.
Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложения. Из нашего лагеря на Калужской заставе мрачный горбун Невежин никогда не уходил с пустыми руками, так и шёл в долгой офицерской шинели и нёс или ведёрко с олифой, или стёкла, или замазку, в общем в количествах тысячекратно превышающих нужды одной семьи. А пузатый капитан, начальник 15-го ОЛПа с Котельнической набережной, каждую неделю приезжал в лагерь на легковой машине за олифой и замазкой (в послевоенной Москве это было золото). И всё это предварительно воровали для них из производственной зоны и переносили в лагерную — те самые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей! Но мы-то, подсоветские, давно исправились , и у себя на родине освоились, и нам это только смешно. А вот каково было военнопленным немцам в ростовском лагере! — начальник посылал их ночами воровать для себя стройматериалы: он и другие начальники строили себе дома. Что могли понять в этом смирные немцы, если они знали, что тот же начальник за кражу котелка картошки посылал их под трибунал и там лепили им 10 лет и 25? Немцы придумали: приходили к переводчице Т. С. и подавали ей оправдательный документ: заявление, что такого-то числа идут воровать вынужденно. (А строили они железнодорожные сооружения, и из-за постоянной кражи цемента те клали почти на песке.)
Зайдите сейчас в Экибастузе в дом начальника шахтоуправления Д. М. Матвеева (это он — из-за свёртывания ГУЛАГа в шахтоуправлении, а то был начальник Экибастузского лагеря с 1952 года). Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев.
Похоть. Это не у каждого, конечно, это с физиологией связано, но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. (И что она могла выбрать ещё, кроме смерти?) В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках (как мы видели и в Ховрино). Он самолично сдёргивал с женщин одеяла, якобы ища спрятанных мужчин. При красавице-жене он одновременно имел трёх любовниц из зэчек. (Однажды, застрелив одну из них по ревности, застрелился и сам.) Филимонов, начальник КВО всего Дмитлага, был снят "за бытовое разложение" и послан исправляться (в той же должности) на БАМлаг. Здесь продолжал широко пьянствовать и блудить, и свою наложницу бытовичку сделал… начальницей КВЧ. (Сын его сошёлся с бандитами и вскоре сам сел за бандитизм.)
Злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости.
Как дикая плантаторша, носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь (13-й лесоповальный женский ОЛП Унжлага). Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил нескольких человек в БУР. Капитан Медведев (3-й лагпункт Устьвымьлага) по несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Если камеры изоляторов не были набиты, он ощущал неполноту жизни. По вечерам он любил выстроить зэков и читать им внушения, вроде: "Ваша карта бита! Возврата на волю вам не будет никогда и не надейтесь!" В том же Устьвымьлаге начальник лагпункта Минаков (бывший замнач Краснодарской тюрьмы, отсидевший два года за превышение власти в ней и уже вернувшийся в партию) самолично сдёргивал отказчиков за ноги с нар; среди тех попались блатари, стали сопротивляться, размахивать досками; тогда он велел во всём бараке выставить рамы (25° мороза) и через проломы плескать внутрь воду вёдрами.
Они все знали (и туземцы знали): здесь телеграфные провода кончились! Развилась у плантаторов и злоба с вывертом, то что называется садизм. Перед начальником спецотдела Буреполома Шульманом построен новый этап. Он знает, что этот этап весь идёт сейчас на общие работы. Всё же он не отказывает себе в удовольствии спросить: "Инженеры есть? Поднимите руки!" Поднимается с десяток над лицами, засветившимися надеждой. "Ах, вот как! А может и академики есть? Сейчас принесут карандаши! " И подносят… ломы. Начальник вильнюсской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Бельского (тот ещё в сапогах, в обтрёпанной офицерской форме). Ещё недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев, такой же погон носил с одним просветом. Что ж, пробуждается в Кареве сочувствие при виде этой обтрёпанной формы? Удерживается ли по крайней мере безразличие? Нет — желание унизить выборочно! И он распоряжается поставить его (вот именно не меняя форму на лагерную) возить навоз на огороды. В баню той же колонии приезжали ответработники литовской УИТЛК, ложились на полки и мыть себя заставляли не просто заключённых, а обязательно Пятьдесят Восьмую.
Да присмотритесь к их лицам, они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде (не ниже, конечно, купированного), в самолёте. У них венок в петлице, неизвестно что венчающий венок, а погоны уже не стали правда голубые (стесняются), но кантик голубенький или даже красный, или малиновый. На их лицах — задубеневшая отложившаяся жестокость и всегда мрачно-недовольное выражение. Казалось бы, всё хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они ещё что-то лучшее упускают? То ли уж за все злодейства метит Бог шельму непременно? — В вологодских, архангельских, уральских поездах в купированных вагонах — повышенный процент этих военных . За окном мелькают облезлые лагерные вышки. "Ваше хозяйство? "- спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворённо, даже гордо: "Наше."- "Туда и едете?" — "Да."- "И жена работает тоже?" — "Девяносто получает. Да я две с половиной сотни (майор). Двое детей. Не разгонишься." Вот этот например, даже с городскими манерами, очень приятный собеседник для поезда. Замелькали колхозные поля, он объясняет: "В сельском хозяйстве значительно лучше пошли дела. Они теперь сеют, что хотят. " (Социализм! А когда из пещеры первый раз вылезли засевать лесной пожог — не "что хотели" сеяли?…)
В 1962 году ехал я через Сибирь в поезде первый раз вольным. И надо же! — в купе оказался молодой эмведешник, только что выпущенный из Тавдинского училища и ехавший в распоряжение иркутского УИТЛ. Я притворился сочувственным дурачком, и он рассказывал мне, как стажировку проходили в современных лагерях, и какие эти заключённые нахальные, бесчувственные и безнадёжные. На его лице ещё не установилась эта постоянная жестокость, но показал он мне торжественный снимок 3-го выпуска Тавды, где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование (по дрессировке, сыску, лагереведению и марксизму-ленинизму) больше для пенсии уже, чем для службы, — и я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лица! Как же умело отбирают их из человечества!
В лагере военнопленных Ахтме (Эстония) был такой случай: русская медсестра вступила в близость с военнопленным немцем, это обнаружили. Её не просто изгнали из своей благородной среды — о, нет! Для этой женщины, носившей советские офицерские погоны, сколотили близ вахты за зоной тесовую будку (трудов не пожалели) с кошачьим окошком. В этой будке продержали женщину неделю, и каждый вольный, приходящий "на работу" и уходящий с неё, — бросал в будку камнями, кричал "б… немецкая!" и плевал.
Вот так они и отбираются.
Поможем сохранить для истории фамилии колымских лагерщиков-палачей, не знавших (конец 30-х годов) границ своей власти и изобретательной жестокости: Павлов, Вишневецкий, Гакаев, Жуков, Комаров, Кудряшёв М. А., Логовиненко, Меринов, Никишов, Резников, Титов, Василий «Дуровой». Упомянем и Светличного, знаменитого истязателя из Норильска, много жизней числят зэки за ним.
Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев (разжалованный из прибалтийского минвнудела в начальники Степлага); Тарасенко (начальник Усольлага); Коротицын и Дидоренко из Каргопольлага; о свирепом Барабанове (начальник Печорлага с конца войны); о Смирнове (начальник режима Печжелдорлага); майоре Чепиге (начальник режима Воркутлага). Только перечень этих знаменитых имён занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться. Да и власть по-прежнему у них. Не отвели мне ещё конторы собирать эти материалы и через всесоюзное радио не предлагают обратиться со сбором.
А я ещё о Мамулове, и хватит. Это всё тот же ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берии. Когда наши освободили пол-Германии, многие крупные эмведешники туда ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами — на свою станцию Ховрино. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтоб не видели вольные железнодорожники (как бы "ценное оборудование" для завода), — а уж свои зэки разгружали, их не стеснялись. Тут навалом набросано было всё, что наспех берут ошалевшие грабители: вырванные из потолка люстры, мебель музейная и бытовая, сервизы, кое-как увёрнутые в комканые скатерти, и кухонная утварь, платья бальные и домашние, бельё женское и мужское, цветные фраки, цилиндры и даже трости. Здесь это бережно теперь сортировалось, и что цело — везлось по квартирам, раздавалось знакомым. Привёз Мамулов из Германии и целый парк трофейных автомашин, даже 12-летнему сыну (как раз возраст малолетки!) подарил «Oпель-кадета». На долгие месяцы портновская и сапожная лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. Да у Мамулова не одна ж была квартира в Москве и не одна женщина, которую надо было обеспечить. Но любимая его квартира была загородная, при лагере. Сюда приезжал иногда и сам Лаврентий Павлович. Привозили из Москвы всамделишный хор цыган и даже допускали на эти оргии двух зэков — гитариста Фетисова и плясуна Малинина (из ансамбля песни и пляски Красной армии), предупредив их: если где слово расскажете — сгною! Мамулов вот был какой: с рыбалки возвращались, тащили лодку через огород какого-то деда, и потоптали. Дед как бы забурчал. Чем же наградить его? А избил его своими кулаками так, что тот в землю только хрипел. За моё же жито и меня же бито…[195]
Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь? Или мы об этом уже где-то читали, читали, читали?…
Мне возражают! Мне возражают! Да, были отдельные факты… Но главным образом при Берии… Но почему вы не даёте светлых примеров? Но опишите же и хороших! Но покажите нам наших отцов родных…
Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я — не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник не может быть хорошим — он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну допустите на минуту: вот лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий, — так дадут ему? разрешат? допустят? Как это самовар на мороз вынести да он бы там нагревался?
Вот так я согласен принять: «хорошие» это те, кто никак не вырвется, кто ещё не ушёл, но уйдёт. Например, у директора московской обувной фабрики М. Герасимова отняли партбилет, а из партии не исключили (и такая форма была). А пока его — куда? Послали лагерщиком (Усть-Вымь). Так вот, говорят, он очень тяготился должностью, с заключёнными был мягок. Через 5 месяцев вырвался и уехал. Можно поверить: эти 5 месяцев он был хорошим. Вот, мол, в Ортау был (1944) начальник лагпункта Смешко, от него дурного не видели, — так и он рвался уйти. В УСВИТЛе начальник отдела (1946) бывший лётчик Морозов хорошо относился к заключённым — так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Сиверкин, говорят, в Ныроблаге был хорошим. Так что? Послали его в Парму, на штрафную командировку. И два у него были занятия — пил горькую да слушал западное радио, оно в их местности слабо глушилось (1952). Вот и сосед мой по вагону, выпускник Тавды, тоже ещё с добрыми порывами: в коридоре оказался безбилетный парень, сутки на ногах. Говорит: "Потеснимся, дадим место? Пусть поспит." Но дозвольте ему годик послужить начальником — и он иначе сделает, он пойдёт к проводнице: "Выведите безбилетника!" Разве неправда?
Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего эмведешника, правда не лагерщика, а тюремщика — подполковника Цуканова. Одно короткое время он был начальником марфинской спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зэки признают: зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зэков — обязательно гнул. В чём только мог послабить — непременно послаблял. Но что ж? Перевели нашу спецтюрьму в разряд более строгих — и он был убран. Он был немолод, служил в МВД долго. Не знаю — как. Загадка.
Да вот ещё Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапёр, с 1943 по 1947 начальник Воркутлага (и строительства и самого лагеря) — был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключённым инженерам и называл их по имени-отчеству. Профессиональных чекистов не терпел, пренебрегал начальником Политотдела полковником Кухтиковым. Когда ему присвоили звание гебистское — генерального комиссара третьего ранга, он не принял (может ли так быть?): я инженер. И добился своего: стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт, не было создано на Воркуте ни одного лагерного дела (а ведь это годы — военные, самое время для "дел"), жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство, если только А. Раппопорт не поддаётся невольным преувеличениям из-за своего привилегированного инженерного положения в то время. Мне как-то плохо верится: почему тогда не сшибли этого Мальцева? ведь он должен был всем мешать! Понадеемся, что когда-нибудь кто-нибудь установит здесь истину. (Командуя сапёрной дивизией под Сталинградом, Мальцев мог вызвать командира полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный, да не за это, за другое что-то.)
В этом и других подобных случаях память и личные наслоения иногда искажают воспоминания. Когда говорят о хороших , хочется спросить: хорошие — к кому? ко всем ли?
И бывшие фронтовики — совсем не лучшая замена исконным эмведешникам. Чульпенёв свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пёс сменялся (в конце войны) подраненным фронтовиком вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения и уходили за зону пьянствовать с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков.
Однако те, кто особенно кричат о "хороших чекистах" в лагерях, а это — благонамеренные ортодоксы, — имеют в виду «хороших» не в том смысле, в котором понимаем мы: не тех, кто пытался бы создать общую человечную обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛага. Нет, «хорошими» считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключённых, но поблажал бывшим коммунистам. (Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они — наследники общечеловеческой культуры.)
Такие «хорошие» конечно были, и немало. Да вот и Кудлатый с томами Ленина — чем не такой? О таком рассказывает Дьяков, вот благородство: начальник лагеря во время московской командировки посетил семью сидящего у него ортодокса, а вернулся — и приступил к исполнению всех псовых обязанностей. И генерал Горбатов «хорошего» колымского припоминает: "Нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключённому." А чем этот «хороший» колымский пёс озабочен — чтоб Горбатов не рассказал «наверху» о произволе в его лагере. Из-за того и вся приятная беседа. К концу же: "Будьте осторожны в разговорах." (И Горбатов опять ничего не понял…)
Вот и Левкович пишет в «Известиях» (6.9.64), как называется, страстную , а по-нашему — заданную статью: что знала де она в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и т. д. чекистов, и такой Капустин в Джамбуле пытался сосланных жён коммунистов устраивать на работу — и из-за этого был вынужден застрелиться. Тут уж полный бред, мели, Емеля… Комендант и обязан устраивать ссыльных на работу, даже насильственным путём. И если он действительно застрелился — так или проворовался, или с бабами запутался.
Да, вот же ещё "хороший"! — наш экибастузский подполковник Матвеев. При Сталине острые зубы казал и лязгал, а умер Папаша, Берия слетел — и стал Матвеев первым либералом, отец туземцев! Ну, и до следующего ветра. (Но натихую поучал бригадира Александрова и в этот год: "Кто вас не слушает — бейте в морду, вам ничего не будет, обещаю!")
Нет, до ветру нам таких «хороших»! Такие все «хорошие» дёшево стуят. По нам тогда они хороши, когда сами в лагерь садятся.
И — садились иные. Только суд был над ними — не за то .
* * *
Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это — гулаговские унтеры. Та самая их и задача — тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще. Они, впрочем, на это не скупятся, и если нужно искровянить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроём смело бьют одного, хоть до полёгу. Год от года они на своей службе грубеют, и не заметишь на них ни облачка сожаления к мокнущим, мёрзнущим, голодным, усталым и умирающим арестантам. Заключённые перед ними — так же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством, так же можно на них давить — и чувствовать себя высоким человеком. И выместить злость, проявить жестокость — в этом преграда им не поставлена. А когда бьёшь безнаказанно — то, начав, покинуть не хочется. Произвол растравляет, и самого себя таким уж грозным чувствуешь, что и себя боишься. Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера — но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключённых им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, дёрнуть зэка к себе домой на полдня — дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто. За счёт работающих — нельзя, значит за счёт отдыхающих. (Табатеров — Березники, 1930 — только прилёг после ночной двенадцатичасовой смены, надзиратель его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй не пойди…) Вотчины нет у надзирателей, лагерь им всё-таки — не вотчина, а — служба, оттого нет ни той спеси, ни того размаха в самовластии. Стоит перед ними преграда и в воровстве. Здесь — несправедливость: у начальства и без того денег много — так им и брать можно много, а у надзора куда меньше — и брать разрешено меньше. Уже из каптёрки мешком тебе не дадут — разве сумочкой малой. Как сейчас вижу крупнолицего льноволосого сержанта Киселёва: зашёл в бухгалтерию (1945) и командует: "не выписывать ни грамма жиров на кухню зэ-ка! только вольным!" (жиров не хватало). Всего-то и преимуществ — жиров по норме… Сшить что-нибудь себе в лагерной мастерской — надо разрешение начальника, да в очередь. Ну, вот на производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать — запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жён их особенно, и от того много бывает горечи против начальства, оттого жизнь ещё кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе, тюремном и лагерном, встретить человека бывает можно, каждый заключённый встречал на своём пути не одного. В офицере же — почти невозможно.
Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности.
Настоящие надзиратели — это те, кто служит в лагерях по 15 и по 25 лет. Кто, однажды поселясь в далёких этих проклятых местах, — уж оттуда и не вылезает. Устав и распорядок они однажды утвердят в голове — и ничего во всю жизнь им больше ни читать, ни знать не надо, только слушай радио, московскую первую программу. Вот их-то корпус и составляет для нас — тупо-невыразительное, непреклонное, недоступное никакой мысли лицо ГУЛага.
Только в годы войны состав надзора исказился и замутился. Военные власти впопыхах пренебрегли безупречностью службы надзора и кого-то выхватили на фронт, а взамен стали попадать сюда солдаты войсковых частей после госпиталя — но этих ещё отбирали потупей и пожесточе. А то попадали старики: сразу из дому по мобилизации и сюда. И вот среди этих-то, седоусых, очень были добродушные непредвзятые люди — разговаривали ласково, обыскивали кое-как, ничего не отнимали и ещё шутили. Никогда от них не бывало жалобы и рапорта на карцер. Но после войны они вскоре демобилизовались, и больше таких не стало.
Необычны были для надзорсостава и такие (тоже надзиратели военного времени), как студент «Сенин», я о нём уже писал, и ещё один еврей-надзиратель в нашем лагере на Калужской — пожилой, совершенно гражданского вида, очень спокойный, не придирчивый, никому от него не было зла. Он так нестрого держался, что раз я осмелился у него спросить: "Скажите, кто вы по гражданской специальности?" Он не обиделся, посмотрел на меня спокойными глазами и тихо ответил: "Коммерсант." До нашего лагеря во время войны он служил в подольском, где как говорил, каждый день войны умирало от истощения 13–14 человек (вот уже 20 тысяч смертей). В «войсках» НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь, после войны, нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно.
А вот старшина Ткач, гроза и помначрежима экибастузского лагеря, пришёлся к надзорсоставу как влитый, будто от пелёнок он только тут и служил, будто и родился вместе с ГУЛАГом. Это было — всегда застывшее зловещее лицо под чёрным чубом. Страшно было оказаться просто рядом с ним или встретиться с ним на лагерной дорожке: он не проходил мимо, чтоб не причинить человеку зла — вернуть его, заставить работать, отнять, напугать, наказать, арестовать. Даже после вечерней проверки, когда бараки запирались на замок, но в летнее время зарешеченные окна были открыты, Ткач неслышно подкрадывался к окнам, подслушивал, потом заглядывал, — вся комната шарахалась — а он за подоконником, как чёрная ночная птица, через решётку объявлял наказания: за то, что не спят, за то, что разговаривают, за то, что пользуются запрещённым.
И вдруг — исчез Ткач навсегда. И пронёсся по лагерю слух (проверить точно мы его не могли, но такие упорные слухи обычно верны), что он разоблачён как фашистский палач с оккупированной территории, арестован и получил четвертную . Это было в 1952 году.
Как случилось, однако, что фашистский палач (никак не долее, чем трёхлетний) семь лет после войны был на лучшем счету в МВД?
* * *
"Конвой открывает огонь без предупреждения!" В этом заклинании — весь особый статут конвоя, его власти над нами по ту сторону закона.
Говоря «конвой», мы употребляем бытовое слово Архипелага: ещё говорили (в ИТЛ даже чаще) —вохра или просто «охра». По-учёному же они назывались Военизированная Стрелковая Охрана МВД, и «конвой» был только одной из возможных служб вохры, наряду со службой "в карауле", "на зоне", "на оцеплении" и "в дивизионе".
Служба конвоя, когда и войны нет, — как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придётся. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту.
Вот два убийства на лагпункте Ортау (а на число лагпунктов умножайте). Стрелок вёл подконвойную группу, бесконвойный подошёл к своей девушке, идущей в группе, пошёл рядом. "Отойди!" — "А тебе жалко?" Выстрел. Убит. Комедия суда, стрелок оправдан: оскорблён при исполнении служебных обязанностей.
К другому стрелку, на вахте, подбежал зэк с обходным листком (завтра ему освобождаться), попросил: "пусти, я в прачечную (за зону) сбегаю, мигом!" — "Нельзя." — "Так завтра же я буду вольный, дурак!" Застрелил. И даже не судили.
А в пылу работы как легко заключённому не заметить этих затёсов на деревьях, которые и есть воображаемый пунктир, лесное оцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьёв (бывший армейский лейтенант) повалил ель и, пятясь, очищает её от сучьев. Он видит только своё поваленное дерево. А конвоир, "таншаевский волк" прищурился и ждёт, он не окликнет зэка — "поберегись!" Он ждёт — и вот Соловьёв, не замечая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола. Выстрел! Разрывная пуля, и разворочено лёгкое. Соловьёв убит, а таншаевскому волку — 100 рублей премия. ("Таншаевские волки" — это близ Буреполома местные жители Таншаевского района, которые все поступали в вохру — во время войны, чтоб от дома ближе и на фронт не идти.)
Эта беспрекословность отношений между конвоем и заключёнными, постоянное право охраны употребить пулю вместо слова — не может остаться без влияния на характер вохровских офицеров и самих вохровцев. Жизнь заключённых отдаётся в их власть хотя не на полные сутки, но зато уже сполна и доглубока. Туземцы для них — никак не люди, это какие-то движущиеся ленивые чучела, которых довёл их рок считать, да побыстрее прогнать на работу и с работы, да на работе держать погуще.
Но ещё больше сгущался произвол в офицерах вохры. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно-своевольное ощущение власти над бытием. Одни — только громогласные (старший лейтенант Чёрный в Ныроблаге), другие — наслаждаясь жестокостью и даже перенося её на своих солдат (лейтенант Самутин, там же), третьи не зная уже ни в чём запрета своему всесилию. Командир вохры Невский (Усть-Вымь, 3-й лагпункт) обнаружил пропажу своей собачки — не служебной овчарки, а любимой собачки. Он пошёл искать её разумеется в зону и как раз застал пятерых туземцев, разделывавших труп. Он вынул пистолет и одного убил на месте. (Никаких административных последствий этот случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых.)
В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганною быстротою налетел лесной пожар — от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их — и все сгорели. Так — спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану.
Лишь в одном ограничивала вохровская служба клокочущую энергию своих офицеров: взвод был основной единицей, и всё всесилие кончалось взводом, а погоны — двумя малыми звёздочками. Продвижение в дивизионе лишь удаляло от реальной взводной власти, было тупиковым.
Оттого самые властолюбивые и сильные из вохровцев старались перескочить во внутреннюю службу МВД и продвигаться уже там. Некоторые известные гулаговские биографии именно таковы. Уже упомянутый Антонов, вершитель заполярной "Мёртвой дороги", вышел из командиров вохры и образование имел — всего четырёхклассное.
Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве, да и военкоматы имели на то тайное указание. Много тайной работы ведут военкоматы, мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск 20-х годов (проект Фрунзе), и даже наоборот с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армии как можно дальше от своей местности (азербайджанцев — в Эстонию, латышей — на Кавказ)? Потому что войска должны быть чужды местному населению желательно и по расе (как проверено в Новочеркасске в 1962 году). Так и в подборе конвойных войск не без умысла было достигнуто повышенное число татар и других нацменов: их меньшая просвещённость, их худшая осведомлённость были ценностью для государства, крепостью его.
Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с Особлагами — с конца 40-х и начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению. (Об этом конвое мы ещё будем говорить отдельно.)
А до того времени как-то руки не доходили в ГУЛаге. Да просто весь наш, хотя и социалистический, народ ещё не доразвился, не поднялся до того стойкого жестокого уровня, чтобы поставлять достойную лагерную охрану. Состав вохры бывал пёстр и переставал быть той стеной ужаса, как замыслен. Особенно размягчился он в годы советско-германской войны: лучших тренированных ("хорошей злобности") молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в вохру тянулись хилые запасники, по здоровью не годные к действующей армии, а по злобности совсем не подготовленные к ГУЛАГу (не в советские годы воспитывались). В самые беспощадные голодные военные лагерные годы это расслабление вохры (где оно было, не везде-то было) — хоть отчасти облегчало жизнь заключённых.
Нина Самшель вспоминает о своём отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. "Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере, и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному (вот тоже ещё военное время — на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение?), то я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключёнными. Отца заключённые очень уважали: он никогда им не грубил, и отпускал их по просьбам, например в магазин, и они у него никогда не убегали. Они мне говорили: "вот если бы все конвойные были такие, как твой папа". Он знал, что много людей сидит невинных и всегда возмущался, но только дома — во взводе сказать так было нельзя, за это судили." По окончании войны он сразу демобилизовался.
Но и по Самшелю нельзя верстать вохру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его: уже в 1947 он был по 58-й посажен и сам! В 1950 в присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер.
После войны эта разболтанная охрана ещё оставалась год-два, и как-то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок»: "Вот когда срок кончу." Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован, — и стрелки завидовали ему: вот додумался! молодец!
Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал её в начале побега — и скрыл её попытку, она не была наказана. Ещё один застрелился от любви к зэчке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь.
Молодые пополнения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛаг. Когда в ныроблагской стрелковой охране бунтовал Владилен Задорный (о нём ещё будет), то сверстники-сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно.
Особую полосу в истории лагерной охраны составляет самоохрана . Ещё ведь в первые послереволюционные годы было провозглашено, что самоокарауливание есть обязанность советских заключённых. Не без успеха это было применено на Соловках, очень широко на Беломорканале и на Волгоканале: всякий социально-близкий, не желавший катать тачку, мог взять винтовку против своих товарищей.
Не будем утверждать, что это был специальный дьявольский расчёт на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой советской истории, высокая коммунистическая теория и ползучая моральная низость как-то естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоки к своим братьям, тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счёты выстрелом наповал.
Нет, скажите: чему дурному нельзя научить народ? людей? человечество?…
Да это и в юридической литературе отмечено: "во многих случаях лишённые свободы выполняют свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели."[196]
Эта цитата — из 30-х годов, а Задорный подтверждает и о конце 40-х: самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод и застреливали. Причём в Парме, штрафной командировке Ныроблага, сидела только Пятьдесят Восьмая, и самоохрана была из Пятьдесят Восьмой! Политические…
Рассказывает Владилен о таком самоохраннике — Кузьме, бывшем шофёре, молодом парне лет двадцати с небольшим. В 1949 он получил десятку по 58–10. Как жить? Другого пути не нашёл. В 1952 Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его, он говорил, что не выдержит этой ноши — винтовки; идя в конвой, часто не заряжал её. Ночами плакал, называя себя шкурой продажной, и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо. Он стихи любил и уходил с Владиленом читать их в тайгу. А потом опять за винтовку…
И такого знал он самоохранника как Александр Лунин, уже пожилой, седые волосы венчиком около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом — предколхоза. Он получил десятку (по бытовой) за то, что не уступил райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек! — ближние были ему дороже себя. А вот в Ныроблаге стал самоохранником, даже у начальника лагпункта Промежуточная заработал скидку срока.
Границы человека! Сколько не удивляйся им, не постигнешь…
Продолжение следует


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

















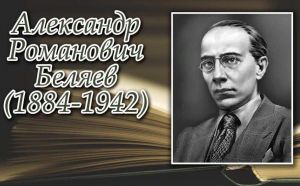








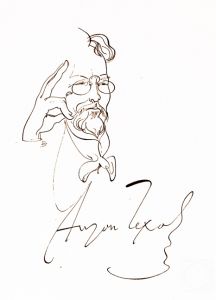





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский