Церкви закрывались, потому что власть видела в них непосредственную себе угрозу. Ведь при социализме не должно быть другой веры, кроме как в партию и светлое социалистическое будущее.
Док. 10
Бондаренко Георгий Иванович родился в 1909 г. в д. Камысла нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Соломыкина Александра в 2001 г. (г. Кемерово)
Отец мой был великим тружеником, хотя ходил на костыле (повредил ногу еще на царской войне). Все всегда делал со смыслом и по уму. Всегда в работе. Поэтому и нажили 2 мельницы (водяная и ветряная), маслобойку, сноповязку, сложную молотилку, 50 десятин земли. А земля наша хорошая, колоски были с ладонь (показывает). А ведь руками убирали. Обмолотишь сноп, граблями соберешь, вытрясешь солому, зерно сгребешь в кучу и опять кладешь. Красота! Отец был добрая душа, всем в округе молотил, крупу дробил. Беднякам отдавал муку безплатно. Народ и избрал его старостой церкви. Все у нас было. Скотины много: корова, телята, свиньи, гуси, куры, утки. Много работали для себя. Семья у нас была большая: четыре брата и сестра. Я был старший, потом — Тихон, Иван, Федор, Федоська, Павел. А отца моего, Ивана Тихоновича Бондаренко, и меня в 1930 г. лишили избирательных прав «за эксплуатацию батраков и сельскохозяйственных машин». В 1932 г. нас раскулачили, все отобрали. Три амбара было. Все вывезли, весь хлеб. А нас сослали в Нарым. У меня жена беременная была. Тяжело вспоминать. Она там, в Нарыме, возле костра и родила сына. Он только раз крикнул и покинул этот свет. Гробик я ему ножом сделал. Ничего не было, снег один. Бараки строили, когда пришли. Ночь у костра спим, а день барак строим. Много семей там было. Никто нас и не кормил, живите, как хотите. А охрана чистые звери были. Тяжело было на лесоповале. Но выживали, если не надрывались и не околевали. Вот и я выжил. Бежал ведь я оттуда с отцом. Скитались долго. Поймали нас, обратно привезли. А брата моего, Федора, в январе 1938 г. расстреляли «за вредительство и проведение антисоветской агитации среди рабочих» по приговору тройки НКВД. Он работал слесарем в паровозном депо. После смерти брата и смерти жены (она не могла после Нарыма оправиться) сбежал я в Ригу, чтоб никто не трогал, никто не знал меня. Спрятаться хотел (долго задумчиво молчит). Год прожил тихо. А однажды латыш сосед говорит: «Ты уезжай, тебя хотят расстрелять». Он дал мне хлеба, масла, немного денег, и я уехал. Почему он мне помог, так и не знаю. А мне все спрятаться хотелось от «черного воронка». После смерти брата мне постоянно мерещился этот «черный воронок». Всегда боялся — приедут, заберут. Уехал я на афганистанскую границу, под чужой фамилией. Работал и наладчиком, и электростаночником, и трактористом. Работал — кем придется, нельзя было отказываться. А когда война началась, я уже в Казахстане на свинцовом руднике работал. Бронь от фронта была. Снаряды мы готовили. Женился я в Казахстане. А жена-то землячка. Из Тогучина оказалась. У нее двое детей было: Коля и Володя. Николай на Севере сейчас живет, а Володя умер. Бог и ее прибрал. Долго я с ней возился: ноги у нее болели. Было и у нас доносительство. Как-то работали, потом пообедали — чем пришлось. А начальник выходит и говорит: «Вот это надо сделать к таким-то часам». А один из нас говорит, что у Бога дней много, чего спешить. Наутро он не пришел на работу, не видели мы его больше. Бывало, женщины в поле свеклу соберут, а их в тюрьму на десять лет за это. А ведь у них дома дети. Ни на что не смотрели. Много людей умерло в голоде. Бабка хлеб испечет, завяжет в тряпочку, за пазуху спрячет и несет на базар. А там ее схватят. Как же! Спекулянтка. Хлеб отберут, а она уйдет ни с чем. Тяжелая жизнь была. За что отцовскую, мою и братову жизнь изломали?! Ведь не собаки же мы были. Никого не убивали, не грабили. А нас изводили, как последних злодеев. Не должно такого повториться… И тревоги мои не за себя. Хочется добра всем людям российским. Назад возврата нет. Пусть люди крестьянствуют. Дай нам Бог всем воспрянуть духом!
Приложение (опубликованные документы):
«Обращение ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю в крайздрав с просьбой принять меры по уменьшению детской смертности в южных комендатурах.
23 мая 1934 г.
Секретно
Заведующему Запсибкрайздравотделом
Отчетные данные за 1-й квартал с.г. от южных (промышленных) комендатур Кузбасуголь и Кузнецкстрой показывают, что детская смертность продолжает оставаться необычайно высокой. Особенно пораженным является возраст от 1 года до 3 лет (ясельный). Так, из общего количества умерших спецпереселенцев по Анжерской комендатуре (140) дети в возрасте от 0 до 16 лет составили 84 чел. или 60%, по Кузнецкой (403) — 219 чел. или 54,3%, и по Прокопьевской (44,2) 228 чел. или 51%. Из общего количества умерших детей дети в возрасте от 1 года до 3 лет составили по Анжерской комендатуре 67%, по Кузнецкой 41%, по Прокопьевской 51%. При расчете указанной смертности на общий контингент детей от 1 года до 3 лет в этих комендатурах получаем смертность за квартал по Анжерской 7,7% по Кузнецкой 6,3% и по Прокопьевской 5,8%. Если детская смертность также будет продолжаться и в последующие кварталы, то к концу года детское население в перечисленных выше комендатурах в возрасте от 1 года до 3 лет уменьшится от 25 до 30%, т.е. почти на одну треть
Зам. начальник ОСП ПП ОГПУ по Запсибкраю Анастасенко
Зам. начальника Санотделения Бард-Ахчан
ГАНО, Ф. 1353. Оп. 1. Д.97. ЛЛ.33-33об.
Подлинник» [536] (с. 191–192)
Да, в этом документе было, что засекречивать большевикам: они совершенно умышленно убивали русских детей, а в особенности самого беззащитного — ясельного возраста. Убивали до тысячи за квартал, причем, — это сведения только по Западной Сибири! О детях до месяца здесь и разговор не идет: они умирали вообще все — их, как свидетельствуют очевидцы, просто как дохлых щенков выкидывали из вагонов конвойные. По всей же стране убивали большевики детей столько, что преступления германских национал-социалистов, в сравнении с ними, зверствами уже не покажутся. Так какое из этих двух социалистических государств все-таки справедливее было бы именовать фашистским?
Док. 11
Осипов Георгий Фомич родился в 1909 г. в с. Воскресенском нынешней Кемеровской области. Рассказ записала в 2002 г. внучка Осипова Татьяна со слов своего отца Осипова Андрея Геннадьевича (г. Кемерово)
Мой отец, Георгий Фомич, был призван в ряды Красной Армии в 1929 г. и проходил службу в кавалерийском полку, дислоцированном в городе Томске. После окончания полковой школы, он был назначен помощником командира взвода химической защиты полка. Разговоры о коллективизации в стране были предметом постоянных дискуссий среди командирского состава полка. Дед в этих дискуссиях участия не принимал, но для себя твердо уяснил: «Как только в его родном селе начнется коллективизация, нужно срочно записать всю родню в колхоз. Иначе их сошлют туда, где Макар телят не пас. Он знал, что никакие заслуги перед советской властью значения иметь не будут. Осенью из родного села к нему в часть пришло письмо. Его отец, Осипов Фома Афанасьевич, писал о том, что у них будет организовываться колхоз. Получив это известие, Георгий Фомич обратился к командиру части с просьбой о внеочередном отпуске в родное село, чтобы уговорить своих родственников записаться в колхоз. Просьба была удовлетворена. Когда он приехал в село, колхоз еще не был организован, но несколько заявлений о вступлении уже было. Все эти заявления были поданы так называемыми деревенскими пролетариями, у которых, как говорил отец, «за душой ничего не было». После бурных споров с родственниками (он даже подрался со своим тестем), отец все же убедил их в необходимости записаться в колхоз. Вступление нашей семьи в колхоз стало для всех большой неожиданностью. Ведь мы были одними из самых богатых в селе (село Воскресенское насчитывало тогда до 500 дворов). В колхоз были сданы все сельскохозяйственные орудия: двухлемешный плуг, сеялку, веялку, молотилку, конные грабли, конную косилку, конные бороны, маслобойку. В колхоз была сдана также вся живность: семь коров, все овцы (точное число отец не знал), выездная лошадь по кличке Карька, владимирский тяжеловоз по кличке Чалый и две рабочие лошади. Себе оставили только домашнюю птицу. В колхоз было сдано также все семенное зерно, которое они специально покупали в Щегловске у знакомого крестьянина. Дело в том, что зерно, выращенное в их районе, нельзя было брать на семена из-за того, что оно не вызревало полностью и не давало хороших всходов. Записав в колхоз всех родственников, отец вернулся в свою военную часть. Основная коллективизация началась в селе весной 1930 г. Пришло распоряжение записать в колхоз не менее 60% крестьян. В том распоряжении указали, что кулаками надо считать богатеев — крестьян, которые имели более 3 лошадей или 5 коров, а также занимающихся торговлей и промыслом, например, кожевенным делом, производством дегтя и т.д. В колхоз их не пускать. Имущество, дома, скот у этих людей были отобраны, а их сослали на север Томской губернии. А на их место привезли сосланных из соседних губерний. Не приходиться сомневаться, что сослали бы и нас, если бы отец тогда не настоял на своем. В эту же весну умер отец Георгия Фомича — Фома Афанасьевич. Приехав на похороны, отец был поражен тем, как изменилось село. Оказалось, что семенное зерно было пущено на самогон. Коров и овец (в том числе породистых длинношерстных) пустили на мясо. Сельскохозяйственный инвентарь, который у отца Георгия Фомича хранился зимой в крытом машинном дворе, тщательно почищенный и смазанный, провел эту зиму под снегом. Маслобойку комитетчики поменяли на самогон в соседней деревне. Но больше всего Георгия Фомича покоробила и оставила на всю жизнь горький след судьба выездной лошади Карьки и тяжеловоза Чалого. Пьяные комитетчики на спор заставили бегать Чалого, который был знаменит на всю округу своей силой и в то же время медлительностью (племенные качества этой породы), а Карьку трелить бревна. В результате этих глупых экспериментов обе лошади были загнаны и умерли. Вспоминая о Карьке и Чалом, Георгий Фомич всегда плакал. В 1933 г., демобилизовавшись из армии, Георгий Фомич приехал в свое родное село. Ему предложили, как бывшему командиру Красной армии, стать председателем колхоза. Но он не смог простить того, что с его хозяйством сотворили комитетчики, и ушел работать на железнодорожную станцию Тайга, забрав с собой из деревни свою жену, а потом постепенно остальных родственников. А колхоз остался. В дальнейшем в него были записаны все крестьяне села. Кто отказался, был сослан на север Томской губернии. Такая участь чуть было не постигла и тестя Георгия Фомича Новоженникова Тихона Савватеевича, который был одним из беднейших крестьян села (имел только одну корову). Стоило больших трудов избежать выселения из села. А в дальнейшем он стал колхозником. Перед самой войной Георгий Фомич навестил тестя, который так и остался в селе. Село к тому времени пришло в упадок. Церквушку — предмет гордости односельчан, которую строили всем миром, сожгли. А отца-настоятеля со всей семьей увезли в Томск. Их судьба неизвестна. До коллективизации село насчитывало 500 дворов, а к этому времени оно обезлюдело. Основная масса мужиков ушла на шахты под Анжерку. Обустроившись, они выписывали свои семьи. Часть мужиков ушла на строительство Мариинского спиртзавода. Тесть Георгия Фомича остался в колхозе. Он опустился. Все время плакал, вспоминая прежние времена. Единственное, на что он согласился в колхозе пасти скот, так как с землей работать уже не хотел. Раньше рядом с селом текла речка Воскресенка, стояла мельница. Из этой речки люди брали питьевую воду, ловили рыбу. Скот поить из речки запрещалось. За это старики пороли кнутом. Скот поили в специальных поилках, в которые воду проносили ведрами из реки. Когда мельника раскулачили и сослали, мельница развалилась. Вслед за ней — и плотина. Пруд не чистили. Он заболотился. В реку стали загонять скот на водопой. Берега ее поэтому осыпались. Речка стала мелеть, превратилась в ручеек. А потом, говорят, и совсем пропала.
Док. 12
Рубцов Дмитрий Ермолаевич родился в 1910 г. в д. Лебеди нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Костюкова Марина в 2000 г. (г. Кемерово)
Коллективизация в нашей семье связывается с каторгой, бесправием, подневольным трудом. Я уже тогда был, считай, взрослым человеком. И вспоминаю ее как разорение комиссарами хозяйств, грабеж ими крестьянского имущества. Это горе и слезы крестьян. От родителей я часто слышал проклятия властям за коллективизацию!.. Тогда нами правили большевики. Вот они и решили срочно создать военную промышленность за счет ограбления крестьян. Издали законы и постановления о насильственном сгоне крестьян в колхозы. Кто не хотел идти на безплатный каторжный труд, того объявили кулаками — мироедами и подвергли полному разорению, грабежу и насилию. Людей отправляли в северные лагеря России, на каторжные работы: лесоповал, строительство Беломорканала, добычу золота, руды, строительство военных заводов. Деревня стала нищая. У крестьян отбирали последнее. Райком ВКП(б) агитировал за счастливую жизнь в коллективном хозяйстве. По деревням разъезжали специальные вооруженные работники. Они были часто пьяными. Под угрозой расправы заставляли крестьян записываться в колхоз. Правда, они всем давали срок подумать. Всем несогласным угрожали. За отказ вступить в колхоз крестьян выселяли и увозили на каторгу или в глухие поселения. Молодых сразу забирали на работу, а пожилых сначала сажали в тюрьму, а затем отправляли на север. Конфискации подлежало все имущество хозяина: скот, птица, сельхозинвентарь, одежда, обувь и др. Часть крестьян уходила в леса. Там они создавали отряды по борьбе с произволом властей. Но любой протест крестьян жестоко подавлялся… Произвол и насилие царили в деревнях. И это несмотря на специальные циркуляры властей, их запрещавшие… После коллективизации молоко уже сдавалось в город как налог, то есть, задаром. В колхозе работали от зари до зари. Нам ставили трудодни. На них мы получали пшеницу, овес, мед и другие продукты. Колхозное добро, конечно, воровали. Но наказание за это было очень суровым. Поэтому мы очень боялись воровать. В доколхозное время мы не воровали друг у друга и без всякой боязни. Почему? Да потому, что у всех все было, каждый обеспечивал себя сам. Но, признаться, и воровать-то в домах особо нечего было. Да и совесть у людей была. Дармоедами еще не привыкли жить. Крестьяне мечтали о роспуске колхозов. Это я точно знаю. Мечтали хотя бы потому, что тогда бы они стали свободными и могли куда-то поехать. Крестьянин мог выехать из деревни только по направлению колхоза и обязательно вернуться назад на работу. Паспортов у колхозников не было. Не было и пенсионеров. Так распорядилась советская власть. Мои дети уехали из колхоза при первой же возможности. Были в наших Лебедях и «враги народа». Это были простые люди, которые имели неосторожность что-либо сказать против советской власти или против колхозов. Нередко это были те, кто просто пошутил или украл в колхозе какую-то малость. В сталинские времена разговоров о политике велось мало. Что-то из политического чаще всего говорилось в сердцах или в пьяной компании. Был, конечно, у нас и голод. Люди собирали по полям мерзлую картошку, пекли тошнотики [из мерзлой картошки — А.М.]. Варили суп из крапивы, лебеды. Когда началась война, пошли воевать только те, кто имел призывной возраст. Не больше трети их вернулось с войны. Да и то, это были раненые и перераненные люди. Те, кто побывал в немецком плену, отправлялись в ГУЛАГ, откуда они уже не возвратились. После войны жить стало лучше. Но не намного. Было все то же: голод и налоги. Налоги были на все: яйца, мясо, молоко, масло, шкуры, шерсть. Все это сдавалось государству в установленном количестве. Норму на каждый двор устанавливал сельский совет. Грамотных было мало. Школы были не во многих деревнях. Да и те только до 4 классов... Церковь у нас была. Но потом ее разрушили. В 1931 г. священника отправили в ГУЛАГ. За всю жизнь я нигде ни разу не отдыхал. Телевизор и холодильник мне купили уже дети. Правительство уделяет мало внимания деревенской жизни... Там остались старики, а они не в состоянии держать какую-либо живность. Нищета в деревне будет еще долго.
Док. 13
Федоськина (Петрова) Мария Филипповна родилась в 1910 г. в с. Чебула нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Бессонова Виктория в 1999 г. (п. Чебула)
Я, слава Богу, грамотная. Окончила три класса. Это благодаря родителям. Мамка у нас больно строгая была. Отец, тот все ремнем решал. А вот мать могла так словом забить, что звать себя забудешь. Бывало, хочешь по улице побегать, а как мамку увидишь, что та на крыльцо вышла, так сразу домой бежишь. Я из школы приду и сразу корову пасти. А мать еще мешок с собой даст, чтобы я на обратном пути травы нарвала. Не дай Бог, этот мешок не полный. Но ничего, жили! А потом другая власть пришла. Стали нас в колхозы собирать. У нас последнюю корову свели в общее стадо. Вот тогда действительно нужда пришла. Голод стал. Тех, кто не хотел в колхоз вступать, силой заставляли. А если кто все-таки упрямился, его кулаком прозывали. Каких из них совсем из деревни выгоняли, а каких раскулачивали. У них все забирали, вплоть до последних валенок. Отец комбайнером в колхозе был, а мать дояркой. В то время день числился трудоднем, деньги за него не платили. На них продукты начисляли. Но их было мало. В колхозе мы уже досыта никогда не ели. Бывало, проснешься ночью от голода, сил нет, как есть хочется! У маманьки все было подсчитано: до последнего зернушка, до последнего кусочка буханки. Полезешь в стол, чтоб крошечку съесть, а мамка встанет и по рукам даст… пошла я замуж. На свадьбу всей деревней собирали: и одежду, и покушать на стол. О приданом и говорить нечего было! Это тебе не ранешное время. Колхоз нам с Миколой выделил домишко. Из досок кровать сделали. Стол и табуретку он сам смастерил. Лет через пять стали понемногу обустраиваться. Но тут война пришла. Я уже второго ребенка ждала. Миколу моего забрали воевать. Сестру мою Надьку тоже. Она фельдшером была. Тогда люди не такие, как сейчас были. С радостью на войну шли. Не боялись погибнуть. А мне одной еще тяжелее стало. Но люди помогали. Когда, например, Миханю надо было в школу отправлять, так ему совсем не в чем идти было. Кто рубашонку из соседей дал, кто штанишки. Я хотела, чтобы дети образованными были. Когда Микола с войны пришел, полегче стало. Но все равно еще долго от войны оправиться не могли. Правитель тогда у нас строгий был — Сталин. Его все боялись! Но все равно голод-то не тетка. Приходилось воровать. Бывало, идет машина с зерном, а мужики к ней подбегут и украдут кепку пшеницы. Кого поймают, в тюрьму посадят или даже расстреляют. А кого пронесет, все же семью накормит. Да! Ох и тяжело было! Вот она жизнь-то какая была! Как речка быстротечная. Плывешь себе по течению. А если плавать не умеешь, так быстро потонешь. И слово против власти не скажешь. Хотя, конечно, были и такие, кто говорил. Но их врагами народа считали и в тюрьму сажали. Боялись люди лишнего сказать. Не то, что сейчас. Хоть во весь голос кричи, никто тебе ничего не скажет. Муж мой помер лет десять назад. Хорошо хоть детей подняли, сумели воспитать. А что еще человеку нужно?! Сейчас жизнь и вовсе наладилась. Только надо, чтобы пенсию вовремя носили. А так, жить можно! Корову держу, козочек, кур. В общем, не жалуюсь. Да еще дети, нет-нет, да помогут. Жить стало лучше. Хоть и давят народ ценами. Мне 89 лет, но я все сама по дому делаю: и пол помою, и за водицей схожу. Закалка-то она много значит. Я вот и думаю: а если бы жизнь по-другому сложилась, дожила я до стольких лет или нет? Наверное, нет! Потому что, хоть и суровая была жизнь, но люди хотели жить и жили. Жизнь штука тяжелая. Но если хочешь жить, значит будешь. Никуда ты не денешься — ни от времени, ни от судьбы!
Док. 14
Ретунская (Зубкова) Мария Дмитриевна родилась в 1910 г. в с. Усть-Волчиха Алтайского края. Рассказ записала Полузятько Яна в 1999 г. (д. Тутуяс Кемеровской области)
Про революцию только и помню, что: то красные придут, то белые. А мы все по погребам прятались. До революции и до коллективизации тот хорошо жил, кто хорошо работал. Лодыри жили в бедности и нищете. На всю нашу деревню из 50 дворов был только один пьяница и дебошир. Он был сапожником. С апреля по ноябрь у нас в деревне все работали от зари до зари: то посевная, то покос, то уборочная. На себя работали. Тяжести не замечали. Одежду носили в основном самотканную. Сами вязали, сами шили, сами кожу выделывали, сами валенки катали. Из праздников отмечали только Пасху, Троицу и Петров день. Никаких свадеб, никаких дней рождения на период работы не было. Соблюдали все посты. Причем, очень строго. Это уже после революции все церкви разорили. Но люди в домах держали образа и тайком молились. Раскулачивали всех, кто имел мало-мальски пригодное хозяйство. У нас с мужем был хороший пятистенный крестовый дом. Нас из него выселили и в доме сделали колхозную контору. А нам с мужем дали маленький домик. Да и то потому, что муж был хорошим пчеловодом, и колхоз был заинтересован в нем. А так бы сослали. Муж был старше меня на 11 лет, знал грамоту. Вырос в богатой семье. Наследник. Постоянных батраков мы с ним не имели, но во время страды нанимали людей. В 1937 г. к нам в деревню со всего округа собрали арестованных мужиков. Их было человек 200. Никто не знал, за что их забрали. Только всех их утопили в проруби. До самой весны никому из родственников не разрешали даже подходить к реке. Голод был. В колхозе работали за палочки, то есть, за трудодни. Большинство из нас были неграмотными. Нас обманывали. После уборочной все сдадут государству, а колхозникам ничего не доставалось. Уехать из колхоза было нельзя. Не было паспортов. Надо было иметь от колхоза справку, чтобы паспорт получить. Но ее никто не давал. Так делалось, чтобы удержать рабочую силу. В 1932 г. в СССР ввели паспорта. Паспорта могли иметь только жители городов, крестьяне были лишены этого права, тем самым прикреплялись к колхозу. Земли разрешалось использовать 50 соток. Но такие налоги были! Молока, например, в доме оставалось только на то, чтобы «забелить» чай.
Вот так. Утопили в проруби большевики 200 человек русских крестьян — без суда и какого-либо следствия. Судя по всему, бросали связанными в ледяную воду. Как такое квалифицируется? И где же это настоящий фашизм все-таки был — у немцев, которые своих вообще не трогали — больше занимались уничтожением своих врагов из иных им самим народов, или все же у большевиков, которые устроили здесь, в России, самый настоящий геноцид русского народа. И именно эти массовые преступления так по сию пору и остаются без своего Нюрнберга!
Док. 15
Благовещенская (Позднякова) Мария Гавриловна родилась в 1910 г. в с. Грязное Курской области. Рассказ записала правнучка Благовещенская Ольга в 2000 г. (г. Кемерово)
Коллективизация у меня связывается с насилием и безправием, никто не спрашивал мнение народа, всех «сгоняли» в колхозы… Родители были против коллективизации, хотя старались молчать боялись за семью... мы имели корову, лошадь, держали поросят, исправно обрабатывали землю, зимой ткали и пряли. Хотя нельзя сказать, что жили богато, но в достатке. Нас все-таки раскулачили: отобрали скот и все имущество. Насильно, без разбора. Отец так переживал, что вскоре умер от сердечного приступа. Отношение односельчан к кулакам было неоднозначным. Работящие люди кулаками их не считали, а бездельники желали, чтобы раскулачивание проходило более жестоко. Со стороны властей к раскулачиваемым применялись всевозможные жесткие репрессивные меры. Всех, кто сопротивлялся раскулачиванию, выселяли в «Соловки», на Колыму и в другие отдаленные места. Так, мою сестру с семьей выселили на север. В чем были одеты, в том и, с голой душой, отправили этапом. Двое ее детей умерли по дороге от голода и мороза. Долгое время после коллективизации деревня оставалась крайне бедной… противников коллективизации сгоняли в колхоз силой. Конфискации подлежало все: скот, имущество. Их дома брали под сельсоветы. При такой ситуации не обходилось без возмущений. Но это моментально подавлялось властями. А такие факты скрывались от народа. Противников коллективизации бесшумно арестовывали и ссылали. А люди узнавали об этом лишь по слухам. Сведения о выселенных, конечно, поступали, но они были далеко не радостными. Власти внушали людям, что коллективизация проходит замечательно. А жизнь людей вот-вот наладится... В колхозах уже этого не было. Рабочий день колхозника был от зари до зари, без механизированного труда. Что заработал по трудодням, то и получал. Но эти деньги измерялись копейками, а часто и этих копеек не было вообще... До сих пор помнится закон о «колосках» и «горсти гороха», когда людей сажали в тюрьму за подобранный в поле колосок или стручок гороха, в то время как нация погибала от голода. Дома же в деревне на замки не закрывали, потому что закрывать было нечего — бедность. Другой причиной было то, что у людей было сознание совести и вера в Бога. Это ни то, что потом, когда перестали верить в Бога вообще и потеряли совесть… Многих односельчан, наших друзей, знакомых вскоре назвали врагами народа и репрессировали. Людей забирали неожиданно, и большинство из них уже не возвращались. Обстоятельства и факты тщательно скрывались. У одной нашей соседки забрали мужа, и только через несколько лет она узнала, что его вместе с другими врагами народа согнали в заброшенную шахту и погребли заживо под землей. Все понимали, что людей чаще всего забирали без вины, но никто не протестовал, все молчали. Из-за страха за жизнь. Был голод. В 1931–33 годах голод коснулся и нас. Взрослые приберегали скудную пищу детям, а сами «пухли» от голода. Это обстоятельство заставило нас покинуть центральную Россию и переехать в Кузбасс, где мы спаслись благодаря картофелю и другим местным овощам. В военные же годы в Сибири голод не коснулся моей семьи, так как работали на заводе и стабильно получали хлеб по карточкам, а все остальное выращивали на подсобном хозяйстве… Церкви закрывались, потому что власть видела в них непосредственную себе угрозу. Ведь при социализме не должно быть другой веры, кроме как в партию и светлое социалистическое будущее. Да и сами священники восставали против советской власти. О политике и Сталине в семье разговоров не было, так как любой разговор мог быть подслушан, и по 58 статье за лишние слова ненароком можно было угодить в тюрьму…
Приложение (архивные документы):
«Постановление президиума Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета от 5 мая 1931 г. “О ликвидации кулачества как класса”.
Совершенно секретно
В целях дальнейшего вовлечения широких слоев батрачества, бедноты и середняков в колхозы… Записбрайисполком постановляет:
1. Провести в период с 10 мая по 10 июня с.г. экспроприацию и выселение кулацких хозяйств, исходя из ориентировочного расчета 40 000 хозяйств...
П.п. Зам. Пред. Запсибкрайисполкома И. Зайцев Зам. Ответств. Секретаря ЗСКИКа Сиротин
Верно: Врид. Зав. с/ч ЗСКИКа Юрасов. Подпись.
ГАКО. Ф. Р-71. Оп.1. Д.1992. Л.13–15. Подлинник. Машинопись» [532] (с. 23–26).
То есть, что следует понимать под этим страшным документом зверей в человеческом обличье, местным большевикам сверху спускается план на уничтожение четверти миллиона (так как семьи здесь по 6–12 человек) русского населения для безжалостного уничтожения вместе с беременными женщинами и грудными детьми. Всех их под конвоем отправят на север и там, не предоставив ни жилья, ни пищи, просто выкинут в тундру на верную смерть. Причем, кулак, что значится у большевиков, — это человек, использующий труд наемных рабочих. Но спускается план по убийствам: этот фашистский план не предусматривает даже выяснения действительного количества кулаков в этом районе России — он указывает лишь цифру, недобор которой грозит самим этим фашистам на местах головой. Понятно, перевыполнение плана по убийствам, будет только поощряться.
Док. 16
Варнакова Василиса Ивановна родилась в 1911 г. в д. Барково нынешней Новосибирской области. Рассказ записан в 2001 г. (г Кемерово)
Во время коллективизации, о которой ты спрашиваешь, в селе у нас царили шум и суета... Сначала выселили из нашей деревней самых богатых, а потом и средних. В их числе оказалась и наша семья. Горько на сердце, как вспомню наш разор. Забрали все, что кормило нашу большую семью: три коровы, хлеб, гусей, кур. Помню, как я побежала к председателю и со слезами просила вернуть шкаф, ведь там была вся наша одежда! Но все оказалось напрасно. Увозили нас рано утром. Из односельчан никто с нами не вышел попрощаться. Все молча смотрели из окошек. А мой жених даже не подошел ко мне. Так и расстались с ним навсегда. Все боялись за себя! Вывезли нас на двух телегах. Ничего не разрешили взять, кроме постели. Доехали до станции Черепаново, а оттуда везли на поезде до Томска. Потом на баржах поплыли по Томи в район нынешней Тайги. Высадили в глухой тайге. Дороги не было. Мы сами рубили деревья, чтобы дорогу проложить. Довели нас до большого поля, раздали палатки, сказали: «Здесь будете жить и работать!» Начался большой голод. Есть было совсем нечего. Многие из нас поумирали. Некоторые стали убегать с поселения. С одной такой группой убежала и я. Как я не умерла, как дошла до своей деревни, не знаю. Вернулась в деревню, думала, спаслась. А председатель опять отправил меня назад в тайгу на поселение. Убежала я во второй раз. На этот раз пришла к своему деду. Испугался дед, взял за руку свою внучку и пошел прямо к председателю. Пожалел нас председатель и оставил жить в селе. Кто-то передал в деревню, что мать моя болеет, а братья и сестры ослепли от холода и голода. Попросила я у председателя коня отвезти им хлеба. Доехала до Тайги, увидела родных худыми и больными. Ночью собрала всех, и мы вместе сбежали. Днем прятались, а ночью шагали. Сколько мы страдали, сколько голодали, я уже и забыла. Одно хорошо помню, как нас всей семьей опять сослали. Теперь уже в Нарым. Работали все в лесу: мужчины рубили лес, женщины таскали бревна. Как выжила, как только не погибла от этих мук, не понимаю… Я теперь не выхожу из дома. Я не знаю, что творится сейчас. Только молю Бога, чтобы мои сыновья и внуки не пережили все то, что я пережила. Главное, чтобы у них на столе всегда был хлеб.
Библиографию см.: http://www.proza.ru/2017/05/20/1170
Алексей Алексеевич Мартыненко


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"











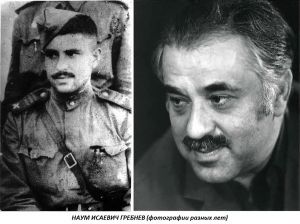





































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов