Была дневка. На дворе господского дома, в котором стоял штаб полка Карпова, толпились крестьяне, поляки и евреи. Все с мелочными основательными и неосновательными претензиями. Тому за курицу не заплатили, у этого овес взяли, не спросив, одного толкнули, другого обругали. Кумсков потный и красный, сбился с ног, разрешая, удовлетворяя и просто прогоняя.
— Ты, пан, погоди, твоя речь впереди, — говорил он, останавливая лезшего к нему седого морщинистого старика в белой свитке.
— Ой, пан! Вшистко знищено! Жолнержи були, вшистко забрали!
— Постой, постой, пан. Какие жолнержи? Было у них тут червоное? — показывал Кумсков на ноги.
— Ни, пан. Не казаки, а так жолнержи.
— Ну, вот видишь, а ты к нам лезешь. Не иначе, господин полковник, — обратился он к Карпову, стоявшему на крыльце, — как нам придется взять переводчика. Разрешите к Каргальскову послать, у него много добровольцев, пусть пришлет хорошего. А то трудно с ними.
— Ох уже эти добровольцы, — проговорил Карпов. — Кто их знает, что за люди, а, может быть, среди них и шпионы.
— Нет, господин полковник, славные люди. Каргальсков их хвалит, и казаки их одобряют.
— Да что казаки! Казаки — простодушные. Долго ли их обмануть. А впрочем, пошлите. Нам, пожалуй, и правда не вредно иметь при штабе одного поляка. И мне покажите.
Под вечер, когда на дворе было тихо и Карпов смотрел, как чистили его лошадей, во двор вошел есаул Каргальсков. Сзади него шел юноша лет восемнадцати, с чистым лицом, в фуражке, сдвинутой на затылок. Из-под козырька выбивалась задорная черная прядь волос. Ни усов, ни бороды не было на прекрасном лице. Серые глаза смотрели смело. Юноша был одет в чистую казачью рубаху с погонами, при шашке, патронташе и винтовке, шаровары были новые, сапоги хорошо вычищены. Выглядел он молодчиком и сразу обращал на себя внимание, но под его прямым пронизывающим взглядом Карпов невольно потупил глаза и подумал: «Какое отталкивающее выражение у этого красивого поляка».
— Ты кто такой? — спросил он юношу.
— Виктор Модзалевский, — смело ответил доброволец.
— Откуда?
— Я гимназист Холмской гимназии. Сын шляхтича из-под Владимира-Волынского.
По-русски он говорил чисто, но с некоторым иностранным акцентом, как говорят иностранцы или русские, долго жившие за границей.
— Душевный парень, Витя, — сказал Каргальсков. — Все казаки его полюбили. Песни поет. Он и по-немецки и по-французски знает. Вчера пленных допрашивал. Ловко говорит.
— Где вы учились немецкому языку?
— В гимназии, — коротко ответил Модзалевский.
— Он давно у вас? — спросил Карпов Каргальскова.
— Третий день всего. В Чертовце к нам пристал.
— Хорошо, — сказал Карпов, подавляя какое-то смутно-неприятное чувство, которое он испытывал почему-то при виде этого юноши, — оставайтесь при штабе.
— Слушаюсь, — отвечал твердо Модзалевский и еще раз прямо посмотрел в глаза Карпову.
За эти три дня он очень много слышал восторженных рассказов казаков о их командире и теперь, глядя прямо в глаза Карпову, он подумал: «И лучшего из гоев убей!.. Убей!»
Он отчетливо повернулся кругом, как научили его казаки, и пошел со двора. Карпов оставался в раздумье. «Почему, — думал он, — этот юноша мне сразу так неприятен? Прав ли я? Что он смотрит так смело и не боится? Но что в этом худого?»
До самой ночи он не мог отделаться от тяжелого чувства. Странная тоска вдруг заползла в его душу и прогнала тот безмятежный покой, который был у него даже в самые опасные минуты боев.
Полк, в котором служил Саблин, шел четвертый день походом. Ночлеги были плохие. Останавливались по маленьким польским деревням, в тесных и грязных халупах, где ночевали кто на походной койке, кто на полу на ворохе соломы. Эскадроны расходились в разные места, не хватало хат, кругом были угрюмые болота и леса. Часто набегали дожди, потом светило солнце и ярко по-осеннему отражалось в лужах.
Кавалерия, высадившаяся пять дней тому назад из вагонов, где провела трое суток, спешила теперь на помощь N-скому армейскому корпусу, медленно отступавшему из Пруссии, останавливавшемуся, задерживавшемуся и наносящему убыль германцам. Русская армия в эти августовские дни спасала Париж, отдавая свои земли, принося в жертву войне тысячи своих лучших сынов.
Полком командовал князь Репнин, первым дивизионом — Саблин, первым эскадроном — ротмистр граф Бланкенбург и вторым — Ротбек. Оба эскадрона были полны офицерами и ожидали приезда еще корнетов, только что выпущенных из училища и Пажеского корпуса.
В этот августовский день выступили, как всегда, в 8 часов утра. Переход был большой, день очень жаркий, за три дня похода все притомились и жаждали ночлега, мечтая о хороших квартирах. На другой день предполагалась дневка.
От высокого красного кирпичного костела, новой стройки, с серою грифельною крышей дивизионы разошлись. Первому дивизиону был назначен ночлег в селении Вульке Любитовской и второму — в Гончем Броде.
От костела поднялись на холм, покрытый скирдами сжатого хлеба. Шли без песенников с высланными вперед дозорами. Кругом была мирная природа. В деревнях шумели и трещали молотилки, спеша обмолотить хлеб.
Крестьяне выходили на дорогу и равнодушно смотрели на войска, но в этом мирном пейзаже вот уже второй день Саблин примечал суровые штрихи, внесенные войной. Нет-нет попадалась навстречу прочная, на высоких дубовых колесах польская бланкарда, запряженная парою добрых холеных рослых лошадей. На бланкарде, на узлах и чемоданах, среди клеток с домашнею птицею, сидели дамы, барышни, кто в городских шляпках, кто в больших шерстяных платках. Сзади мальчики и девочки гнали коров, гусей, тащили на веревке толстую свинью. Лица женщин были загорелые, волосы растрепаны, глаза усталые, на них лег отпечаток лишений кочевой жизни, ночевок в поле под телегой, свежего ветра, растерянности и испуга.
Это были беженцы.
По стратегическим и иным соображениям войска отходили, пуская неприятеля на Русскую землю. Это делалось легко во имя успеха, во имя победы в будущем. Каждый такой отход срывал с места целые хозяйства, разрушал навсегда уклад жизни, создававшийся двести, триста лет.
Перед эскадронами Саблина бланкарды сворачивали в сторону. Темные красивые глаза женщин смотрели на офицеров, и Саблину казалось, что он читает в них горький упрек за опоздание. Ему становилось совестно, и он отворачивал голову. Эти беженцы открывали перед ним новую сторону войны. Он всегда думал, что война касается только военных, что это они, офицеры и солдаты, умирают героями, страдают по госпиталям от ран, всю жизнь отдают учению о войне и для войны, не имеют истинной свободы и за то им и почет, и яркий мундир, и веселая жизнь, и близость к Государю, и любовь и поклонение женщин. Здесь, в этих измученных лицах женщин, Саблин читал страшную драму жизни, разбитый, поруганный мир, тихое счастье, обращенное в обломки. Ему становилось страшно и совестно. Он считал себя виновным во всем этом. Это он не спас, не защитил, не заслонил их от всего этого разорения.
Но молодежь, офицеры эскадронов, ехавшие впереди, не замечали этого. Они видели в этом только батальную картину, какое-то оригинальное и красивое приключение. Они не думали о том прошлом счастье, которое было у этих людей, и о том будущем бездомном скитанье, которое их ожидало.
— Куда вы, прелестные паненки? — кричал корнет Покровский, хорошенький мальчик, посылая воздушные поцелуи.
— В Варшаву, — отвечали, улыбаясь, паненки. И в улыбке их Саблин видел слезы.
— Зачем так далеко! Мы прогоним немцев, и вы спокойно вернетесь домой.
— Ах, если бы так! — вздыхала старая толстая дама, сидевшая на низкой клетке с курами. — Ах, если бы так, пан офицер!
Женщины и мужчины смотрели на прекрасных лошадей полка, на громадных солдат, красивых, молодец к молодцу, брюнетов, и надежда загоралась в них. Не может быть, чтобы эти не победили!
Бланкарда остановилась в раздумье. Но в эту минуту легкое дуновение ветра с запада донесло далекий неясный гул, шедший без перерыва, то усиливаясь, то ослабевая, пан, сидевший с бичом на борту телеги, решительно ударил по лошадям, бланкарда покатилась по выбоинам шоссе, старая тетка запрыгала на курах, а паненки печально поджали губы.
— Эк и тетка, — кричали смеясь солдаты, — гляди, каких цыплят высидела, пора и с посести вставать, смотри раздавишь.
Сзади, мыча, бежала большая пестрая корова и гуси, испуганные лошадьми, бросались с тревожным гоготаньем через канаву, и за ними бежал мальчишка.
За холмом стоял высокий крест. Распятый Христос, в изнеможении муки он опустил свое бледное лицо с кровяными каплями к правому плечу, и все оно было покрыто пылью. У ног его, на небольшой скамеечке, лежал букет увядших васильков. Пестрые ленты, поблекшие от дождей и солнца, монисто, сердце, сделанное из белого металла, были привязаны к ногам Христа.
От распятия открывался широкий вид. Внизу протекала окруженная лесами и кустами небольшая речка. Подле нее в купах громадных лип и дубов стоял замок, а в полуверсте от него, по скату, обращенному к распятию, разбежалось местечко из полсотни маленьких домиков, окруженных садами, белел каменный шинок под железной крышей, да торчали тонкие шесты колодезных журавлей. За селением шли большие леса, они прерывались желтыми пятнами сжатых полей, черными полосами отдыхающей земли и зелеными клеверниками. Густое, лиловато-синее небо висело над холмами, лесами, полями и деревней.
Христос скорбно отвернулся от широкого раздолья полей, будто тяжко было смотреть ему на прекрасную Польшу, столько веков заливаемую кровью, столько веков служащую ареною войн и раздоров, истоптанную боевыми конями, покрытую курганами мертвых тел — татарских и турецких, венгерских и немецких, шведских и литовских, французских и австрийских, и русских и польских, польских и русских.
Неугомонная, задорливая, волелюбивая и порабощенная, шумная и хвастливая Польша и сейчас заливалась потоками человеческой крови и рыла новые могилы.
Синие васильки на сжатом поле смешались с яркими пунцовыми маками. У дороги рос косматый и колючий, высокий репейник, и бледно-лиловые нежные пушистые цветы его целой шапкой торчали поверх; желтые мальвы росли по межам, впереди из господского сада виднелись дубы в три охвата и громадные липы, в тени которых могла отдыхать целая рота. Стадо бурых однотонных коров, шерсть в шерсть одинаковых, паслось на толоке, и тут же дремали серые густошерстные мериносы. Косматая собака поднялась от отары, потянулась, приготовилась лаять, но раздумала и стала отбрасывать задними ногами землю, злобно рыча.
От деревни, прямо к Саблину, плавно поднимаясь на облегченной рыси, с болтающейся на левом боку полевою кожаного сумкой, в сопровождении солдата ехал офицер. Это был корнет Лидваль, посланный вперед квартирьером.
— Господин полковник, — доложил он, задерживая свою лошадь и заезжая сбоку Саблина, — квартиры 1-му и 2-му эскадронам отведены. Господам офицерам разрешите стать всем вместе в помещичьем доме.
Помещик, пан Ледоховский, просит откушать у него. Очень богатый человек. У него винокурный и сахарный заводы и своя суконная фабрика.
— С какой стати одолжаться, — хмуро сказал Саблин. — Разве нельзя было найти в селении у войта или у жида какого-нибудь, где бы можно было заплатить и не одолжаться. Бог его знает, кто он такой, этот пан Ледоховский?
После смерти Веры Константиновны Саблину тяжело было общество посторонних людей. Могли найтись общие петербургские знакомые, пойти расспросы, а так не хотелось бередить начинавшую подживать, но не могущую вполне зажить рану.
— Он очень просит, — с мольбою в голосе говорил Лидваль. — Он такой богатый. Ему самому лестно. И дом у него переполнен прекрасными польками. Так хорошо бы было… Можно потанцевать.
Саблин нахмурился. Он готов уже был резко отказать, но случайно взглянул на столпившуюся подле него на лошадях молодежь, увидал их оживленные лица и подумал, что, может быть, он и не прав, прилагая свою мерку к офицерам.
— Отчего бы, Саша, и не стать у помещика, — сказал Ротбек. — И помыться бы можно хорошо и поспать на свежем белье. Дом, как видно громадный, наверно десятка полтора Fremdenzimmer (* — Комнаты для гостей) имеет. Мы не только не стесним, а оживим общество.
Девять молодых красивых лиц в восемнадцать глаз глядело с ожиданием и мольбой на Саблина. Он сдался.
— Ну, хорошо, — сказал он, — но при условии, что в каждом эскадроне по одному офицеру будут дежурить по очереди в деревне при людях.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



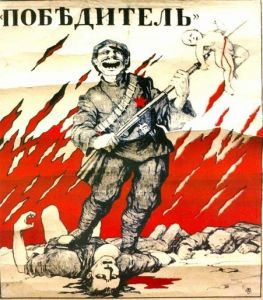

















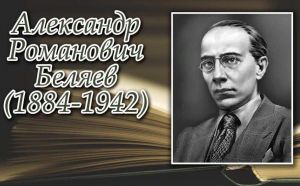








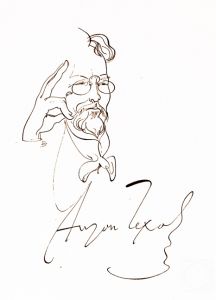





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский