На фото: здание КГБ на Лубянке.
И надо же такому было случиться! Стоял себе тихо-смирно писатель Боровков Никита Павлович, выбирал в базарных рядах саженцы абрикоса – очень уж захотелось, ещё с осени, потешить себя абрикосовым деревцем на даче, а там (чем чёрт не шутит) и абрикосовым вареньицем, спустя положенный срок – и вот те6е на! Тихий, подскрипывающий и такой памятный голос из-за спины. Тихий-то он тихий, а как палкой по голове: « Природой интересуетесь, Никита Палыч?» и следом характерное такое покашливание: «Кхе-кхе-кхе». Обернулся. Ну, конечно же, он! Он, кому же ещё так подкашливать? А это и на самом деле был он, Василий Степанович Полубыков. Собственной персоной. Такой же, как в прежние времена, словно бы ничего не случилось. Словно бы не было этих лет, которые, будто вода в унитазе, смыли всё-всё: и прежнюю страну, и прежний строй, и былую упорядоченность жизни, и всеобщую притёртость к ней, и ведомство, в котором служил Василий Степанович, и самого товарища Полубыкова с его привычкой прокашливаться. Вот лицо только… То же самое лицо, над которым и время, вроде бы, не властно… Ан нет. Что-то сменилось в лице. Что-то, что-то… Понятно, что! В прежние времена была в чертах лица какая-то гранитность, какая-то изваянность, даже и монументальность некая. А теперь – словно пластилин подтаявший. Некая сглаженность. Или припухлость. Или расслабленность. Или… Словом, не то, что было прежде. Такая перемена, когда и то, и не то. Решительно не то!
- Товарищ… капитан?
- Повыше бери.
- Генерал?!
- Ну, ну, ну! - И вновь характерное покашливание, сейчас больше похожее на смешок. - Смею заметить: пенсионер Полубыков. Полубыков. Василий Степанович. Подполковник в отставке.
Отошли от саженцев. И в самом деле, какой он теперь подполковник! В лучшем случае отставной козы барабанщик, А всё-таки, всё-таки… Боровков достал из кармана куртки турецкой выделки, пачку так называемых американских сигарет, и протянул товарищу подполковнику. Но тот покачал головой и извлёк из кармана плаща пачку «Беломора». Достал папиросу. Смял мундштук крест- накрест. И они закурили. Каждый своё. Кхе-кхе-кхе! Хотя, в те прежние, достославные времена угощал подполковник. Он извлекал из кармана немыслимый по тем временам « Marlboro» и протягивал Боровкову сигареты, и тот закуривал с удовольствием, хотя в те времена ещё по-серьёзному не курил. Может, потому что сигареты были и в самом деле хороши, а может, потому, что такие сигареты не всякий мог даже и увидеть. Избранность, некая сопричастность неким избранным, сами понимаете, дорогого стоит. А может быть, потому, что курение таких сигарет было своеобразной формой поощрения за хорошо выполненную работу. И это тоже много значило - понимать, что ты именно хорошо сделал свою работу. На таком в этом мире многое держится. В смысле чувства самоудовлетворённости. Подумал Боровков , что такое соображение следует запомнить, или даже записать для верности. Но не на базаре же доставать блокнот и ручку, да ещё и при товарище теперь подполковнике Полубыкове, нарисовавшемся из небытия столь внезапно и неотвратимо.
- На папиросочки давно ли перешли? – Затянувшись, поинтересовался не без некоторой подковырки в голосе Боровков.
- Кхе-кхе, - откашлялся Полубыков. – На папиросочки. Они хоть и дрянь, но без подделки. Не выгодно бодяжить. А импортный, как теперь говорят, бренд…. Сам понимаешь, Никитушка, нажива. Уж больно блазнит. Хрен знает, что в сигареты суют. Деньги, всё деньги! Они суют, а мне жить-то хочется. Хотя, говорят, капля никотина… Да, больно уж привык,
Боровков в ответ покивал головой. Было в этом кивании нечто и от согласия, и от сочувствия. Он горько, как часто теперь с ним бывало, задумался: «Подполковник как всегда прав, чёрт его подери!». На самом деле… ведь на самом деле; Что курим? Что пьём? Что едим? Как живём? Он ещё раз затянулся и почувствовал, ей богу, почувствовал, как скверный, совсем скверный дымок заполняет его лёгкие. Вот, погубит меня этот суррогат, этот контрафакт, эта жизнь в этой обновлённой России. Погубит! Меня!!! Но, вслух говорить этого не стал. Но зафиксировал в памяти своей: «Жизнь, как контрафакт… Контрафактные радости жизни…»
- А ты всё пописываешь… Читаю, читаю. Смело пишешь. В молодости осторожнее был. Вуалировал. Образы выпуклые, нежные чувства, тема патриотизма, само собой… Кхе-кхе-кхе. А сейчас смело. Как старуху-процентщицу – топориком тюк. Вчера покупаю журнальчик, а там портретик твой и заголовочек, кхе-кхе-кхе: «Неандертальцы во власти». Смело пишешь. Осмелел.
Комплимент прозвучал как-то двусмысленно; с самим Родей Раскольниковым сравнил, достоевщину почуял! Где преступление, там и наказание… Но у Боровкова все равно поприятнело на душе. Журнальчик - дрянь, тираж у него обозначенный десять тысяч, из которых тысяч восемь, как это теперь водится, приписано. А вот, поди ж ты! Читают.
- Пишем, бьём! А уж если бить, так бить! – Боровков даже рукой отмашку сделал, словно артиллерийскому орудию «Огонь!» скомандовал. - А вы при исполнении? Или..?
- В нашем ведомстве – ты знаешь – бывших не бывает. Но я...! Пен-си-о-нэр!!! Кхе-кхе-кхе! – Полубыков напустил слюны в мундштук папиросы и культурненько так бросил её в урну, невесть откуда взявшуюся среди рыночного бардака.
А Боровков, между прочим, вполне некультурно окурок свой сигаретный на землю, и полуботинком растёр.
- Я теперь другим делом занят, – продолжал Полубыков и потряс пластиковой сумкой, и в ней что-то зашуршало. – Со-овсем другим. Так-то вот!
Ах, жизнь! Так твою растак! Вот уж не ожидал встретить писатель опластилиневшего подполковника. Подумал об этом и порадовался найденному образу. Одно словечко, одна всего лишь дефиниция – а весь товарищ подполковник тут как тут. Значит, варит котелок, ага! Значит, выдаёт продукцию. И какую! Не так себе, чтобы нетленка, но всё же сказал, как впечатал. Образ! Художественно значимое явление! Вставь такое в текст и друг закадычный Ванюшка Малоедов, критик записной, с которым по литературной части с цекавэлкаэсэмовских времён они неразлейвода, где-нибудь и ввернёт в статье что-то такое, вроде о упруго-пружинистой силе образного слога известного прозаика земли русской Никиты Боровкова.
- И чем же, позвольте поинтересоваться, занимаетесь?
- Это, кхе-кхе-кхе, увидеть надо! Работаю над прошлым, восстанавливаю утраченное. Вам, как писателю, творцу будет занимательно! Поехали ко мне, а? Продемонстрирую!
Не следовало бы соглашаться. Не следовало бы! Надо было сослаться на абрикос, на дачу, на сроки посадки. Да, хоть на что угодно следовало сослаться и не ехать. Но звучала, звенела в интонациях подполковника некая прежняя нотка, эдакий завораживающий обертончик, пустячок, но и не пустячок, на который душа отзывалась тянущим каким-то позывом внизу живота... Вроде бы, и помочиться хочется, а вроде бы и совсем не хочется. Что и говорить, умел убеждать подполковник. Умел. Навыка своего ловчего не утратил. А может, и не из-за обертончика согласился Боровков. Вполне возможно, обертончик-то он и выдумал. Присочинил. Может быть, всё дело в той самой тяге внизу живота. Скажем так: в страхе. Хотя какой может быть страх теперь, сегодня, сейчас? И у кого? У него, известного писателя Никиты Боровкова? И перед кем? Пред бывшим… Бывшим! А может, и не бывшим? А вдруг? А может, и лежат эти бумаженции у подполковника в заветном месте? Лежат-полёживают, да и всплывут? А? С одной стороны, всё было и быльём поросло. Но с другой стороны вот он, собственной персоной, тот, кто, в определённом, конечно, смысле, сделал Никиту писателем. Ну, и хрен бы с ним, если даже он и не бывший… Но внизу живота всеж-таки потягивало.
И они поехали. А у подполковника Полубыкова машина вполне и даже очень. «Нива-Шевроле». И пахнет в салоне клубничкой. Тошноватенький, конечно, запах от ароматизатора, но если окно приоткрыть, то ветерком протягивает. В своей машине Боровков ароматизаторы не вывешивал. Да и машиной-то назвать то, чем он владел, было нельзя. Смешно сказать; но у него, про которого такие весомые и ласкающие слова писали в одном из московских журналов машина была… Да лучше бы не было этой «шестёрки». Короба проржавели. А новую не купишь! Теперешние гонорары не те, что некогда. И даже премия литературная губернаторская… Пред губернатором Аграбастовым, ходившем некогда в записных перестройщиках, и даже - шутка сказать – в демократах, а теперь суровом государственнике, полебезить на вручении пришлось, пофиглярствовать, порассыпаться в благодарностях – никуда не денешься! А деньги? Матчасть, так сказать?! Двадцать пять тысяч. В рублях, разумеется. Только и хватило машину к техосмотру подготовить. Тьфу!
А они всё ехали, и подполковник рассказывал, как удачно он провернул одно дельце, что хватило и на автомобиль и ещё, как говорится, на спички. Говорил он, говорил, а Боровков всё думал почему-то, что поедут они на ТУ квартиру. Но когда Полубыков свернул на Ленинскую и поехал по Ремесленному переулку, стало ясно писателю, что едут они куда-то в иные переделы. И в самом деле! Какая может быть ТА квартира, когда ничего прежнего не осталось. И Полубыков сам говорит, что он не при делах. Врёт, наверное, со своим «кхе-кхе-кхе»! А машина выехала на проспект Строителей, застроенный однояйцовыми панельными девятиэтажками, увешанными сплошь по фасаду бельём на балконах. И уже можно было предположить, что вот-вот они уткнутся носом в какой-нибудь подъезд какого-нибудь дома. Но Полубыков уверенно вырулил в проулок между серо-бетонными коробками и поехал по раздербаненой, немощённой улочке частного сектора, который был прикрыт от ненужного взора девятиэтажками.
Это, собственно, была Нахаловка, блиставшая в послевоенные годы антиобщественным поведением своих обитателей, типичный самострой людей, доведённых до отчаяния необходимостью почти вечного пребывания в так называемых очередях на получение современного комфортного жилья. Нахаловка сильно портила имидж города, поскольку разномастные её строения расположились вдоль дороги в аэропорт. И заезжие деятели партии и правительства, не часто, но посещавшие-таки областной центр, даже и негодовали и пеняли местным властям на разномастность вольных строений и возмутительность некрашеных заборов, из-за которых погаными грибами высились крыши нужников. Тогда, в семидесятые годы, и возвели пять шестиподъездных девятиэтажек, которые городские острословы прозвали проспектом Нахального Счастья. Потому как, для постройки бетонных красавцев снесли целый ряд домов Нахаловки. И жильцы этих домов, под визг закалываемых поросят и надрывно-истерическое кудахтанье переводимых на лапшу петухов, получили квартиры, о которых, как частные развалюховладельцы, и мечтать не смели даже в самых разнузданных своих мечтаниях. А тут раз – и квартира. И так это впечаталось в сознание простого народа, что даже в трамваях с тех пор, в простоте душевной, конечно, стали объявлять: « Остановка Хлебозавод, следующая – Нахальное счастье».
Так сложилось, что мимо по проспекту Боровков проезжал, а в Нахаловку давно не заглядывал и потому вертел головой, разглядывая давно не виденное. Это была всё та же вольная слободка, район некогда пролетарский и воровской, лихое селище, дореволюционное ещё порождение кирпичного завода, скотобоен, железнодорожной станции, пристанционного депо и просто пришлого люда, являвшегося в город то ли счастье пытать, то ли от горя лытать. А особо Нахаловка приросла населением, когда при Хруще крестьянам паспорта дали и можно было наконец-то вырваться на волюшку из постылых колхозов. Приезжали, селились, лепили дома из ничего, на живопырку; из паровозного дыма, из натыренного, из честно унесённого. Лепили из всего, что плохо лежало – одно слово Нахаловка.
- А я вот теперь здесь живу, - не без некоторого вызова проинформировал писателя подполковник. – Сам-то я из тутошних. Пролетарий в четвёртом поколении, кхе-кхе-кхе! – то ли закашлялся, то ли засмеялся Полубыков. - Вернулся в родовое гнездо.
- В поместье, - подхватил тон Боровков.
- Истинно, истинно в поместье.
- А-ха-ха-ха!
- Хе-хе- кхе-кхе-кхе!
Однако, скверно выходит, когда давно не видишь! Дома в Нахаловке, хотя кое-где и скособоченные, но всё больше справных. То там, то сям новоделанные, красного кирпича, а кое-где и в два этажа. И видно, что сплошь газифицированные – трубы вдоль улицы от дома к дому. Мда-а! А Боровков в статейке своей про неандертальцев как раз надрывно писал о социальном расслоении, противопоставляя новый котетджный посёлок Лукоморье старой пролетарской Нахаловке. Разница, несомненно, есть. Кто спорит?! И писать про это надо. И писать широкими мазками. Может даже славно выйти, если судить по написанному. А приглядись: при соприкосновении с действительностью и так, и не совсем так! И зачем он только поехал сюда! Не ездил бы, и не знал! Ну, да ладно! Снявши голову, по волосам не плачут.. . всё остальное – нюансики.
- А вот и моё поместье! – радостно возвестил Полубыков.
И он круто вывернул руль к одноэтажному, в три окна крепенькому деревянному дому давней постройки с аккуратненьким, голубенькой краской выкрашенным, палисадником, в котором топорщились разросшиеся, но безлистые пока сирени.
Боровков вышел из машины. Под хриплый брёх кудлатого кобелька, рвавшегося с цепи, помог придержать ворота, пока подполковник въезжал во двор. Справа во дворе в три ступеньки крылечко - вход в дом. Слева – какое-то сооружение непонятного назначения; сарай – не сарай, дальше уж точно сарай, потому как при входе в него застыли навытяжку две лопаты и грабли. Далее – гаражные ворота. А ещё дальше проход в огород.
- Смотри, писатель, смотри. Шесть соточек. И яблоньки тебе и вишни деревковые и вон там смородина красная, белая, чёрная.
- Поместье!
- А ты, брат, как думал! Я квартиру ведь свою продал. Успел до кризиса. По хорошей цене отдал. А зачем она мне? Супружница моя ненаглядная, Машечка, поболела- поболела и умерла. Да, брат, умерла! Кхе-кхе-кхе! Сына мой, Виталенька на Сахалине службу несёт. Капитан. По нашему ведомству. Он там оквартирен. А мне тут самый простор! Нам с маманей не тесно. Это же наше, родовое. Я же из местных. У меня и отец, и дед, и прадед даже отсюда, с бойни. Кхе-кхе-кхе, потомственные, можно сказать, пролетарии по мясу. И фамилия наша боенская… Ну, проходите в дом, Никита Павлович!
А кобелёк всё это время гав-гав-гав, да кхе-кхе-кхе.
- Маманя! Я не один. Я с гостем. Никита Павлович! Да-авний мой друг. Писатель!!!
- Писатель?! – баритонально отозвался маманин голос, – и сама она, следом за голосом, выплыла из-за занавески с бомбошками. – Вы и на самом деле писатель или из теперешних?
- Маманя!
Сразу и понял Боровков, в кого у подполковника были такие изваянные черты лица.
- Маманя у меня заслуженный человек. Всю жизнь на мясомбинате в лаборатории по качеству. Всю жизнь отдала ГОСТу. При ней не пошалишь.
- Уж да уж!- согласилась мама. - Не пошалишь. Зато колбасу тогдашнюю есть было можно. Особенно со спеццеха которая. Так вы, стало быть, из тогдашних писателей?
- Маманя! Это же Никита Боровков. У нас и книга его есть. Ты читала.
- Боровков, говоришь? – Маманя задумалась так, что даже брови вздернулись вверх. – Про любовь книга?
- Маманя, вспомни: про тракториста, как он поле пшеницы спас от огня, а сам сгорел.
- Значит, не про любовь, - сокрушенно по-паровозному шумно вздохнула маманя. – Тогда не помню.
- Там и про любовь было, - робко встрял в воспоминания подполковничьей мамани Боровков. Там чёткая была любовная линия. Даже целый треугольник. Председатель колхоза Ижендеев, Таня Касаткина – учительница молодая и сам герой. Костя - тракторист, который сгорел на колхозном поле. И обложка такая запоминающаяся: желтое поле, а справа чёрная полоса, как бы след пожара, и девушка идёт по меже.
Маманины брови вновь полезли вверх, выдавая умственное напряжение:
- О! Так бы и сказали! Обложку помню. А про что книга – не запомнила. Значит, любви в ней мало.
- Маманя! – остановил явно неприятный для Боровкова ход разговора подполковник. Там, в книге серьёзная проблема была затронута: процесс ликвидации бесперспективных сёл. Книга в ту пору много шума наделала.
- А! – сказала маманя, - Тогда я пошла щи разогревать. Вы голодные, поди? Голубцы есть станете?
И они сели за стол в маленькой кухоньке, подполковник достал графинчик замысловатой формы - с содержимым собственного производства – они крякнули, выпив, и тут же подполковник налил ещё. Боровков почувствовал, что штука-то забористая и надо бы поаккуратнее , поаккуратнее надо бы! Но хозяйская лихость при опрокидывании чарки как-то его расслабила. И они хватили по другой, и по третьей. А собственного производства была не просто так. Не банальный самогон. Настоянная, на чём только? Не разберёшь на чём. Да и зачем разбирать, если пьется, как поётся! А следом - щи. И подо щи выпили, А уж голубцы маманины – само собой разумеется – потребовали чарки! Тут бы и остановиться писателю Боровкову Никите Павловичу. Остановиться бы… Но где вы встречали настоящего русского человека, который без особой нужды, а даже и по нужде, останавливается в нужный момент в нужном месте? А? Не встречали? Вот и писатель Боровков не встречал. И себя в таких не числил.
Продолжение следует
Павел Рыков (г.Оренбург)


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



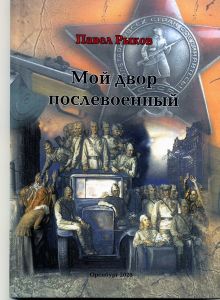

















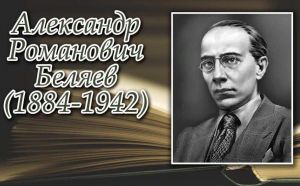








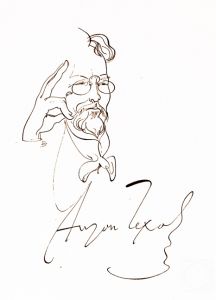





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский