...Паустовский говорил негромко, глухим и хрипловатым от мучавшей его астмы голосом, и слушатель у него — на берегу мелкого усадебного пруда под Воронежем — был только один я. Да еще стрекозы, сидевшие на концах его самодельных ореховых удилищ, да караси, дремавшие в стоячей воде.
Но истина была не там, где размахивал кулаками Жданов, где оглушительно гремели рупоры и вещали пропагандисты. Она была в этих негромких, вполголоса, мудрых, рожденных опытом всей долгой жизни словах…
1
Лестница в подвал была чугунная, закрученная крутой спиралью; когда на нее ступали, она принималась гудеть вся, до самого низу, давая Коноплеву знать, что к нему ведут очередного. Слух у Коноплева стал обостренным, наметанным: по гудению лестницы он без ошибки распознавал, скольких к нему ведут, одного или двух, сколько при них конвойных. Даже угадывал по лязгу накаблучных подковок, кто в конвое старший: угрюмо-молчаливый, медвежеватый Степанюк или востроглазый, проворный Мошин.
Лестница гудела, лязгала подковками — все громче, ближе, все железней,— в подвал к Коноплеву снова вели.
Коноплев знал — это только кажется, что гремят сапогами совсем уже возле двери, а идти будут еще долго, не меньше полминуты.
Он вынул из потертой кобуры черный, в блеске наган, поглядел в барабанные гнезда. В них оставалось всего два патрона.
Не спеша, с деловым спокойствием, движениями, ставшими почти механическими от многократной повторяемости, Копоплев достал из фанерной тумбочки, приткнутой в угол, патроны, дозарядил наган и опустил его назад, в кобуру. Крышку на петельку застегивать не стал, чтоб кобура была открытой. Так он держал кобуру теперь всегда, после того как однажды женщина, которую к нему привели, едва переступив порог, с безумием в страшных, облитых чернью глазах, простерши руки, с пальцами, похожими на птичьи когти, кинулась к нему, чтобы вцепиться в горло...
Конвойных, как и угадал Коноплев, возглавлял Мошин —молодцеватый, ловкий и быстрый, в новых, еще не разношенных как следует и потому скрипучих хромовых сапогах. Ему было еще не положено получать новые сапоги, старым его еще не вышел полностью срок, но Мошин умел добывать все, на что загоралась у него душа. Одному богу было известно, как он это делал, на удивление и зависть сотоварищам. Он и шинельное сукно исхитрился получить тоже раньше времени, и не такое, какое выдавали всем другим его ранга, а получше, потоньше и помягче — какое носило только начальство.
С обнаженным наганом в руке Мошин шагнул в подвал первым, нырнув под низкую дверную притолоку, и сразу же проворно повернулся на тонких, гибких ногах, наставив на дверной проем наган, ожидая, когда спустится по последним ступенькам тот, кого он вел с конвойными.
Еще через секунду появился и следовавший за ним человек — с руками, заведенными назад, за спину. Ростом он был велик, широк в теле, объемист и, проходя в дверь, еще ниже склонился под притолокой, чем Мошин.
Сколько уже входило вот так в подвал, каких только людей не перевидал Коноплев!
На вошедшем была загрязнившаяся, попачканная, в мелу и в каких-то темных пятнах военная гимнастерка навыпуск, без знаков различия, без ремня и без пуговиц — их отрезали еще в самом начале, по правилам, чтоб не оставлять заключенному никакого металла. Синие форменные галифе держались на нем тоже без поясного ремня и потому висели низко, мешковато, спускаясь завязками на голые ступни, белевшие в грубых незашнурованных, скособоченных опорках. Эти опорки Коноплеву были знакомы, не в первый раз появлялись они у него в подвале...
Глаз у Коноплева был приглядевшийся, зоркий, и по тому, как вошел этот грузный, тяжелый в поступи человек, по тому, как внес он свои плечи, крупную, остриженную машинкой, похожую на серебряный шар голову, Коноплев определил, что человек этот не простой, хотя и вышел из простого народа, из таких же, как Коноплев, людей, и еще совсем недавно был этот человек на больших начальственных постах, должно быть — военных, привык вершить большими делами, вести себя с высоким достоинством, какое бывает от знания себе цены и от крепкой в себе уверенности. Через многое, видать, уже прошел этот человек, и многое, многое утратил он из того, каким когда-то был, но все же еще немало и хранил в себе, не потерял себя целиком, как ни ломали, как ни уничтожали в нем его силу.
Вот таких, из своего роду-племени, летавших на высотах, про которые Коноплеву даже не мечталось, и с этих своих высот попавших к нему в подвал, лобастых, как электричеством, заряженных угрюмым несокрушимым упорством, непокорной, несдающейся силой, Коноплев не любил особенно, и не просто, а с повышенным, личным пристрастием, которого даже сам не мог вполне понимать. Он ничего не знал про этих людей, про то, кто они и что совершили, знать ему это не полагалось, ему даже не сообщали их фамилии, имена, но всегда он испытывал злое довольство, радовавшее его торжество, когда к нему приводили таких.
Отдалившись от порога на три-четыре шага, седоголовый с того места, где, войдя, по какому-то единому для всех психологическому закону обычно приостанавливались приводимые, почти так же, как и все другие до него, оглядел, уясняя себе обстановку, внутренность подвала, освещенного яркой двухсотсвечовой электролампой, голые кирпичные стены и такой же кирпичный сводчатый потолок. Если у людей, когда их вели сюда, даже еще на железной лестнице сохранялись какие-то надежды, какие-то светлые предположения, то тут, на этом месте, на этом квадратном метре выщербленного бетона, на котором, войдя, они невольно приостанавливались, им становилось окончательно все ясно, и все их надежды и предположения начисто отлетали от них.
По-разному вели себя люди.
Иных хватал шок, они точно деревенели и оставались такими до самого последнего момента. Бывали и такие, что кидались на Коноплева, на конвойных,— как та женщина с черными безумными глазами. Иные начинали биться, кричать. Это было противней всего. С такими Коноплев всегда спешил. Он не выносил криков, воплей — они его резали, как ножами, все тело от них начинало корчить судорогой.
Приведенный стоял к Коноплеву спиною. Коноплев видел только его широкий затылок, крепкую шею, плечи, даже и сейчас заключавшие в себе немалую физическую мощь. Коноплев подивился — не исхудал даже! Знать, скорым ходом шло его дело и недолго пришлось посидеть ему в полутьме камер, на крупяной баланде и скудных порциях липкого остистого хлеба... Было видно, что он уже заранее осознал, куда и зачем его ведут, не цеплялся из слабодушия за напрасные надежды, не тешил себя несбыточным, все ему здесь ясно, все он отчетливо понимает в этом подвале: для чего повешены веревочные маты на стену в глубине, с какой целью насыпаны возле этой стены свежие опилки, для чего служат метла и железный совок, лежащие неподалеку от опилок на полу, носилки из двух палок с темным, мокрым, замытым брезентом между ними, стоймя прислоненные к двери, что ведет из подвала наружу, во внутренний двор здания, замкнувшего в своем громадном четырехугольнике целый городской квартал.
«Этот не закричит!» — прочитал Коноплев по широкой спине, крепкому затылку, по всей сутуловатой от могучести, крупной фигуре приведенного, по его сцепленным назади рукам в синих зигзагах взбугрившихся вен.
Оглядев помещение, точно он желал основательно все рассмотреть, изучить, седоголовый повернулся, как поворачиваются все люди его телосложения,— всем корпусом, замедленно, грузновато и, будто ему не хватало последней, окончательной детали в картине, с такой же пристальностью, с тем же изучением во взоре, с какими он рассматривал веревочные маты, белое пятно опилок, носилки возле наружной двери, быковато, из-под припухших, отечных век пронзительно взглянул на Коноплева. Он не искал его глазами, а, повернувшись, нашел его сразу же, сразу же цепко схватил взглядом. Как будто он точно знал, что есть тут в подвале такой человек, Коноплев, спиной почуял, в каком углу он сейчас стоит, и одно только было ему еще неведомо — каков он, этот человек, Коноплев, как выглядит, и он хотел это видеть, знать.
Коноплев выдержал этот взгляд, не отведя своих глаз. И не такие взгляды выдерживал он! В этом подвале ничто уже не имело цены — ни взгляды, ни жесты, ни слова. И как всегда в таких случаях, ему стало даже вроде как весело от того, чем был наполнен этот обращенный на него взгляд. Тихая, торжествующая, с примесью веселости злость, точно разгорающийся огонь, зажглась внутри него. Но он не торопил этот огонь, умело придерживая его горение, зная, что еще не время, сберегая его до той минуты, когда время настанет и он позволит этому внутреннему огню полностью себя захватить. А пока, пошевеливая крыльями тонкого острого носа, зияющим вырезом ноздрей, он только слегка усмехнулся в ответ, показав этой своей полуусмешкой седоголовому, как он воспринял и как расценил его взгляд и вообще его всего, все, что седой сейчас в себе держит, за этим своим выпуклым крутым лбом, что думает он про него, Коноплева.
— Погоди малость,— сказал Мошин вполголоса, будто за каким-то делом подходя к Коноплеву, а в действительности лишь для того, чтобы отдалиться от седоголового и чтобы он не услышал его слов.— Доктор, зараза, куда-то делся... Ты с него глаз не спускай, особо опасный, пятьдесят восемь — одиннадцать, а я сбегаю, разыщу...
Сунув наган в карман галифе, Мошин, гибко изогнувшись, проскочил между конвойными, вставшими у двери, и часто-часто застучал сапогами по лестнице, возносясь по ее спиралям наверх.
— Что — иль не все готово? — с хрипотой и каким-то булькающим звуком в горле спросил приведенный, после того как умчался Мошин и в подвале в бездействии и молчании протянулась долгая минута. Он все еще глядел на Коноплева пристально, прищуренно, свет лампы, бившей из-за спины Коноплева навстречу седому, точечно сверкал под его опущенными бровями в зрачках глаз.
Коноплев промолчал.
Ну, тогда можно и посидеть,— скатал, как бы сам себе это разрешая, седой и, не дожидаясь, что ответит ему на это Коноплев, грузно шагнул к табуретке у стены, напротив входа.
— Посиди, посиди...— отозвался Коноплев снисходительно. Ему нравилось говорить в таком тоне, быть снисходительным, даже добрым в эти последние минуты с приводимыми к нему людьми. Он даже разрешал покурить, если просили, если позволяло время.
Седой опустился на табуретку неловко, с осторожностью помещая свое тело, двигаясь, как двигаются люди, когда у них болят все члены, когда нелегко стоять, но и сидеть тоже не легче. Сев, он, стараясь смягчать для себя все свои прикосновения, медленно распрямив корпус, привалился спиною к кирпичной стене. При этом он вынул из-за спины руки и поместил их на колени, тоже замедленными, осторожными движениями. Кисти его рук в бугорках вен расправились и оказались еще больше, чем это виделось, когда они были сжатыми в кулаки и тесно соединенными за спиною. Величиною и грубоватостью строения, затверделостью кожи на ладонях они походили на руки крестьянина или мастерового, с мальства дружного с простой, черной работой.
Коноплев закурил сам — кургузую папироску из пачки с надписью «Эпоха», с любопытством поглядел сквозь дым на седого: попросит или не попросит закурить? А может, он — некурящий?
Дым не оставил седого равнодушным, что-то появилось у него в лице. Но закурить он не попросил.
Тогда Коноплев, выступив из своего угла, сам протянул ему папиросу.
Седой взял, но так, точно не испытывал в ней никакой нужды и точно не Коноплев ему, а он Коноплеву оказывал одолжение. К спичке седой не потянулся, даже не склонил головы. Копоплеву пришлось далеко вытянуть руку и поднести желтый язычок к самому лицу седого, к его щетинистым, небритым губам с зажатой папиросой.
Табачный дым двумя облачками, вяло расплываясь и смешиваясь, повис в застойном воздухе подвала.
Огонек под сердцем у Коноплева — огонек глубоко скрытого, злого торжества, не переложимого в слова, обжигающего нутро, как настоящее живое пламя, продолжал гореть — ровно, уверенно, неторопливо. И вместе с жаром от этого огонька под сердцем по всему телу Коноплева плыл еще и какой-то сладкий хмель, тот хмель, что был заложен в ощущении незримой и жуткой связи, какая каждый раз возникала между ним и приводимыми к нему в подвал людьми и какая была, существовала и сейчас и во всей своей полноте и силе сознавалась ими обоими — Коноплевым и сидевшим напротив него на кривом табурете и курившим человеком... Коноплеву просто зримо было видно, как чувствует эту их страшную связь седой,— это так и глядело на Коноплева из его пристальных, устремленных глаз, серо-голубых от природы, но лучах двухсотсвечовой лампы до такой степени светлых, что они казались высвеченными изнутри, а не снаружи.
— Вроде работы, да? — вдруг негромко произнес седой, пустив дым и своей медленной, тяжелой рукой крестьянина или мастерового отнимая от губ папиросу.
— Можно и так...— мирно согласился Коноплев и тоже пустил струю дыма.
— И деньги, поди, платят? — помолчав, выговорил седой.
— Платят,— с вызовом ответил Коноплев.
Внутренний огонек словно бы прибавил накала, в теле Коноплева стало жарче. Он сузил на седого глаза, шевельнув крыльями поса. Ну и сволочь же, должно быть!
— И, верно, немалые? — проговорил седой, и та едкость, что с самого начала была в его словах, выступила совсем отчетливо.
— Не жалуюсь,— ответил Коноплев.
— На хлеб, молочишко хватает?
— Еще остается.
— Поди, семью, детей кормишь?
— Кормлю.
Коноплеву было уже душновато от жара ненависти, от чувства, какое вызывал в нем седой, особенно его допрашивающий, откровенно насмешливый, издевающийся тон.
— Есть дети-то, да?
— Ну, есть. А что? — уже совсем раздраженно, грубо огрызнулся Коноплев.
Седой потянул последний дым из выгоревшей до конца папиросы, опустил на колено руку с мундштуком в пальцах. С минуту он как-то почти даже скорбно глядел Коноплеву в лицо. Коноплев с досадой подумал про Мошина и доктора: запропастились там, гады, а ему тяни тут эту нуду!..
— И не давятся они твоим хлебом, а? — спросил седой, без едкости, с каким-то совсем деловым, серьезным интересом и сострадательностью к детям Коноплева, которые вынуждены есть этот его хлеб.
— А вот и не давятся! — искривляя в злорадстве губы, отсек Коноплев.
У него даже зачесались, заныли руки — так нестерпимо захотелось ударить седого, ударить его по широкому, отечному, мучнисто-белому от недостачи воздуха и сырости каменных стен лицу, по светлякам серых, пронзительно-проницательных, пристальных глаз, погасить их блеск, этот горящий в них свет — чтоб они больше не смотрели на него, не жгли его своей пристальностью, от которой даже на коже чувствовался неприятный зуд.
Может, он и ударил бы седого, если хотя бы еще с минуту они пробыли вот так — друг против друга и если бы седой еще что- нибудь сказал.
Но на лестнице уже слышался топот— это спускались Мошин и доктор.
— Все в порядке! — бодро сказал запыхавшийся Мошин, появляясь в двери.
Доктор, еще молодой, но плешивый, со вставными зубами, в подвал не вошел, остался за дверью, в комнатушке по соседству. Он берег свои нервы и всегда предпочитал находиться там, ждать, и входил, когда уже все совершалось,— чтоб написать в документах заключение.
Мошин отер рукавом потное лицо — умаялся, бегаючи,— встал у двери, рядом с конвойными, в позиции зрителя. Он не страдал нервами, как доктор или как другой конвойный начальник — Степанюк, не прятался за дверью, всегда оставался в подвале и смотрел, ничего не пропуская. Даже Коноплеву в иную ночь, если бывало много работы, становилось тошно, а Мошин выдерживал сколько угодно, без всякого напряжения и не теряя интереса.
С чувством душевного облегчения Коноплев потянул из кобуры наган.
Он скомандовал седому встать и идти в глубь подвала, к стене в веревочных матах.
Это всегда был трудный момент: пойдет или не пойдет человек сам...
Но седой встал, превозмогаясь, замедленно распрямляя свое большое, наполненное болью тело, и пошел — грузно, сутуло, скребя кривыми, просторными для его босых ног опорками по бетонному полу.
У стены он повернулся. Белое его лицо было еще белей и поблескивало от влаги.
— Кругом! — негромко скомандовал Коноплев, приближаясь к нему с наганом в опущенной и заведенной за спину руке.
Седой дышал шумно, в горле его присвистывало. Точно вдруг не стало хватать воздуха для его широкой груди.
— Нет! — прохрипел он, мотнув тяжелым шаром своей облитой серебром головы.
Коноплев понял, что он не повернется, нечего даже пытаться его заставить.
-Ну, как хошь! — сказал Коноплев с деланным равнодушием, а сам — жмурясь от внутреннего накала, раздувая ноздри тонкого, побелевшего в крыльях носа и чувствуя, как теснота давит его дыхание! Ему тоже стало недоставать воздуха, совсем как седому.
Всверливаясь зрачками седому в лицо — глаза в глаза, взгляд во взгляд, — в пяти шагах от него он начал понимать руку с наганом. Рука была твердой, застывшей, как железной.
Крутой, выпуклый лоб у седого был мокр и блестел, как и все его будто выбеленное мелом, искаженное в напряжении лицо.
Напрягаясь еще более, с конвульсивными подрагиваниями тела, он со свистом потянул воздух сквозь щель рта -— видно, хотел сказать чтото, свои последние слова.
Но Коноплев упредил его.
Седой качнулся, отступил на шаг, приложился широкой спиной к издырявленным матам, постоял так и, с хрипом в горле, спиной по стене пополз вниз, вытягивая вперед, на Коноплева, и раздвигая в стороны прямые, как палки, длинные босые ноги в казенных опорках из грубой, покоробленной кожи...
2
— Все, что ль? — спросил Коноплев у Мошина, после того как доктор, присев к тумбочке, под лампу, заполнил своим медицинским заключением нужную графу в документах на седого и ушел.
— Все,— ответил Мошин.
Коноплев и сам знал, что все. Было семь утра, наверху, на улицах, началось движение, тянулись прохожие, и в подвал к Коноплеву в такое время уже не приводили.
Он быстро разобрал наган, как разбирал его сотни, наверное, раз, почистил, обтер тряпочкой избыток масла, пощелкал вхолостую, как всегда радуясь четкости, с какой действовал механизм, певучему звону металлических деталей, и вложил оружие в кобуру на поясном ремне. Потом он надел штатское, из дешевого ворсистого бобрика пальто — дома у него висело еще одно пальто, получше, для города,— надел кепку со штампом «Мосшвея» на подкладке, застегнулся заботливо, чтоб не продуло осенним ветром, и по лабиринту длинных коридоров, миновав часовых, охранявших изнутри главные двери, других часовых, охранявших эти же двери снаружи здания, вышел на улицу.
Рассвет еще боролся с тьмою, городские строения громоздились вокруг расплывчато, зыбко, их контуры вязли в холодном туманном сумраке, терялись в нем. В воздухе косо летели быстрые, колкие крупки снежинок. Уже была пора зимы, но она запаздывала, не схватывала морозом землю, и на улицах все еще мокла, хлюпала под ногами осенняя грязь, смешанная со стекляшками льда, кашицей редкого снега. Черные лужи, налитые дождевой влагой, мелко морщинились.
Коноплев поежился, обдутый сырым резким ветром, поглубже утопил шею в воротник пальто, засунул в карманы руки вместе с обшлагами рукавов.
Пройдя два-три квартала, он вышел на близкую к центру улицу. Здесь было оживленней, больше прохожих. Шли рабочие — одни домой, с ночных смен, другие на работу — в цеха, к станкам, машинам. Домохозяйки с кошелками, сумками торопливой рысцой спешили на рынок, с рынка. Их серые, одинаково бескровные в рассветном сумраке лица были строги и серьезны, несли на себе печать житейских, хозяйственных забот.
В дешевом бобриковом пальто, в простой старой кепке, точно такой, какие были на многих встречавшихся рабочих, в сапогах, забрызганных осенней грязью, с темным лицом, измятым усталостью, и походкою человека, проведшего на ногах ночь, Коноплев ничем не выделялся в людской массе, текущей но улице в оба ее направления, выглядел таким же, как все, таким же рабочим, идущим после ночных трудов в теплое лоно своей семьи.
На фасаде высокого дома ветер трепал огромный плакат, выпукло, парусом, надувал его, забираясь между полотном и стеною здания. На плакате был изображен громадных размеров тесно сжатый кулак в перчатке, покрытой шипами; из кулака торчали человеческие руки, ноги, головы, и черным внизу было написано: «ежовые рукавицы»...
Напротив дома с плакатом помещалась булочная. В ее окнах желтел электрический свет, и на всю улицу разносился вызывающий острое чувство голода аппетитный запах свежего хлеба. Дверная створка на скрипящих петлях моталась, хлопала: теснясь в дверях, в булочную беспрерывно входили и выходили из нее женщины-домохозяйки, рабочие в замасленных пальто, куртках, плащах, ватных телогрейках.
Каждое утро, проходя мимо, Коноплев покупал в этой булочной хлеб, чтоб принести его домой, к утреннему завтраку.
Он привычно зашел в булочную, подождал недолго в очереди, в тесноте человеческих тел, вдыхая запах машинного масла и каменного угля, которым едко разила одежда рабочих, и вышел с кирпичиком теплого мягкого хлеба, как многие, кто вместе с ним покупал хлеб и выходил из магазина, засунув кирпичик под борт пальто, на грудь, чтоб не погибла, не утратилась на студеном ветру поздней осени его духовитая теплота и нежная, податливая мягкость.
Жил Коноплев в большом коммунальном доме, на третьем этаже. У него был свой ключ, он отпер входную дверь, ступил в переднюю, на половичок из разноцветных лоскутиков.
Жена Коноплева, по паспорту значившаяся Евдокией, прозывавшаяся в своей родной семье Дуськой, но, чтоб выглядеть вполне городской, культурной, сама себя переименовавшая в Аллу, хозяйствовала в кухне. В одной сорочке с перекрутившимися тесемками на округлых белых плечах, до колен оголявшей ее короткие, без щиколоток, ноги в шлепанцах с притоптанными задниками, она стояла перед керосинкой и, высоко задрав локоть, мешала ложкой в кастрюльке, в которой пузырилась и смачно чвакала каша.
На стук входной двери и шаги Коноплева она повернула голову с лицом широким и как бы припухлым, с узким безбровым лобиком, маленькими, как у зверька, блестящими глазками и без всякой радости от появления мужа, неприязненно и сурово бросила ему то самое, чем всегда встречала его, когда он приходил в дом:
— Ноги вытирай!
Коноплев послушно пошкрабал подошвами об половичок в коридоре, привычно наливаясь недобрым чувством к жене, привычно раздражаясь от ее вида, неряшливости, от ее неприязненного командного тона. Он стащил с себя сырое, окропленное влагой растаявших снежинок пальто, повесил его и кепку на колок деревянной вешалки.
Он не любил свою жену. «Стерва!» — называл он ее про себя и вслух — когда она сверх обычного злила его или надоедала своей зудливой бранью, ворчанием, глупым поучительством. Она не оставалась в накладе и в свою очередь обзывала его кобелем, дерьмом и даже мразью — это когда уже совсем выходила из себя. Иногда Коноплев ее бил — с удовольствием и без всякого потом раскаяния. Но бить ее, к сожалению, можно было не часто, потому что выходило очень шумно: она поднимала пронзительный крик, визг, так что чуть не со всего дома сбегались жильцы.
Он и до женитьбы ее не любил, когда они еще только гуляли, «крутили любовь», и Евдокия, именовавшая себя Аллой, служила подавальщицей в столовой и была поинтересней, чем теперь, не было у нее этого рыхлого, расползшегося вроде квашни тела и гладких, всегда сальных, в чешуйках перхоти, волос, а была она постройнее, пофигуристей, следила за своей наружностью, подкрашивалась, подзавивалась и еще могла принарядить, приукрасить себя так, что встречные мужчины на улицах оглаживали ее глазами. Коноплев «крутил» с ней просто от скуки, просто потому, что нужно было иметь какую-нибудь женщину, чтоб с нею спать, обнимать женское тело. Евдокия была для него удобней других, тех, что поумней, пообразованней. Ее не требовалось занимать разными разговорами, на которые Коноплев был не мастер, все у него получалось с нею как-то молчком, само собою, без особых слов. Иногда он водил ее в горсад потаскаться по аллеям, поглазеть на публику, съесть мороженое на открытой веранде. Веселья это не давало никакого. Евдокии больше нравилось смотреть кино, но ходить с ней в кино Коноплев старался пореже. Все фильмы Евдокия понимала шиворот-навыворот, не к месту хихикала или отпускала замечания, обличавшие ее дурость,— так что даже соседи оборачивались, начинали пересмеиваться. Евдокию это не трогало. Коноплев же ворочался в кресле, от густой злобы к Дуське в голову ему приливала горячая кровь...
Путался он с ней долго, чуть не с год, потом она ему окончательно надоела, опротивела, и он порешил ее бросить, как бросал прежде других женщин, когда они ему надоедали.
Но Евдокия была не такая, как те, другие. Дура дурой во всем ином, тут она оказалась бабой ушлой, хваткой. Она вовремя почуяла, к чему Коноплев ведет, пошла и пожаловалась его начальству.
Коноплев как раз отслужил действительную. Предстояло возвращаться в свое первобытное состояние — в деревню, разворошенную, взбаламученную коллективизацией, в дом к отцу, записанный в колхоз и лишенный даже того малого хозяйства, какое было нажито,— коровы, лошади. Возвращение в деревню сулило не бог весть какие радости, сельчане, кто только мог, втихую растекались в разные стороны — в города, на стройки, шахты, всюду, где можно было как-нибудь пристроиться, зацепиться, и Коноплев упросил, чтоб его оставили на сверхсрочную службу.
Начальник Коноплева страшил подчиненных своим раскатистым басом, косматыми бровями, которые он умел козырьками навешивать впереди глаз.
Коноплева вызвали, и начальник, навесив брови, сказал ему:
— Ты, Коноплев, того — аморалку не разводи! Или женись, или вылетишь турманом!
Вылетать Коноплеву не хотелось. Он уже кое-чего достиг, жилось ему сытно, удобно, городская жизнь была приманчива, получал он хорошие деньги, такие, какие просто трудом рук — а большего он и не умел — на «воле» не заработать. К тому же была надежда, что его выдвинут на особую должность, дадут квартиру. И, напугавшись, как бы не прижали за «аморалку», Коноплев на другой же день расписался с Евдокией в загсе...
В кухне под краном Коноплев сполоснул лицо, чтоб освежиться, взбодрить себя после бессонной ночи, утерся холщовым полотенцем, висевшим на протянутой через кухню веревке рядом с постиранными детскими носочками и рубашонками. Полотенце было нечистым, влажным, сальным. А ведь личное! Евдокия в забывчивости им и тарелки вытирает, и клеенку на кухонном столе. Стоит ему не шаркнуть сапогами об половик — она ворчит. Просто из злобы к нему, из вредности своего характера. Понавешала на стенах картиночки, вышивки, кружевные занавески на окнах, а порядка настоящего в квартире нету, сколько ни ругайся... .
С отвращением скомкав полотенце, Коноплев кинул его назад на веревку, царапнул Евдокию по спине взглядом. Даже о себе постараться лень! Какой с постели поднялась, такой весь день теперь и будет ходить: непричесанной, в одной сорочке. Так и почтальону открывает, и молочнице...
В комнате, большой, неуютной из-за громоздкой мебели, за столом сидели дети Коноплева — мальчик и девочка, четырех и пяти лет. Они сидели рядком, на стульях с подложенными для высоты подушечками, перед ними были пустые тарелки, в руках они держали ложки и терпеливо, чинно, не балуясь, ожидали, когда им положат манную кашу, что варилась на керосинке в кухне.
Вот дети радовали Коноплева. У них были светлые, доверчивые глаза, они были на редкость понятливы, нешумливы и во всем какие-то такие, точно из другого мира, от других людей, от другой матери — а не от этой толстозадой, расплывшейся бабы, что варила им на кухне кашу, жадной, злой, которой ничего не стоит по-мужичьи изругаться во дворе из-за белья, кем-то повешенного на ее веревку, наорать, нашуметь в доме по пустякам, от своей дури, швырнуть посудой...
Всегда, когда Коноплев, возвращаясь, вновь видел своих детей, у него как-то тепло мягчало внутри и хотелось их поласкать, погладить по головенкам, сказать им что-нибудь доброе, как ласкают своих детей и говорят им добрые слова другие отцы. Но ласкать Коноплев не умел, не находил он в себе и слов и поэтому не протягивал к детям рук, приходя, а всегда с ними только молчал, огорчаясь, что и дети без видимой любви воспринимают его приход, будто он им и не отец вовсе, не радуются ему, как радуются своим отцам другие дети.
В последнее время он стал замечать, что его приход даже как-то путает детей: при его появлении они замыкаются, затаиваются испуганно и, точно зверьки, норовят забиться куда-нибудь в укромный уголок, но не играют там в свои игры, как прежде, а настороженными глазами следят за ним оттуда, и в глазах у них, в не по-детски серьезных личиках — ожидание перебранок и ссор, которые все чаще и раз от разу все громче затевает он в доме. А все Дусъка! Он приходит усталый, нервный, а она, вместо того чтобы подладить, по глупой своей гордыне нарочно старается все поперек ему, поперек...
В затылке ворочалась тупая боль, ремень с тяжелой кобурой резал поясницу. Коноплев расстегнул его, положил на комод и, не стаскивая гимнастерки, сапог, повалился спиной на кровать, сминая покрывало, стопку подушек, накрытых кружевной накидкой. Евдокия станет гудеть, эту его привычку ложиться в одежде на застеленную кровать она терпеть не может, ну да хрен с ней, пускай себе гудит! Как ему надо — так он и будет делать: он тут голова, на нем все держится...
Черная тарелка радио на стене над кроватью хрипела; металлическим голосом в тоне сурового гнева диктор читал передовую. В каждой фразе повторялось: «подлые двурушники», «презренные наймиты»...
И опять, как стало это происходить теперь с ним в ранние утренние часы, с приходом в дом,— на Коноплева накатило вдруг странное, необъяснимое ощущение, будто он находится вовсе не в своей квартире, а где-то, где он прежде ни разу не бывал, где все ему незнакомо и чуждо, и сам он тут всему чужд и далек — как случайный и нежеланный гость. Это ощущение вошло в него явственно и сильно, и сразу все сделалось для Коноплева каким-то непонятным, лишенным смысла — и то, что он лежит на кровати, и то, зачем он тут лежит, что это за кровать, зачем так ярко сверкает перед ним никель, от него в глазах даже покалывает боль, зачем так громко и назойливо кричит диктор, голосом, сверлящим уши. И вообще все, решительно все, близкое и далекое, стало вдруг на минуту для Коноплева чем-то совершенно непонятным, каким-то разрозненным хаосом явлений, событий, лиц, без связи и смысла — вся идущая, совершающаяся за стенами этой квартиры жизнь, которая так грубо и властно всем командует, которая и его вот уже сколько времени несет, тащит куда-то, точно бурная водоворотная стремнина, не давая опомниться, оглядеться, поразмыслить, сквозь бессчетную, безостановочную смену ночей, рассветов, дней. Ночей — в слепящем блеске электрических ламп, хмурых, укутанных во мглу рассветов, серых, однообразных, не запоминаемых им дней, проводимых в давящем, как дурман, как тяжкое похмелье, сне, целительном именно этой своей дурманной тяжестью, потому что от нее костенеет ум и блекнет, теряет краски память…
Вошла Евдокия с кастрюлькой, стала накладывать детям в тарелки. Покосилась иа Коноплева:
— Хоть бы покрывало снял, вчерась только гладила!
— Ладно, не гуди,— вяло сказал Коноплев, подымаясь почти через силу. Он отодвинул стул от стола, обрякло, со слабостью во всем теле сел.
Тарелки ему, конечно, не поставлено. И вправду он вроде постороннего тут — ни заботы, ни ухода от Евдокии... Он сам открыл буфет, погремел тарелками, выбирая чистую. Ну и кавардак на полках! Посуда грязная, вилки заржавелые, стаканы мутные, в одних — зацвелый чай, в других — тесто какое-то.
— Что у тебя, ни одного стакана, что ль, чистого нету? — ворчливо сказал Коноплев, роясь в буфете.
— Не знаю уж, какой чистоты тебе надо! Не нравится — могёшь сам помыть... Авось руки не отвалятся. Картошки я пожарила — подавать?
— Огурцы соленые есть?
— Да один, кажись, остался.
— Подавай.
В вытянутых руках Евдокия принесла из кухни большую горячую сковородку, брякнула ее на стол, на железную подставку. Коноплев продолжал шарить по буфетным полкам.
— Ну, чего там гремишь, чего? — строго вопросила Евдокия.— Нечего там искать, нету там ничего. Вчерась сам же последнее долакал. Ай забыл?
— А я помню — оставалось.
— А я говорю — нету.
— А я говорю — было еще. С полстакана, а было! — сказал Коноплев грубо.
Что-то неудобное, саднящее сидело в нем, давило его изнутри, раздражая, беспокоя; он не знал, как ему сладить с собой, как освободить себя от этого гнета, и потому его тянуло придираться, спорить, враждовать, быть грубым.
Наконец он нашел бутылку, что искал. Она и верно была пуста, только половинка раскрошенной, продавленной внутрь пробки лежала на донышке. Коноплев потряс бутылку, как будто не вполне доверяя глазам, желая окончательно убедиться, что она пуста, поглядел на пробку, которая заметалась внутри от его тряски.
— Слышь,— сказал он жене,— сходи на угол...
— Да, как же! — воинственно откликнулась Евдокия, и маленькие ее пуговичные глазки зажглись.— Как же — сейчас вот так прям и побегу! Ничего, авось не помрешь! Ишь, привычку какую взял — как за стол, так непременно четушку!
— Ну, дай трояк, сам схожу.
— Как же! Держи! Так и дала! — в том же воинственном тоне пропела Евдокия. Колыхаясь под рубашкой грудями, она возбужденно уместилась рядом с детьми, пальцем подтерла с клеенки манную кашу, которую они накапали с ложек. — Трояк ему! — сказала она, обсасывая палец, как бы обращаясь еще к кому-то в комнате, кто мог разделить ее негодование и принять ее сторону. Лицо ее с выпуклыми щеками, острым вздернутым носиком, неумытое со сна, блестящее жиром, порозовело и выражало готовность Евдокии скандалить как угодно долго, но не уступить Коноплеву.
— Дай! — густым, низким голосом сказал Коноплев, кругля ноздри, с ненавистью глядя в сытое, розовое, воинственное лицо жены.— Послезавтра ж получка!
— Принесешь — тогда и говорить будем. До послезавтра еще дожить надо! В доме копейки лишней нету, я дитям курицу на рынке купить не могу, масло ложками размеряю...— начала Евдокия, привычно расходясь, теми своими привычными словами, какими всегда оборонялась от Коноплева, когда он просил на выпивку.
«Сука!» — подумал он, сдерживая себя, садясь назад за стол и с преувеличенной от злости силой тыкая вилкой в дольки жареной картошки.
— Хлеба нарежь! — не глядя на Евдокию, приказал он, обрывая поток ее речи.
Пришлепывая по доскам пола задниками войлочных туфель, Евдокия, нарочито без спешки, чтоб досадить ему, сходила на кухню к оставленному там Коноплевым хлебу, принесла его и стала резать, складывая куски горкой посреди стола, прямо на клеенке.
Коноплев взял ломоть, откусил с того краю, где была корка, и стал есть вместе с картошкой. С крестьянского своего детства, которое пришлось на годы войны, революции, разрухи, когда обыкновенный ржаной каравай, вынутый из печи, радовал, как самый светлый праздник, Коноплев больше всякой еды любил хлебные поджаристые корки, их хруст на зубах, их смачный вкус, который потом прочно сохраняется в человеке, давая долгое чувство сытости.
«Все копит, сука, жадничает! На одно только курево себе оставляю, все ей, суке, и все ей мало, мало!..» — думал он при этом про жену, стараясь обходить ее глазами — так противно было ему ее видеть, так противно было ему в ней все: ее голые толстые плечи с серыми от заношенности бретельками, ее рыхлые груди, напирающие на ткань сорочки, ее блестящее, полное неприязни к нему лицо, ее рот со зверушечьими мелкими и редкими зубами, ее жидкие волосы, гладко прилизанные к голове, скрученные назади в некрасивый бабий пучок с натыканными в него шпильками. Он даже приопустил веки, чтоб поменьше видеть обстановку, домашние вещи, потому что все в квартире было ему как одно целое с Евдокией, выглядело какими-то едиными с нею частями ее существа: и стол с нечистой клеенкой, за которым он сидел, и стулья, изогнувшие округлые спинки, и коврики с лебедями на стенах, и шикарная никелированная кровать с настеленными в пять слоев пуховыми перинами и горой пуховых подушек. Громоздкий дубовый гардероб для одежды и громоздкий комод привезены из комиссионного... Комод до отказа набит разным барахлом, платяными тканями. С каждой получки Евдокия непременно покупает что-нибудь на толкучем рынке, или в закрытом распределителе, или через каких- то темных людей, маклеров, которые понаплодились и посредничают в делах частной купли-продажи, пользуясь, что на их услуги большой спрос: много семей попало сейчас в беду и, чтоб пить-есть, распродают свое барахлишко...
Вот ведь как может сложиться, совсем наоборот тому, как ждалось, думалось: и отдельная квартира с кухней, и обеспечены всем, и мебель, и одежда в избытке, и всякие запасы, и дети растут здоровые, крепкие,— а нет ото всего этого никакой радости, нет в душе никакого довольства... И мира, покоя в его обеспеченном доме нет, даже простого лада с женою. Одна вражда, одна грызня постоянная — из-за всего, как у волков лесных...
Дети тоже потянулись к хлебу, привлеченные его вкусным духом, взяли по куску. Сначала мальчик, потом девочка. Девочка, более робкая, чем ее братишка, когда потянулась рукою, бросила на Коноплева быстрый, боязливый взгляд исподлобья и потащила к себе ломоть несмело, неуверенно, как будто ждала, что Коноплев прикрикнет на нее, запретит взять хлеб.
«И не давятся они этим твоим хлебом, а?» — вспомнил он вдруг и, вспомнив, понял наконец, откуда и почему в нем такая тяжесть, почему саднит ему душу и почему такая настоятельная, больше обычного, потребность выпить.
Ему стало совсем невмоготу за столом, еда не полезла в горло. Он положил вилку, недоеденный кус хлеба и встал. Прошелся по комнате, поглядел за окно — на мокрые крыши, на чернеющие заборы. Потом в передней натянул на себя пальто, намотал на шею шарф.
— Ну куда, куда настроился? — настораживаясь, окликнула из комнаты Евдокия. Как бы они ни перессорились, она не терпела, чтобы Коноплев во внеслужебные часы покидал дом, уходил куда-нибудь один. Несмотря на всю вражду между ними, расставаться с ним она не собиралась и сторожко блюла главный семейный принцип, как понимали его в той среде, которая ее породила и произвела: муж, если он не на службе, должен находиться подле жены неотлучно, у нее на глазах, под ее контролем...
Коноплев не ответил, вышел и сильно хлопнул за собой дверью.
Ему повезло: спускаясь по лестнице, он нагнал жильца с верхнего этажа — бухгалтера Есикова. Бухгалтер, маленький тщедушный старикашка в пальто из дореволюционного драпа, красноносый от вечного насморка, направлялся к себе на службу в контору «Плодоовощ».
Не в первый раз Коноплев просил у бухгалтера взаймы. Бухгалтер знал, что Коноплев не отдаст, что и этот долг останется за ним, как остались все прежние. Но он боялся Коноплева, ему было известно, где Коноплев служит, и бухгалтер завернул полу пальто, показав подкладку, сношенную до белесой ваты, достал кошелек, покопался в нем длинными худыми пальцами и подал Коноплеву трешку.
Серый кроличий воротник на бухгалтере был вытерт сзади наголо, до неприятного сального блеска кожи; красный хлюпающий нос старика, его торопливые костлявые пальцы, его ветхий кошелек вызывали у Коноплева брезгливое чувство, и такое же брезгливое чувство ощутил он от замусоленной трешки, которая перешла в его руку.
Он не стал класть ее в карман, так и понес в пальцах и даже потер их о пальто, когда освободился от зеленой бумажки, кинув ее на прилавок перед продавщицей Валей в бакалейной лавочке на углу, где всегда покупал водку.
Он кинул трешку, но Валя дала ему поллитровку, которая стоила шесть тридцать. Она всегда давала Коноплеву так. Она тоже знала, где служит Коноплев, у нее был муж, и она заискивала перед Коноплевым, располагала его к себе, на случай, чтоб Коноплев пособил, если что произойдет с мужем.
Идти с поллитровкой домой не годилось. Евдокия подымет шум, начнет дознаваться, откуда деньги, кричать, что Коноплев прячет от жалованья, обманывает ее, бессовестно крадет у своих же детей.
Коноплев знал место, где было удобно выпить,— за сараями, на пустыре, по соседству с магазинчиком, там он не раз без помех, в свое удовольствие выпивал — и, запрятав бутылку под пальто, направился туда.
На пустыре свистел ветер, гнул мокрый рыжий бурьян, трепал лохматые края толевой кровли на сараях. На заборе по другую сторону пустыря сидела тощая ворона, взъерошив перья, и кричала — скрипуче, резко.
Коноплев достал бутылку, обколупал белый сургуч и ладонью об донышко принялся выбивать пробку.
Ворона кричала, вперив в Коноплева черную блестящую бусину глаза; ветер подхватывал ее крик, вместе с ним налетал на Коноплева, бил его в лицо.
— Кыш! — взмахнул Коноплев рукой.
Ворона замолкла, пошевелилась так, этак, разглядывая Коноплева, и закричала вновь, с удвоенной громкостью. Коноплева передернуло — так скрипуч и терзающ был ее крик, он, словно зубья пилы, драл его по нервам.
Коноплев поднял с земли обломок кирпича и запустил в ворону. Кирпич ударил в забор, ворона подпрыгнула и, взмахивая крыльями с прорехами в перьях, кособоко, швыряемая ветром, полетела с пустыря за сараи.
Коноплев вышиб пробку, раскрутил в бутылке жидкость, запрокинул голову.
Сразу же внутри ожгло, приятная, расслабляющая теплота поползла в ноги, вверх — к голове.
С пустыря он шел уже свободным, размашистым шагом, не уклоняясь от встречного ветра, дерзко разрезая корпусом его напор. Тело его легчало, будто освобождалось от земного притяжения, легчала, делалась воздушною голова. Все, что его томило, отчего было такое неудобство внутри, осталось там, на пустыре, с закинутой в бурьян бутылкой. В мыслях Коноплева светлело, ему снова было хорошо, уверенно, бодро. Перетормошенная душа его, обретая порядок, снова прочно стояла на месте…
Воронеж, 1962—1988 гг.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"


















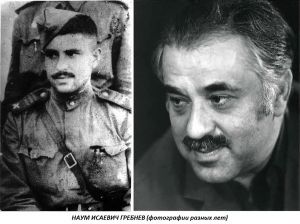
































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов