Рано или поздно, а должны же мы утолить интерес к тем людям, которые в годы войны 1941–45 надели мундир врага и подняли оружие против своих. Этот интерес, возникший, еще когда мы впервые услышали о «генерал-предателе» Власове, заметно обострился в пору «застоя»; уже никакой страх не заставлял нас любить наших правителей, а вели они себя так, что вызывали одно омерзение; для многих из нас перестало быть вопросом, можно ли так возненавидеть родную власть, чтобы и родная земля показалась не лучше чужбины. На проснувшийся интерес – к Белому движению, к эмигрантам первой волны и второй, ко многим тайнам «Чужеземии», составлявшей наше извечное «вражеское окружение», – власть ответила, как от веку она отвечала: перекрытием каналов информации, обысками и изъятиями литературы, всяческим преследованием не в меру любопытных. Но всех лишить памяти она не могла, мало того – сама же, в ярости, и напомнила о тех, осмелившихся некогда против нее восстать, когда в свой ругательный обиход ввела термин «литературный власовец». Так назвали двух наших нобелиатов – и именно по случаю премии; что же теперь мы станем говорить, когда оба изгоя реабилитированы и возвышены? Что во власовцы попадают ненароком люди достойные и почтенные? Или – что нужно же с нашим прошлым когда-нибудь разобраться?
Очерк Леонида Решина «Коллаборационисты и жертвы режима» и является одной из первых таких попыток, совершаемых уже не в зарубежной, а в российской публицистике. Как первой попытке ей могут быть прощены многие упущения; следует, однако, на них указать, а прежде того – обозначить позицию автора. К людям, восставшим против соотечественников, да в лихую годину иноземного нашествия, относятся по-разному. Мне приходилось наблюдать – преимущественно у молодых – откровенную апологию, со жгучей завистью к осмелившимся, отважившимся, да притом получившим в руки заветную винтовку или автомат (из которого можно «от живота веером»). Встречается и отношение враждебно-брезгливое, при нежелании вникнуть в какие б то ни было причины измены и предательства. Есть, наконец, и осознание трагедии отчаявшихся, утративших все надежды найти с властью иной язык, кроме ружейно-пулеметного, пошедших против родины, как идут против самих себя, решаясь на самоубийство. Такое осознание встретим мы у Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛаг», его позиция близка и автору этих строк.
Отношение Леонида Решина – скорее традиционно отрицательное, заслуживающее, разумеется, уважения, тем более что оно, как правило, старательно аргументируется. Преобладают тенденции разоблачительные, без сочувствия даже к тем обманувшимся, кто надеялся, выйдя из лагеря военнопленных и получив оружие, пробиться к своим. Главная же задача автора – убедить нас, что не следует придавать антисоветским формированиям того значения, какое невольно мы им придавали, вынужденные питаться слухами и домыслами. Согласно Решину, были эти формирования не столь уж многолюдны и роли в войне совсем или почти не сыграли, боеспособностью не отличались, для ее повышения приходилось их сильно разбавлять немцами, особенно в формированиях кавказских и среднеазиатских, где немцем был каждый третий или даже второй. Нравственный облик этих «бойцов» – бандитско-мародерский, политического содержания в их протесте не было, интересовала их – военная добыча: золотые коронки, выбитые у мертвецов, ювелирные изделия, часы, дорогая одежда и т.п. Зачастую они выполняли функции карательные, использовались против партизанского движения, население к ним относилось враждебно. При удобном случае – перебегали к своим (что, правда, слабо вяжется с бандитско-мародерскими вожделениями), пополнение же формирований происходило не за счет перебежчиков, а – пленных. Более или менее благородное деяние власовцев – помощь восставшей Праге – расценивается автором как спекулятивное: рассчитывали этой ненужной помощью купить себе политическое убежище и спастись от возмездия. Итог же всех изысканий и подсчетов автора – число коллаборантов, никак не составлявшее миллион, а лишь «немногим более 250 тысяч». Хотя, признает он, «тоже страшно – такого в нашей истории не было».
Похоже, для Решина миллион был бы не количественно страшнее, а символически: это уже такое число, когда измена теряет свое название. Покуда счет на десятки, сотни тысяч – это еще предатели. А миллион – это уже народ. А народ предателем себе самому быть не может.
Так же страстно отвергается версия о «политических причинах массовой сдачи в плен». Принявши нехотя советскую цифру – всего за войну 4.059 тысяч пленных, автор ее объясняет «военными неудачами, неопытностью и некомпетентностью военного командования, ошибками, просчетами и преступлениями партийно-государственного руководства» (какими – не сказано), никак не признавая пленения добровольного. Подчас аргументы могут вызвать улыбку: наше внимание обращается на немецкую кинохронику, где сонмища пленных показаны в нательном белье – «это бойцы, захваченные врасплох, может быть – во время сна». Какой всеобъемлющий, непреоборимый сон! И – какое расплывчатое представление о взаимоотношениях воина с его одеждой. За сколько минут одевается солдат по тревоге, этого автор, поди, не знает, как и того, что на переднем крае зачастую в шинелях и полушубках спят, а в нательном белье, случается, ходят в контратаки; едва ли допустимо ему поверить, что гимнастерки и галифе скорее всего сбрасывались намеренно, поскольку на них были командирские (а хуже того – комиссарские) петлицы, шевроны, лампасы, канты и т.п. либо значки отличника боевой и политической подготовки – что, разумеется, участь пленного не облегчает.
Документальный очерк – это такой жанр, где критике подлежит не только то, что есть в нем, но и чего нет, а должно бы быть. Во всем очерке Решина не встретишь слов «кулак», «раскулаченный», нет речи о семьях репрессированных, о переживших голод на Украине, а такие люди и составляли «золотой фонд» антисоветских формирований и имели «политическую причину» густо сдаваться: либо чтоб не служить в Красной Армии и оставить любимую родину без защиты, либо – отомстить кое-кому за все ужасы коллективизации. Но кажется, лишь для казаков находит автор причину «очень не любить советскую власть».
Не менее странно полное умолчание о той обширной литературе, посвященной антисталинскому сопротивлению, что составилась в Зарубежье. Назвать хотя бы книги А. Казанцева «Третья сила», С. Свеенберга «Власов», К. Кромиади «За землю, за волю...», прот. Д. Константинова «Записки военного священника РОА», прот. А. Киселева «Облик генерала Власова», В. фон Штрик-Штрикфельдта «Против Сталина и Гитлера», В. Артемьева «Первая дивизия РОА», Ник. Беттела «Последняя тайна». Поверить, что автор не мог эти книги раздобыть, трудненько; хоть и в микродозах, они в СССР проникали и ходили по рукам; коль скоро меня эта тема занимала, я их читал в Москве в 70-е годы. Некоторое объяснение найдет читатель в словах благодарности Решина архивистам Министерства безопасности России. Славные чекисты, как показывает долгий опыт, ревниво хранят архивы и всего в руки не дают, но в строго отмеренной пропорции и с непременными рекомендациями – что и как использовать. Боюсь, автор эти рекомендации принял близко к сердцу. Никак не пойму, плотно ли он держал в руках или же из чьих-то рук почитывал следственные дела двенадцати повешенных – Власова, Буняченко, Жиленкова, Малышкина и других. Если держал, почему так скупы, отрывочны, единичны ссылки и цитаты? Приводится текст из солдатской книжки РОА, выданной Власову, фраза из допроса Трухина, что «стал на путь борьбы с советской властью только в плену у немцев», вскользь – показания Жиленкова, но не слышны объяснения подследственных, их политическая программа, их последние слова. Почему-то, скажем, обстоятельства пленения Власова излагаются со слов поварихи Марии Вороновой, а не его самого. Что же, его об этом не спрашивали? Или показания поварихи больше устраивали следствие и суд?
Задумаемся, кстати: отчего Сталин ни разу не судил военных открытым судом: ни в 1937-м году – Тухачевского, Якира, Примакова и других, ни в 1941-м – Мерецкова, Лактионова, Рычагова, Штерна и других, ни вот в 1946-м – группу Власова? Первая мысль, какая приходит в голову: человек военный, как правило, телом и духом покрепче штатского, сломить его нелегко. Увы, это различие – количественное: ну, не «потек» в первую неделю, так продолжим и усилим воздействие – и, глядишь, потечет. А полбеды, если и не выйдет это: вон генерал Лактионов все мучения перенес, ничего не показал ни на себя, ни на других, – и что же? Другие все, что надо, на него показали, кто не перенес, – и он был расстрелян с ними вместе... Дело, наверное, в другом – в характере мышления военного человека: оно конкретно и чуждается абстракций, оно оперирует фактами, а не химерами, и оно же мешает ему выступить хорошим актером в политическом спектакле, подобно Бухарину или Радеку, повинуясь дирижерской палочке Вышинского. Надо думать, и Власов со товарищи надежд не оправдали бы, выпустить их на публику было рискованно, вдруг бы они такое стали молоть, что вызвали бы к себе, не дай Бог, и сочувствие.
Я надеюсь, изо всей гущины фактов, цифири, цитат и ссылок на документы, а подчас и домыслов не аргументированных, читатель очерка все же выловит, что обнимающее название «власовцы» распространялось на всех, кто поднял оружие против своих, неосновательно. Власовская РОА – Русская Освободительная Армия – стояла особняком среди формирований кавказских, среднеазиатских, казачьих, прибалтийских, среди таких частей, как бригады Каминского и Кононова или украинская дивизия СС «Галичина». Начать с того, что РОА не воевала на территории России или иной республики СССР, но это отличие не единственное. РОА была однородна, она не разбавлялась немцами для боеспособности и во всех своих звеньях (исключая, увы, самого Власова) подчинялась командирам-соотечественникам; она, наконец, была сформирована идейно и знала не только против чего она, но и – за что. Последнее не только в литературе доказывается, какую я здесь перечислил, но и самим появлением ее: ни «каминцы», ни «кононовцы» книг не написали, все написано либо самими уцелевшими власовцами, либо разделявшими, хоть отчасти, их убеждения. Возможно, и наименование «власовцы» распространилось благодаря этим выгодным отличиям, а не только громкому имени генерала Андрея Власова. Петр Краснов или Андрей Шкуро – тоже громкие имена, однако звучания нарицательного не приобрели.
Перечисленные здесь отличия автор явно стремится стереть, рассказывая, что в РОА переметывались боевики из бандитско-мародерских бригад Каминского и Кононова. Но это может быть прочтено и в пользу РОА – видимо, ее репутация привлекала людей, не желавших быть мародерами, бандитами и карателями. И соответствующий приказ Буняченко, запрещавший попрекать этих людей их прошлым, вполне педагогичен, в духе традиции А. С. Макаренко.
Второе, что надлежит усвоить об армии Власова, – что это не была армия. Разрешено было иметь три дивизии, но одна так и не была сформирована, другая – сформирована, но не вооружена, и лишь одна – Первая дивизия, под командованием генерал-майора Сергея Буняченко, – явилась соединением боеспособным. Она-то и была – РОА. Лишь скрупулезности ради упомянем эскадрилью Мальцева (24 летчика), запасную бригаду (учебную), батальон охраны КОНР (Комитета Освобождения Народов России) и роту личной охраны Власова.
Вопрос, могла ли столь крохотная армия исполнить свое боевое предназначение, отпадает сразу, но тем труднее уйти от загадки А. А. Власова – что двигало им, когда соглашался дать имя заведомо безнадежному делу? Простой расчет – выжить любой ценой, не сгинув в лагере? Решин полагает, что так и было и что Власов стал предателем через сутки, показав на допросе, что у советского командования под Ленинградом едва хватает сил удерживать фронт, но ни о каком советском наступлении не может быть и речи. «И резервные дивизии были переброшены под Сталинград».
Я думаю, то обстоятельство, что у русских под Ленинградом нет сил наступать, было известно денщикам Гитлера и, может быть, не миновало хорошенькой головки Евы Браун; предательство же было скорее с немецкой стороны – перебрасывать дивизии без тщательной разведки, на основе показаний только что плененного советского генерала.
Время позволяет нам поставить вопрос шире и смелее: если действительно Андрей Власов возымел идею выступить против Сталина и против Гитлера, используя германское нашествие, был ли он тем человеком, кто мог бы этот замысел мало-мальски осуществить? Я так не думаю. Это был человек момента. В нем были свойства, ценные для генерала – находчивость, дерзость, авантюризм, но был он человеком минуты, а не часа. Под влиянием момента принял он бремя руководителя «Третьей силы», заведомо неподъемное для него. Составить армию из военнопленных .– замысел, достойный Спартака, но античного вождя едва ли волновало, во что одеть своих гладиаторов; в позднейшие века – форма сделалась вопросом нравственным. Это не просто прикрытие наготы, тут и идеология, и национальный дух. Так вот форма оказалась – не третья, а немецкая, гитлеровская. Любопытно, что сам Власов от всякой униформы отказался, носил что-то неопределенное, для него одного пошитое. Итак, ты поставил свою армию под знамена врага, назовем вещи их именами, и уже этого первого испытания советскому генералу было не преодолеть. Отсюда погружение в апатию, метания, питье, паралич воли. Это притом, что хватило характера принять мученическую кончину, не покинуть свое войско, воспользовавшись самолетом и гостеприимством генералиссимуса Франко.
Ну, а сама идея «Третьей силы» – с опорой на Германию – как выглядела в глазах воюющего народа? Выглядела так, что с коллаборантами, попадавшими в плен, расправлялись круче, нежели с эсэсовцами. И не могло иначе быть после Сталинграда, после Курской дуги, когда армия повалила на запад и лишь одного хотела – скорее очистить свою землю от оккупантов. Летом и осенью 1941 года, в месяцы обвала, позорного бегства и трехмильонной сдачи в плен, идея «Третьей силы» еще была уместна, да и брезжила во многих умах, но курьезно, что Власов, герой зимней Московской битвы, этой идеей жил и в году 1943-м, и в 1944-м, когда война уже перевалила некий хребет, пошла по другим законам. Чего стоило его знаменитое заявление, что он закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, еще каким-то друзьям по академии – и они ему сдадут фронты! Здесь и те, кто втайне ему сочувствовали, только рукой махнули. Стало слишком ясно: он не представляет себе, как настроены массы народа на фронтах и в тылу, не видит, что они теперь на стороне Сталина, что сменился уже весь интерес нации!
Заявлений Власова и всего поведения его в Германии не понять без учета весьма важного персонажа, группового, о котором ни разу Решин не обмолвился, – эмигрантского Народно-Трудового Союза, небезызвестного НТС. Умолчание тем более странно, что Решин, судя по всему, не мог не оценить – и скорее благосклонно – той роли, какую сыграл этот персонаж в судьбе РОА. Советская печать, сродственная 5-му, идеологическому, управлению КГБ, мозги нам пробуравила «недобитыми власовцами», составляющими едва не весь контингент этого подобия партии. Сам персонаж – отстаивает свою суверенность и о роли своей говорит вот что: «НТС существовал задолго до власовского движения. Члены НТС старались передать власовцам идею “Третьей силы” – против Сталина и против Гитлера, за Россию. За это немало членов НТС погибло в гитлеровских концлагерях». Когда имеешь дело с текстами НТС, лучше заранее настроиться на принятие сильнейшей поправки. В лагерях энтээсовцы оказались не потому, что выступали против Гитлера, – за это головы отрубали и вешали,– а потому, что гестапо заподозрило (и справедливо) инфильтрацию их рядов советской агентурой и 200 человек изолировало для проверки. Длилась она полгода – которые НТС и записал себе в героический счет. Известный «тамиздатский» автор Б. Прянишников (Серафимов) в последней книге «Новопоколенцы» упоминает троих умерших за это время, не связывая их смерть с лагерными условиями. Он, правда, жалеет многих пострадавших, но пострадать и погибнуть – не одно и то же.
Своих идей НТС отроду не генерировал, едва ли «Третья сила» зародилась в его умах. Участь этой «партии» – быть на подхвате; не так давно ее вождь Е. Романов косноязычно, но точно сформулировал – по отношению к советским диссидентам – ее извечную тактику: «В этом развивающемся движении мы ищем свое место. Мы даем туда себя». И таково чудесное свойство этих альтруистов, что всякое движение, куда они «дают себя», обречено заглохнуть, то-то диссидентов шатало от их навязчивой помощи. Ко времени пленения Власова НТС давно уже не был организацией политической; опекать прославленного генерала, на которого делалась ставка, он принялся, находясь в плотном – и платном, разумеет-, ся, – контакте с Восточным министерством Альфреда Розенберга и военной разведкой «Абвер» (как позднее с британской «Интеллидженс сервис» и далее с американским ЦРУ). От этой опеки Власову было не избавиться, шагу не ступить, в НТС состояли и его переводчица-немка, и постоянные собеседники, сотрапезники, собутыльники, да ведь и свои коллеги-генералы – Трухин, Благовещенский – были втянуты в членство; энтээсовцы же ему устраивали «нужные» и «полезные» встречи – по своим «линиям» и исходя из своего понимания, что ему нужно и полезно. Так его свели с Геббельсом, Леем, Розенбергом, фон Ширахом, мечтали – с самим фюрером (насчет которого были «против»), да он о РОА и слушать не хотел; высшим достижением явилась встреча с рейхсфюрером СС Гиммлером, который и дал «добро» на формирование трех дивизий. Не принося ожидаемого успеха, встречи с такого сорта людьми сильно компрометировали Власова в глазах немцев, особенно тех, кто и были ему единственно нужны – армейских генералов, которые тоже искали свой третий путь и в чьей среде созрел заговор против Гитлера, завершившийся покушением 20 июля 1944 года. Скорее всего идея «Третьей силы» исходила от самого Власова и его пленных коллег, но признаем и не оцененную Рентным заслугу НТС, который в ней принял живое участие и поспособствовал ее краху. После чего, с душою легкой и чистой, от власовского движения отмежевался и даже осудил его – в пространном обращении «К кадрам Союза» от 6 июля 1946 года, когда власовцы в Москве ожидали суда и казни.
Не сказать, однако, что с разгромом генеральского заговора шансы РОА стали нулевыми. Был в Германии человек – и могущественный человек, в ком она могла бы встретить понимание и поддержку. Это был Гейнц Гудериан, бывший командующий танковой армией на Восточном фронте. По сведениям В. фон Штрик-Штрикфельдта, «близкий к людям 20 июля, о чем знали немногие», он все же участия в заговоре не принял. Впоследствии он привел многие доводы против покушения, свои личные тоже: как христианин не мог бы поднять оружие против безоружного. Гитлер, ища опору, его отметил, вернул из опалы и назначил начальником Генерального штаба сухопутных сил; в этой должности Гудериан сделался, по существу, главным организатором обороны Германии. Власов с ним дважды встречался на театре войны; в первый раз – под Киевом, когда танковые клинья Гудериана и фон Клейста замкнули окружение пяти советских армий; вырвался Власов со своей 37-й и остатками других. Пишет дотошный Солженицын (в письме ко мне от 24.4.93): «...во всем Киевском окружении – 665 тысяч пленных – никто не показал себя столь доблестным и умелым воином, как генерал Андрей Власов (и до Киева – он же)». Такого противника Гудериан не мог не запомнить! Вторая генеральская встреча была в Московской битве; разделенные двумястами километров, они почти одновременно приняли решения, определившие ее исход: Власов близ Красной Поляны – ринуться в наступление, Гудериан под Тулой (Поляна – Ясная, усадьба Толстого) – отступить. Теперь, в Германии, могла состояться и третья встреча – личная, да и естественно было Власову, формируя армию, обратиться к начальнику Генерального штаба. Но он даже не искал этой встречи, а Гудериан лишь в американском плену в Маннгайме, общаясь с Жиленковым и Малышкиным, узнал с удивлением, что была такая – «Третья сила»!
Почему об этой не-встрече оба могли пожалеть? У Гудериана была своя идея: как вывести Германию из войны без ее расчленения. Предполагалось – открыть фронты американцам, англичанам, французам и все немецкие силы перебросить на Восточный фронт. Мысль договориться сепаратно с союзниками Сталина уже витала в воздухе, Гудериан – односторонним решением навязывал им проблему. Сложилась бы ситуация по меньшей мере нервирующая. Если уже была оговорена демаркационная линия, то силы коалиции, не встречая сопротивления, дошли бы до нее и здесь бы остановились – предоставив Германии оперативный простор для войны уже на одном лишь фронте! Двинувшись дальше, за линию, они бы вызвали сильнейшее неудовольствие Сталина и сделались бы его врагами, расчет Гудериана и был – на разлад коалиции. И не исключено, что ее войскам пришлось бы вместе с немцами противостоять советским армиям – не слишком роняя свой престиж. Не дать повода Сталину вступить в Европу – кто из европейцев, не считая коммунистов, в конце концов не примирился бы с этим? А спросить советских фронтовиков – сколькие не предпочли бы, чтоб фашистского зверя в его логове добили союзники и при этом война кончилась бы на 5–6 месяцев раньше? Вспомним опять же Толстого: народная война была лишь до границ России, дальше пошла война политическая. Чувство народного возмущения и гнева вполне удовлетворилось изгнанием супостата, незачем было его преследовать до Парижа, где и так его ждал неизбежный крах. Вероятно, и у Сталина, при всех амбициях и вожделениях, хватило бы ума и смирения не затевать новую, европейскую войну, когда цели и задачи войны Отечественной были исчерпаны.
В этом противостоянии – не нашлось ли бы места и применения для всех антикоммунистических, антибольшевистских сил, оказавшихся волею рока в Германии, в том числе – для РОА? Историки пишут о слепоте, о маниловщине тогдашних лидеров Запада в их отношении к «дяде Джо»; эта запоздалая прозорливость, однако, не считается с тогдашней реальностью, с тем, что в сердцах союзников преобладало восхищение героизмом русских, дружелюбие и симпатия к ним. И все же не сбросим со счетов, что эти чувства сильно подогревались немецким сопротивлением, – исчезни оно, и, может быть, их заместил бы вопрос: отчего так яростно немцы сопротивляются русским и нисколько – нам? При этом РОА – не та, что была, а со всеми невостребованными резервами, численностью в сотни тысяч военнопленных, панически страшившихся возвращения в милое отечество свое, предпочитавших смерть в бою и даже самоубийство, – эта РОА стала бы живым отрезвляющим аргументом, сильнейшим катализатором отторжения Запада от России сталинской. Так что два знаменитых и даровитых генерала, мыслящих масштабно и дерзко, в равной мере были нужны друг другу.
Этот многообещающий план имел, конечно, свою ахиллесову пяту: в нем не было места Адольфу Гитлеру. На его вопрос: «А как же я?» – что мог бы ответить Гудериан? «А вы, мой фюрер, предстанете перед международным трибуналом». Предстали бы, ясное дело, и все те, по ком заскучали нюрнбергская виселица и тюрьма Шпандау, светили и Гудериану его три года заключения, да ведь речь шла – о судьбе Германии! Я думаю, российским национал-патриотам, баркашовцам, жириновцам и прочей свастиколюбивой публике, почитающей Адольфа Алоизовича, нелишне узнать, что в решающие дни он свою судьбу и судьбы своих присных поставил выше. Разумеется, до прямого диалога с фюрером не дошло; Гудериан, почти единственный в рейхе, кто умел говорить ему всю правду, все же свою идею не выкладывал. Мог идти спор лишь о том, какому из фронтов – Западному или Восточному – подбросить пополнение, какой усилить за счет ослабления другого. И, как ни покажется странным российскому читателю, Алоизович до последних дней считал Восточный фронт – второстепенным. Главные его враги были – англичане. Объяснить ли это традиционной враждебностью континентальных европейцев к «коварным островитянам», – какая была у Наполеона, – или же два социализма, гитлеровский и сталинский, расовый и классовый, втайне ощущали свое родство даже над схваткой, но наибольшей опасности фюрер ожидал от Запада, всего подозрительней и беспощадней был к тем, кто туда скашивал глаз, ища путей к сближению. Заикнуться об его согласии на какой-либо шаг в ту сторону значило положить голову на плаху. И дело могло идти не о согласии – об устранении его и присных. Мысль об этом фельдмаршалов Роммеля и Клюге, покончивших с собою после заговора, не умерла вместе с ними, обитала в головах многих офицеров и генералов, все более тяготевших к «западному варианту» решения судьбы Германии, но неудача покушения, но свирепая расправа над причастными к нему и непричастными оказывали действие парализующее и разобщающее. Чтоб сбросить оцепенение, требовалось время – которого не было.
Как известно, история не знает сослагательного наклонения, а тем не менее уже проклюнулась на Западе новейшая наука – «альтернативная история», призванная, разумеется, не к тому, чтоб «переиграть» прошлое, но к рассмотрению иных вариантов для оценки поступков исторических персонажей – политиков, генералов, публицистов, писателей. Что желаемое не произошло, тому были причиною вины и ошибки множества людей, разбирать которые здесь не входит в мои намерения. Вина же и ошибка власовцев состояли в том, что они себя связали с худшими людьми рейха. И было это – непоправимо. Когда в конце марта 1945 года генерал Гудериан уходил из гитлеровского бункера, выгнанный в отпуск, из которого не суждено было ему вернуться, его в этом бункере ничто не держало, уже миновала возможность изменить всю картину итогов Второй мировой войны, избегнуть раздела Германии, образования ГДР и других «народно-демократических республик», строительства Берлинской стены... Миновала и для Русской Освободительной Армии единственная возможность исторического оправдания – и спасения от гибели. Ведь только в этом случае она, держа оборону против соотечественников, не преступила бы закона божеского и человеческого, не изменила бы и национальному долгу – ему не изменяют, когда отстаивают демократию. Не было бы опасений у давших ей оружие, что она его повернет против них же, не было бы и резона ограничивать ее тремя дивизиями (а по существу – одной), и не стали бы англичане и американцы, во исполнение «союзнических обязательств», выдавать бойцов РОА в новый – и самый страшный – плен. Тут бы она и была – и против Сталина, и против Гитлера!
Причудливая история, однако, предоставила РОА исполнить миссию иного рода. Как уже сказано, на территории СССР она не воевала. Но боевая встреча с советскими войсками все же была у нее – в Польше, близ Фюрстенвальде, 13 апреля 1945 года. «Власовцы, – пишет Решин, – отступили в беспорядке, оставив на поле боя убитых, раненых, оружие и амуницию». При этом он ссылается на Немецкие штабные документы, не учитывая, что они могли быть составлены противниками и ненавистниками РОА; воспоминания участников содержат картину несколько иную. Боя не получилось. Солдаты с обеих сторон перекрикивались, обмениваясь информацией о житье-бытье. Были и перебежчики – в ту и другую стороны, это значит – не было перестрелки. Такого ни командование немецкое, ни тем паче советское снести не могли, поле было обстреляно артиллерией, противники разведены. Чуткий наблюдатель мог бы отметить, что на чужой территории соотечественники относятся к власовцам уже иначе, нежели на своей; это должно было, хоть отчасти, вернуть «изменникам и предателям» чувство и своей правоты, так что не стоило, пожалуй, и далее с ними обращаться как с «унтерменшами» – могло случиться, что в один прекрасный день они выйдут из повиновения. Это и случилось: единственным значительным боевым действием РОА оказалась помощь восставшей Праге.
Этот эпизод Решин излагает предельно кратко, словно бы нехотя и явно в полемике с другими версиями. «Представители повстанцев предложили Буняченко поддержать восстание. Власов отказался участвовать в переговорах. Буняченко потребовал предоставления дивизии политического убежища...» И что же, оно было обещано? Иначе – как прочесть дальнейшее? «8 мая дивизия вошла в Прагу, не встретив никакого сопротивления со стороны немцев. Вечером того же дня 1-я дивизия РОА выкатилась из Праги... Власовцы не могли освободить Прагу... в ней остались десятки тысяч вооруженных немецких военнослужащих. И кто знает, что было бы со Златой Прагой, если бы танкисты Рыбалко и Лелюшенко не блокировали группировку Шернера».
Любое наше деяние допускает трактовки самые разные. Можно рассказать о людях, оборонявших Москву, форсировавших Днепр, бравших штурмом ступени рейхстага, что они это делали из страха перед трибуналом. Или они жаждали наград, облегчавших послевоенную карьеру. Наиболее дальновидные, наверное, предвкушали, что спустя полвека выжившим фронтовикам будут отпускать продукты без очереди. Можно и так... Но вот Гоголь, в известной сцене, где старый Бульба убивает сына-изменника, призывает «пощадить рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было». Возможно, власовцы поддержали пражан в небескорыстном расчете на политическое убежище (какое же, интересно, и кому его могла тогда предоставить Чехословакия?). Но ведь не дрова они подрядились попилить, не картошку убрать с поля, а рискнули своими жизнями ради спасения жизней чужих. Что и заставляет меня пересказать этот эпизод несколько иначе, добавив и то, о чем Решин предпочел умолчать.
Первая дивизия РОА, отступая на юг с группировкой Шернера, прошла Прагу и удалилась от нее на 50 километров, когда началось там восстание, а вскоре послышался в эфире крик о помощи. Делегаты повстанческого комитета прибыли в походный лагерь дивизии. Они не предлагали, они умоляли помочь. Эсэсовцы топили в крови восстание, начатое преждевременно, и ни войска Рыбалко, ни Лелюшенко, ни другое какое соединение не могли успеть. Могла только Первая дивизия РОА. И она – вернулась. Комдив Буняченко лишь оформил приказом общее решение солдат и офицеров. Власов, действительно, устранился, больше того – при немцах, повсюду его сопровождавших, выразил Буняченко свое неодобрение. Но известно, что минут на десять они остались наедине. Оба повешенных, возможно, оставили следы своего разговора в протоколах следствия, и когда-нибудь мы это прочтем. А пока – должны поверить слышавшим от Буняченко, что Власов ему сказал: «Действуй!» – и посоветовал, как действовать: вначале захватить аэродром, на который высаживались новые каратели.
Нас косвенно хотят уверить, что серьезного боя в Праге не было: дивизия не встретила «никакого сопротивления со стороны немцев». Его и не должны были встретить люди в немецких мундирах. Но эти люди все же были настроены воевать, а так как это почти невозможно в одинаковой с противником униформе, женщины Праги за ночь пошили для них пять тысяч широких нарукавных повязок с тремя цветами российского флага. Нас уверяют, что власовцы «не могли освободить Прагу», – это верно, как верно и то, что они не за тем пришли; когда одна дивизия выступает против пяти, можно не ссылаться на закон наступательного боя, требующий обратного превосходства в силах (кстати, достаточно и тройного). Все, чего они хотели,– поддержать повстанцев, спасти их от неминуемых массовых расстрелов, и, по-видимому, добились этого, если к исходу дня нужда в спасителях миновала. И, как изящно выражается Решин, дивизия «выкатилась из Праги». Он забывает сказать, что «выкатилась» она под сильным давлением тех же повстанцев. Их делегация вновь явилась к Буняченко и потребовала немедленно уйти из города, поскольку уже на подходе войска маршала Конева. Спасенные русскими теперь пожелали, чтоб их спасли советские. Из двенадцати делегатов восемь были коммунисты, главою был Йожеф Смрковский, будущий лидер «Пражской весны». Можно предположить, что в составе уже не было тех, кто приезжал умолять о помощи.
Никем не подсчитано, сколько бойцов дивизии погибло на улицах, на аэродроме, а времени было потрачено на Прагу – четыре дня. Это при бегстве от советских танковых и моторизованных частей, когда и четыре часа потерять гибельно. Теперь эти части двигались не то что по пятам дивизии, но порой вперемешку с ее частями, такое в те дни было не в диковинку. Буняченко дивизию распустил, и ее люди, хоть и в немецкой форме, но шедшие вразброд и без оружия, интереса у советских фронтовиков не вызывали. Самая гибельная перемена, какая могла произойти за эти четыре дня, самая обидная и непостижимая, произошла с жителями Праги и окрестных мест. Все выжившие участники отмечают, как резко изменилось отношение к «русским предателям». В лучшем случае им вслед выкрикивали оскорбления, угрозы и проклятья, в случаях иных – отыскивали спрятавшихся в лесу, в разрушенном доме, в крестьянском дворе и указывали на них оперотрядам «Смерша». Партизаны и повстанцы, случалось, приводили связанных. Отличительной приметой – кроме незнания немецкого – была нашивка на левом рукаве, в виде геральдического щита, с литерами «РОА», еще лучшей – широкая, видная издали, трехцветная повязка – у тех наивных, кто не сорвал, надеясь на ее спасительность...
Двадцать три года спустя, в августе 1968-го, танки маршала Гречко залязгали на Вацлавской площади, утюжа «Пражскую весну». Все страны НАТО были этой дерзостью изумлены, и ни одна не посмела хоть погрозить глухо. Генералы не скрыли профессионального восхищения внезапностью и быстротой вторжения: за каких-нибудь восемь часов была оккупирована европейская страна и взята ее столица! И во всей восточной Европе нашлось в те дни лишь семеро смельчаков – внятно изъявить свое возмущение и протест. Выйдя на Красную площадь в Москве, столице оккупирующей державы, с плакатиком «Руки прочь от Чехословакии!» они пошли против своего правительства и против той, очень немалой, части своего народа, которая одобрила оккупацию. Годом позже была в гостях у меня чешка из Праги, жена моего переводчика Яна Забраны, теперь покойного; говорили о тех семи, многого ли они добились трехминутной своей демонстрацией, и вот что сказала Мария Забранова: «Из-за этого их поступка все чехи не возненавидели всех русских». Но может быть, не только из-за поступка «великолепной семерки»? Может быть, если не все, так многие чехи вспомнили раскаянно тех далеких спасителей, одетых во вражеский мундир и с цветами российского флага на рукаве, кого призвали на помощь – и выдавали потом на расправу. И ведь зря была эта угодливость, власовцы и так были обречены: они шли сдаваться в плен американцам, но были не приняты, выданы поголовно в плен советский. Только чехи и могли б их укрыть... если б захотели.
Горестная история РОА написана лишь отчасти, она полна белых пятен, которые, понадеемся, будут заполнены со временем. К сожалению, очень многое, что давно уже могло бы стать для всех явным, остается тайною наших, российских, архивов – пусть не за семью печатями, так за шестью наверняка. Очерк Леонида Решина, приоткрывающий завесу, – всего лишь попытка начать новое следствие, без видимого желания отменить старый приговор. Но эта попытка могла бы по крайней мере послужить стимулом к полному раскрытию тайны.
Георгий Владимов
Напечатано в качестве послесловия к очерку Л. Решина в журнале «Знамя», № 8 за 1994 г.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

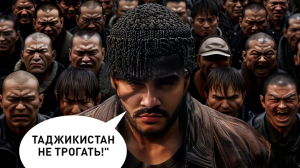












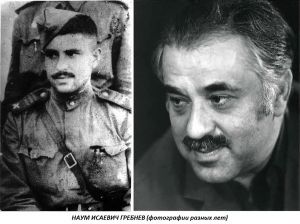

































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов