Алые блики вечерней зари заиграли на могильных крестах, на портретах умерших. Казалось, что поздние солнечные лучи оживляют их лица. Алла засмотрелась, задумалась и с головой ушла в воспоминания.
Она приехала в давно покинутые края, на родину своих предков, которые умерли задолго до её рождения. Но их могилы ежегодно убирала, и делала это с любовью и уважением. В хуторе она уже почти никого не знала, и на погосте, закончив работу, пошла искать знакомых. Кладбище в хуторе называют могилками. Ясно вспомнила, будто это было вчера, как звала её бабуня:
– Аллочка, пошли на могилки.
– А яйца брать?
– А то? Не порожними ж итить.
Аллочка брала свою круглую плетёную корзиночку, накладывала доверху крашеных яиц, и они шли по духмяной степи к кладбищу. Чабрец ещё не зацвёл к Пасхе, он только набирал силу для будущего цветения. Но сорвёшь, разотрёшь в пальцах молодую его веточку, и такой дух! Пахнет следующим светлым праздником Святой Троицы.
На могилках они с бабушкой христосовались со всеми подряд. Это было хуторское кладбище, и все были знакомыми, даже родственниками, кровными или некровными. Живя рядом, все породнились и перероднились. Расцеловавшись и поговорив с земляками, они обменивались крашенками. Домой Аллочка возвращалась снова с полной корзинкой крашеных яиц, но туда несла одного цвета, а возвращалась с разноцветными. Многоцветье веселило, будоражило.
Она не знала, что означает этот праздник, но очень любила его. К Пасхе всегда белили мелом стены, печи, глиной мазали полы, стирали все занавески и накидки. И стоял такой удивительный и радостный запах чистоты, что и доныне помнится. Задолго до этого дня собирали яйца, не ели. Накануне праздника красили их. А на праздник одаривали ими друг друга, гостей, ставили их на лучшем блюде горкой посередине стола, яркие, что букет луговых цветов. Ими играли: катали с пригорка – чьё дальше укатится, катали друг другу навстречу – у кого крепче. Разбитые - вместе съедали, а оставалось по-разному, у того, кто проиграл, меньше, у другого больше. Их столько было игр! Игрушек ведь не было. А есть яйца в этот день можно было столько, сколько душе угодно.
Что за праздник Троица, Аллочка тоже не знала, хотя и слышала, как бабуня её молилась: «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу!» Для неё Троица – это день, когда пол в их хатёнке, скамьи, подоконники сплошь засыпали уже цветущим чабрецом, в банки ставили полевые, луговые, лесные цветы, у входа прибивали веточки деревьев. Было так свежо. И такой аромат заполнял всё вокруг! Для неё Троица – это праздник красоты, цветения и ароматов.
Так, вспоминая, Алла неторопливо шла по кладбищу, читала надписи на крестах, вглядывалась в портреты. Кого-то узнавала. Вот под берёзой Лёнечка. Он умер ещё мальчиком. Она его помнит. Останавливалась у давних ухоженных захоронений. Восхищалась – сколько лет прошло, а близкие не забыли, помнят предков, какие молодцы! К сожалению, от многих могил остались едва заметные холмики, поросшие сорняками. Случайно набрела на большую каменную надмогильную плиту.
Девчонка-подросток, убиравшая могилу неподалёку, рассказала, что плиту обнаружила в этом году женщина, которая выпалывала сорную траву и тяпкой наткнулась на что-то твёрдое. Думала – простой камень, хотела его убрать. Но не тут-то было. Очистила плиту от земли, а на ней вытесана надпись: «Здесь покоится Платон Чеботарёв». И дата: 13.1.1914.
Плита ориентирована строго в направлении восток-запад. А в метре выше, к северо-востоку ещё одна такая же большая каменная плита. Но на ней не надпись, а мастерски и тщательно вытесанный рисунок. Может быть, и это захоронение относится к 1914-му году?
Что же произошло здесь в начале прошлого века? Есть, над чем подумать. Надо порыться в архивах. Взяла в сумке цифровой фотоаппарат. Алла почти всегда носила его с собой, на всякий случай. Вот такой случай и приспел. Сфотографировала плиты. Сердобольные хуторяне уже украсили их цветами. Отношение к предкам – стержень, на котором зиждется нравственность. И этот стержень у казаков очень прочный, что восхищает.
Та же девочка, заметив интерес к старинным захоронениям, повела её вглубь кладбища, сплошь покрытого сорняковыми зарослями. Две большие надмогильные плиты, установленные под небольшим уклоном. Никаких надписей прочесть невозможно. Здесь был использован цемент, и он разрушился. Но вокруг этих плит в траве множество, улавливаемых ногами, холмиков с камнями, стоящими вертикально. Это казачьи могилы. Именно такие надгробья ставили в этих местах – из вертикально стоящего камня или из трёх камней пирамидой. У торчащих из земли горькой памятью камней уже кто-то прошёлся с песочком. А песок здесь разный: белый, жёлтый, оранжевый, красный. И залежи каждого здесь же, неподалёку от этого места. Красного на кладбище немного. Им только брызнули. Каплями алой крови запекся песок на могилах. На камнях вытесаны, где кресты, где слова молитв. А на одном Алла нашла дату – 1873. Вот к какому времени относится это захоронение. Вероятно, это кладбище с него и началось. Прошло больше века, а камни ещё хранят память о предках. Всё-таки самый прочный, самый лучший материал – это камень. Камни, содержащие информацию о прошлом, можно воспринимать сегодня, как исторические документы. Что же такое случилось в этих краях в 1873 году? Войн серьёзных не было. Эпидемия? Набросилась, сделала своё чёрное дело и, сытая, отправилась дальше за новой добычей. А там, где были люди, остались вечные камни и не очень вечная память. Горько это. Надо пораспрашивать об этом старожилов, возможно, что-то вспомнят из рассказов бабушек-дедушек.
– Больше бы информации на камнях, меньше брошенных могил было бы. Нашлись бы потомки, обустроили погост, - размышляла Алла. Могилы своих прадедов она нашла потому, что её отец когда-то давным-давно поставил металлические кресты с датами жизни близких ему и родных людей. Отца уже нет, а память осталась, для Аллы, для её детей, внуков, правнуков…
Солнце уже коснулось окоёма. Алла двигалась к выходу, мельком поглядывая на могилы. Взгляд её наткнулся на портрет красивой женщины. Она никогда не видела этого лица, но точно знала, чувствовала, что эта женщина сыграла какую-то роль в её судьбе. Прочла надпись на кресте. И вдруг из глубины памяти она чётко услышала голос бабуни, обращённый к её, Аллочкиной, маме:
– Да не реви ты, как белуга. Иде ночевал – иде ночевал? Увесь хутор знаить, одна ты не знаишь. У Нюрки он, у Казаковой ночуить. Пойди ей, падлюке, окна перебей.
– Не пойду.
– Иди – слухай, чо я табе гутарю. А то я зАраз упОраюсь и сама пойду. Я ей, заразе не токма окна повыбью, я ей усе патлы повырываю. На увесь хутор ославлю! Ишь чиво удумала, отца у детишков отымать.
– Не надо, маманя, не надо позориться, Бог им судья.
– По-зо-риться! – взорвалась бабуня. – Ты поглянь токма. Ента она позорится, тпфу на йиё, проклятущую.
Дверца памяти захлопнулась так же внезапно, как и распахнулась.
– Так вот ты какая, Анна Казакова?
Алла не помнит, чем закончился этот разговор. Помнит только, что через несколько дней мама подогнала бричку, запряжённую парой быков, бросила в неё какие-то узлы, усадила её, Аллочку, на руки ей – младшую сестрёнку, и они поехали в чужие края к чужим людям, в другую жизнь. Всю дорогу мама шла рядом с повозкой, держа в руках поводья и подгоняя волов. На каждой ухабине скарб гремел, узлы переваливались. А мама шла, ссутулившись и низко опустив голову. Эта картинка навсегда засела в памяти Аллы. Хоть сейчас бери угли и пиши картину. Именно угли, не краски, потому что эта картина в её памяти отпечаталась в серых тонах.
Так закончилась жизнь, где их все любили, где все к ним были добры. Мама была сельским фельдшером. «Наш фершал» – называли её хуторяне. Она никому не отказывала в помощи, бежала по первому зову в любую погоду и в любое время. Видя это, Аллочка тоже помогала всем, кому могла. Что взять с шестилетнего ребёнка? Но на её помощь весной вдовые одинокие соседки занимали очередь, и она безотказно и безропотно ходила из двора во двор со своей плетёной корзиночкой и бросала картошку в лунки, вырытые женщинами.
Среди чужих незнакомых людей в чужом городе мама не смогла сразу устроиться на работу по специальности. Отец вскоре приехал к ним, но он очень скучал по родным местам, по земле, которую любил. Жена категорически отказалась возвращаться туда, где она пережила такую боль и такое унижение.
Позже, когда Алла выросла, мама, будто оправдываясь в том, что лишила её родины, рассказывала, как не могла после измены отца ходить по хутору. В каждом случайном чьём-то слове или взгляде она видела какой-то унизительный для неё смысл, подтекст и мучилась. Даже частушки, что слышала, проходя вечером мимо собирающейся в кучки молодёжи, вызывали в ней стыд и обиду одновременно:
Ты почто меня ругаешь,
Грубым словом обзываешь?
Я не просто так кобель,
Я породистый, поверь.
Ах, милашка, помоги,
Пригласи на пироги.
А я тебя ночию,
Уж, чем-нибудь попотчую.
Ей казалось, что они поют специально для неё. Ну, не могла она снова вернуться в этот хутор, хотя муж очень просил. Он начал пить. В доме чёрными тучами повисли ссоры и давили девочек, всё ниже опуская им головы. По-пьяни отец попал в неприятную историю. Посадили. Беды, словно крупные бусины, нанизывались одна за другой на зыбкую нить их жизни. И всё из-за неё, из-за этой Нюрки. Чем дольше Алла вспоминала, тем большую неприязнь вызывала в ней женщина на портрете.
Подошла старушка, заметив, что она надолго остановилась у могилы.
– Авжеж родня какая? Да, красивая была бабёнка. Красивая да несчастная.
– Что же так?
– Мужик на войне погиб. А она с дитями усю жисть сама, горемычная.
– А что же замуж не вышла, раз красивая такая? – всё ещё неприязненно спросила Алла.
– Та за кого ж выйдешь та? Усе её мужики на войне осталися. Поплакать и то пойтить некуды. А дома детки. Ажно четверо. При детишках не выплачешься.
– Жанатаи на йиё заглядались. Прибегали йихние жонки драться с ей за мужуков своих, – продолжала словоохотливая старушка. – А холостых не было, усе на проклятущей войне осталися. А кабы и был бы, хто ж на чатырёх дитей пойдёть? Это бабы стожильнаи, они и на девятёх идуть. Бывалоча, случалося и такоя.
Алла обратила внимание на даты жизни: «Анна Ефимовна с папой одногодки. Жили неподалёку. Вместе, наверно, росли, играли, шалили, а мама пришлая», – сопоставляла факты Алла. – «Возможно, и первая влюблённость случилась именно тогда. Ведь оба такие красивые. Потом жизнь развела. А после войны свела снова. Муж Анны погиб на войне. И ей, молодой, красивой, полной сил и желаний так хотелось, чтобы хоть изредка мужчиной в доме пахло, а не только заплаканной фотокарточкой. Может она и не собиралась вовсе чужих детей сиротить. И прожила-то как мало. До шестидесяти не дотянула. Папы тоже уже нет, но он пережил Анну на четверть века. Да и вправе ли она судить эту женщину? Или кого бы то ни было ещё», – продолжала размышлять Алла. – «Это жизнь. Это судьба. А, как говорят, жизнь протянется – всего достанется. В этой истории нет виноватых. Хотя неправда. Есть! Есть виновница всех их бед и несчастий. Она коварна и безжалостна. А имя ей – война».
Алла вышла за кладбищенскую ограду. Днём, когда она только пришла, у ограды весело алела полянка степных мачков. Они весело кивали головками, словно говорили: «Мир входящему». А теперь алой купинки нет. Лишь помин остался. Видно налетел степной ветер, закружил им головы, и осыпалась яркая радость в бурьяны. Всё в жизни так кратковременно, так непостоянно.
Последние лучи заходящего за горизонт солнца позолотили облака. Казалось, что солнце отдавало миру последнее оставшееся тепло. Его алые блики стекали с кладбищенского пригорка, омывали хутор, кроваво и тревожно поблескивали на волнах Донца, вспыхивая и переливаясь. Алые отблески подрагивали, заполняли всё окрест, всю бескрайнюю, хранящую пот и кровь предков, до боли любимую Аллой лазоревую степь.
Нина ДЕРНОВИЧ


 Конкурс "Русская Голгофа"
Конкурс "Русская Голгофа"













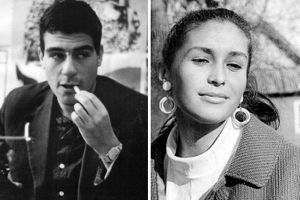



































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский