С самого утра густая сетка дождя падала мутным кружевом. Разбитая молнией верба тянула к небу обугленные ветви, и было что-то трогательное в этих застывших руках с мокрой, коричневой золой на расцепленных пальцах.
С необъятного поля чуть зазеленевшей озимой рви дуло резвым ветром, теплым запахом травы, ранней, бодрящей весной. За дождевым пологом все время мерещились огромные расплывающиеся силуэты сказочных великанов. Но только телеграфные столбы медленно выходили из водяного дыма и покорно уплывали назад, сламываясь за горой.
Придорожные лужи бороздились мелкими пузырьками, расходящимися кругами, будто сыпали на них сверху градом. Невысокая щетина ржи мягко шелестела под дождем.
Ехали гуськом. Впереди колыхался башлык начальника разъезда, высокого с куриной грудью зауряд-прапорщика Свистулина, то и дело падавшего на луку. За ним ехал вестовой командира полка Худько, за неумеренное пьянство попавший в строй. Шествие замыкал Виктор Павлович Сливков, тоненький кадет с густым басом. Кажется, деланным.
Свистулин, падая кривой грудью на шею лощади, дремал. Вторую неделю уже, днем и ночью, полк перебрасывали с одного фланга на другой, вторую неделю люди не смыкали глаз. Когда мокрый башлык прапорщика падал на спутанную гриву, рослый, с большими ногами гунтер останавливался на мгновение и недовольно фыркал.
Острые прутья старого седла мешали спать кадету, Виктору Павловичу. Так называли его все, даже командир эскадрона, за непонятную в семнадцать лет склонность к философскому оправданию неумной нашей жизни. Звали кадета еще «панночкой»: были женственно округлы и румяны детские его щеки.
Сливков, мигая уставшими веками, жевал сушеные сливы, сплевывая косточки в кулак. Вернувшись с разведки, можно будет разбить их в ступе и съесть вкусные горьковатые зерна.
Вестового везла взлохмаченная кобыла Партийка, отбитая в прошлом году у латышей-курсантов. Кобыла тоже дремала, равнодушно передвигая забрызганные грязью ноги. Вероятно, ей и жаловался Худько, тщетно раскуривая на дожде «козью ножку»:
— Рази можно, говори, да в такое времечко да чтоб без пьянства? Смута, то есть, и душа тоби на месте стоять не желает. Душа, хосподин полковник, не желае. Йий Боху.
Кобылка покорно слушала смешную смесь русских и украинских слов вестового, над которой очень потешались в полку.
— Так и ховорю: не можу я, хосподин полковник, чтобы в трезвях жить. Ну его к бису, ховорю. Зальешь малость, так воно куды спокойней, и прямо: трын-трава усе на билом свете. А боны: в строй пойдешь, пьянюга!
Худько поправил сползавшую с плеча винтовку и ударил слегка Партийку, хотя та брела не останавливаясь.
— Ноо-о, каммуния!..
Минуты три вестовой помолчал, будто забыл, на что он жаловался сонной Партийке. Потом опять вспомнил:
— Строй? Шо ж, я не то чтоб прочь. Черт его дери. И в строй пиду. Шо мы строев ихних не бачылы? А только душа, ховорю…
— Вино — возбуждение искусственное, а должно быть возбуждение духовное, порыв, — сосредоточенно сказал кадет, пряча косточки в карман вымокшей шинели. — Пьяным родину каждый любит, а ты вот трезвым полюби!
— А душа? — не унимался Худько. — Не желае, Выктор Павлыч, хоть ты што. Я и батюшке докладывал на исповедях: так что, звините, нестоющий я человек, без нутра уже. Одна хформа, а без шкилета. И хожу там, сапоги командировы чищу или жеребца ихнего, Мыхвыстофеля, а когда там в картишки зажарю або по женской части. Действую, словом, а будто давно уже представился. И чувствия такого що живу, значит — ныма. Прямо, ий-Боху, один калинкор с кандибобыром.
Вероятно Партийка не любила иностранных слов и споткнулась, за что Худько и стегнул ее истрепанной плетью по костлявому крупу.
— А батюшка и кажуть мини: смирись, это у тебе бис взыгрался. Бис то на усем свете Божьем играе, батюшка: времячко для биса, как раз подходящее. От тут и поймы, якый у меня бис эабрався: той, шо на всем свити, чи новый?.. Так я думаю, Выктор Павлыч: куды спокойнее покойникам, которые на полях поляглы за виру, царя и отечество и дымократическую свободу. А так же ограрные реформы.
Партийка опять споткнулась. Кадет, отвечая своим мыслям о чем-то большом и непонятном, проронил с торжественной грустью:
— Больше никто же любви не имат, кто душу свою положит за други своя. Всем тяжело, Худько. Надо жить. Обязательно надо жить.
Свернули с большого шляха на проселочную. Дождевая сетка поредела. В молочном кружеве брызг, дрожа расплывчатыми пятнами выступили далекие звезды. Булькала под копытами жидкая грязь.
Вдали потянулась темная, извилистая лента. Нельзя было разобрать, что это: тын? Полоса свежевспаханной земли? Потянуло дымом. Сливков подъехал к зауряд-прапорщику, тронул его плеткой.
— Свистулин, тут деревня, кажется. Напоремся на заставу. Не открывая глаз, кивнул прапорщик головой.
— Знаю. Не баси ты так, в Москве слышно.
Как всегда, упоминание о Москве кольнуло сердце кадета тихой горестью. Он незаметно вздохнул и еще глубже увел в воротник шинели.
Показался невысокий холм, за ним будто засветилось окно и сейчас же погасло в надвинувшихся деревьях. На хуторе весело тявкнул пес. Ему довольным ржанием ответила Партийка.
Дернув поводьями, Худько хотел было досказать про нежелавшую стоять на месте душу и так понравившиеся ему своей непонятностью аграрные реформы и вдруг, уронив повод, сказал скороговоркой:
— Хлопци, скидай шапки. Суббота сегодня.
— Ну и что же? — удивился кадет. — А вчера была пятница. Америка!
— Страстная суббота. Ий-Боху! Пасха завтра, хосподин прапорщик! А мы на смертоубийство идем. Як же так?
Вестовой даже привстал на стременах, так показалась ему чудовищной смерть и кровь в такую ночь. Кадет, забыв о басе, сказал молодым ломающимся тенорком:
— Четверг двадцать четвертое, пятница — двадцать пятое, суббота — двадцать шестое, воскресенье… Да, завтра Пасха. А я в этом году и не говел даже. Мечешься тут, как сумасшедший…
Слипшиеся веки зауряд-прапорщика раскрылись сами. Он остановил лошадь, снял набухшую фуражку, перекрестился несколько раз. Перекрестились и другие. Кадету вспомнился гордый гул с колокольни Ивана Великого, и опять тихая горечь сдавила сердце.
— Час-то который? Поди, и служба началась, — сказал Свистулин, зевая.
Фосфорный циферблат голубоватым кругом вспыхнул на его руке.
— Одинадцатый. Эх ты, доля наша собачья!..
И сейчас же, разорвав дождевую сетку, влажными силуэтами вынырнул из тьмы неприятельский разъезд.
— Стой! Кто такие?
Партийка, широко расставив передние ноги, радушно взмахнула хвостом, вытягивая голову вперед. Навстречу протянулась узкая белая морда с нависшей на глаза челкой. Караковый мерин кадета шарахнулся в сторону.
— Ошалели, что ли? Свои! — крикнул Свистулин, лихорадочно расстегивая кобуру. Пальцы скользили по мокрой коже, револьвер Путался в шнуре.
— Какой части? — спросили впереди.
— Второго полка, черноморской дивизии. Команда разведчиков. За белыми охотились. Да драпанули, черти. Повергай братва, назад!
Назвав первую попавшуюся часть, Виктор Павлович одной рукой натянул повод, привстав на стременах, другую опустил броском вниз, к шашке. Мелькнуло еще раз то великое и загадочное, что все эти дни не выходило из головы.
— Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя…
Бесшумно поползла вверх по ножнам кривая кубанка.
— Положу, Господи! — И прибавил почему-то вполголоса: — Воистине воскресе… — будто встречал чье-то приветствие, радостное и родное.
Впереди, за сутуловатой спиной Свистулина, было много — десять ли, двадцать ли всадников — мешал разглядеть мрак. Всматриваясь в него немного, как он говорил, выпившими глазами, Худько не понимал, почему большевистская застава не кричит: "Даешь Деникина!" Завсегда кричат, а тут…
Передний вытянул вперед руку, щелкнул чем-то. Пролилась в дождь желтая искристая полоса электрического фонарика, задержалась на цветной фуражке зауряд-прапорщика.
Советский отряд расступился, продвинулась линейка с пулеметом.
Свистулин нащупал курок. А впереди вставил кто-то нехотя:
— А может и наши? Переодемшись только. Не видать, глаза выколешь. Ты паролю у них поспроси.
— Пароль?
Стало очевидным, что не уйти. Еще миг и сверкнула бы в дождливой сетке кривая кубанка, а потом упал бы в хлюпающую грязь кадет Сливков Виктор, до Москвы не дошедший, косточки слив рассыпались бы…
— Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя…
— Пароль? — злобно крикнул передний, поднимая суженную книзу трубку ручной гранаты.
Тот, на белой лошади, вскинул карабин. До боли крепко сжал в костлявых пальцах своих прапорщик тяжелый наган.
Худько забыл о душе, стоять нежелающей. Когда скользнул фонарик по прыщатому его лицу, вестовой сказал широко улыбаясь:
— Христос воскрес, братцы! Ей-Боху! Пароль наш такый: Христос воскрес?!
— Ты не бреши, харя! — неуверенно ответил передний. Вестового искренно обидела такая недоверчивость.
— От крест! Побый мэнэ Бог! Пасха завтра!
Электрическая струйка сломалась, брызнула в исписанную дождем лужу у края дороги.
От линейки отделился кто-то, подошел к головному:
— Верно, Вася. Святая ночь нонче.
Фонарик погас. Далеко влево запел деревенский колокол. Начальник заставы утонул в полумраке, сливаясь со своими. Сдержанно раздались голоса:
— Энто не дело, чтобы биться…
— Айда назад. Приказ? Скажем, что убегли…
— Вестимо. Охота в такой день… Худько слез с Партийки и, разминая ноги, бросил в мрак:
— Скидай шапки, братва! К заутрене звонят. И пошел к линейке.
— Христос воскрес, православные. А ежели хто из вас коммунист, без Бога, то с праздником воопче! В такый час быться? Ну его к бису, православные!
— Сам ты, харя, коммунист, — весело ответил один из красноармейцев. Другой крикнул подходящему вестовому:
— Куда идешь? Заштрелю!
Худько остановился. С линейки спросили:
— Разговеться то у вас есть чем, господа охфицеры?
— Ныма, товарищи, — в тон ответил Ходько, шаря в карманах. — Так что один табак. Виктор Павлыч, ты слив щэ не поив?
— Пошамал уже. Только косточки. Начальник заставы выехал вперед.
— Так как же, православные? Биться? Грех-то ведь. Белые у нас развелись, красные, а Бог-то один для всех. Верно? И потом все одно — порубим мы вас за милую душу аль в плен возьмем. Верное слово.
— Что порубите — так, — ответил, выпячивая кривую грудь Свистулин. — Ишь, храбрый какой! Вас пятеро против нас, да пулемет. А касательно плена — дудки-с. На-ка, выкуси! В плен не пойдем. А разойтись по хорошему ради воскресения Христова, это я согласен.
«Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ… — запел вполголоса Худько, садясь на лошадь.
— Эх, було времьячко: и ковбаски тоби, и горилка…
— Так, — задумался головной. — Что я и на нас крест имеется. С Богом, православные. Христос воскресе! — и повернул коня.
— Воистину! — сказал кадет, стыдясь неожиданных слез своих. — Может, и вы и мы еще в церковь поспеем. Нам недалеко, в Ивановскую. С Богом!.. Хорошо жить на свете, Свистулин. Правды еще много.
Прапорщик ничего не ответил, ехал с непокрытой головой, вслушиваясь в далекий звон.
Дождевая сетка молочной стеной выросла, все расширяясь, между разъездами. Застучала по мосту линейка.
Худько до самой Ивановской рассказывал про розговенье на Посядах, родном хуторе на Ворскле, про ковбаску, куличи прямо в аршин, про дивчат в новых корсетках, плахтах и о том, как всю эту привольную и тихую жизнь смели «ограрные» реформы.
Иван САВИН
1926 г.


 Конкурс "Русская Голгофа"
Конкурс "Русская Голгофа"














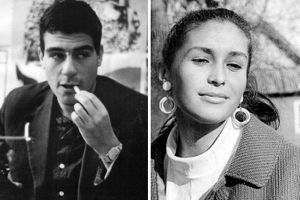




































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский