Виждь слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать.
Аввакум
На открытом берегу речушки Петравки, впадающей в Оку ниже Касимова, хорошо сохранились земляные валы древней крепости. Они довольно круты, высоки; и когда подымаешься на вершину их по влажной траве, нога скользит, поневоле припадаешь на колено: трудно удержаться без палки. Крепость так хорошо посажена на местности, что с валов ее ничто не заслоняет широкого обзора, даже темный сосновый бор, лежащий за речкой, кажется отсюда кустарником. Одни говорят, что в этой крепости жил когда-то разбойник Кудеяр, а другие – старица Алена… «И вышки по углам стояли ажно до облаков». Все возможно – крепость могла быть надежной и для разинской вольницы под командой Алены, да и разбойничкам послужила бы: место для набегов выбрано удачно, – и Ока рядом, и старый большак поблизости. Есть где было погулять.
Старый большак давно уж заброшен. Где-то размыло дорожное полотно, где-то мостки поснесло в разгульную полую воду, где-то навели другие… И вот остались на крутобоких песчаных угорах обрывки мертвой дороги. Местами они зеленеют – стреловидные листья пырея пробили обкатанный веками камень, а на обочинах густо распушилась никем не тронутая трава-мурава.
Неподалеку от крепости, на большаке, лежало когда-то богатое село Кустаревка, – от него осталось всего четыре кирпичных дома, да ямины от жилья, поросшие глухой крапивой и татарником, да корявые в два обхвата пни от спиленных ветел, да зарастающая травой, неезжалая, покрытая белым камнем дорога.
Таких заброшенных, таинственных крепостей в этом древнем лесном краю много; встречаются они и по Оке, и по Мокше, и по Цне – все это старая засечная полоса, граница Рязанского княжества. Но если верить старикам, в каждой из этих крепостей жил либо разбойник Кудеяр, либо старица Алена со своей лесной вольницей. «И ни один московский воевода взять ее не смог. Стеньку Разина взяли, а ее не смогли». Это добрые сказки с желанным концом. Старицу Алену взяли, хотя сопротивлялась она отчаянно долго, и на подмогу московскому воеводе Долгорукому посылали князя Волконского. Но сказки сильнее жизни. «Не взяли старицу, и шабаш. Обманом только выбили. Дак она потом в лес ушла. Монастырь построила. Сама камни клала и кумпола выводила. Царствие ей небесное».
Здесь же, возле этой заброшенной крепости, я узнал одну историю, которая заставила меня поверить, что «старицу Алену не взяли, и шабаш!». И камни она в монастырские стены клала, и «кумпола сама выводила».
На отшибе теперешней четырехдворной Кустаревки, возле самого подола угора, откуда начинаются пойменные луга, прилепилась странная изба, – еще издали, с крепостных валов, я заметил на ней необычную трубу: ведро не ведро торчит из соломенной крыши, таз не таз, но нечто жестяное, с широченным раструбом кверху, вроде мегафона или громкоговорителя, которые вывешиваются на столбах в домах отдыха. Вот в эдакую трубу хорошо ведьме вылетать на метле – не зацепишь. Кто додумался до такой нелепости? Что за чудак?
Только подойдя близко к дому, я заметил, что труба изнутри была кирпичной, а снаружи обернута жестью и обвязана проволокой. Зачем?
Впрочем, таких «зачем» у меня возникло множество. На тыне, возле околицы, ведущей во двор, висела дохлая ворона. В палисаднике, над долблеными допотопными ульями-дуплянками, на ветлах белели конские черепа. Но самой загадочной оставалась изба. Она была собрана из самых разнокалиберных бревен, – снизу венцы были толстые, обыкновенные, кверху же бревна шли все тоньше и тоньше и оканчивались под карнизом почти жердями, отчего вся изба выглядела как-то игрушечно, несерьезно, словно ее собрали так, потехи ради. Издали заметил я и необычную ажурную веранду, словно оплетенную реечным каркасом, вязанным в шашку. Вблизи «реечный каркас» оказался сплетенным из белых тонких палочек – лутошек, то есть ободранных липовых ветвей. И опять показалось мне – в насмешку сделано. А рамы в окнах были самых разнообразных переплетов – и большие и малые; одни, поменьше, поставлены вертикально, а другие, подлиннее, горизонтально уложены в стену. Чудеса, да и только!
Но, приглядевшись, я понял, что сделано все не без умысла: все эти нелепости скорее от нужды, чем от чудачества. Голь на выдумки хитра. И в самом деле, поставь длинные рамы вертикально – они бы уперлись в карниз. Из-под жестяного раструба выглядывал слепленный из половняка дымоход. Не оберни его жестью, не свяжи проволокой – развалится. А бревна в сруб хоть и уложены слишком тонкие и даже попадались старые, – но под окнами лежит венец новый, толстый, и верхний венец, под балками, тоже вполне надежный. И во всем облике избы была какая-то трогательная и жалкая потуга на красоту – вместо резных наличников набиты затейливо изогнутые белые палочки, и карниз оплетен из тех же лутошек. Не гляди, что солома…
– Издаля кружево, а подойдешь – пужало. Так, что ли? – сипло спросил меня кто-то сзади.
Я вздрогнул и обернулся. Ко мне подходила старуха, шла тяжело, волоча ноги, покачивая большой, куце остриженной головой. На ней была исподняя рубаха, заправленная под грязную серую юбку, распоротую с боков, отчего похожую на какие-то широченные пиратские брюки. Впрочем, из-под распоротого подола мелькали еще и штаны – красные, заляпанные грязью. Обута она была в калоши, притянутые проволокой к заскорузлым голым ногам. Ее большие и грязные мужицкие руки, с согнутыми пальцами, висели до самых колен и впереди нее; казалось, она несла их, как гири, подвешенные к шее. А над низким косым вырезом рубахи так же безжизненно висели тощие длинные груди, прикрытые медным крестом.
– Ну, чего залюбовался, касатик? – спросила она, останавливаясь и глядя на меня блеклыми глазками.
– Да вот, смотрю на вашу избу. Как интересно все у вас сделано, – сказал я, испытывая неловкость от ее пристального немигающего взгляда.
– За поглядку деньги платят. У меня здесь не театр и не базар… Так что проходи своей дорогой. – Она заковыляла от меня прочь, бубня себе под нос: – Липнут, как мухи на мед. Мора на них нет, прости Господи. Нельзя от дома отойти.
Только теперь я заметил оставленную старухой возле околицы тележку, высоко груженную травой и утянутую «деревом». Все честь честью, как на лошади привезла. Хоть и невелика тележка на железных колесах от старых плугов, но трава свежая, тяжелая, воз выше околицы. Неужели она сама притянула? А может, на корове, на телушке?
Старуха растворила околицу, взяла оглобли, неожиданно легко стронула груженую тележку и, пятясь, раскорякой, повезла ее во двор. Вот тебе и тягло.
Дворовые постройки – легкие соломенные сараюшки, окружавшие со всех сторон каменную кладовую, покоились на ветлах. Когда-то это были столбы, или вернее – ивовые колья, теперь они распушились в ветлы и поднимали на своих сучьях соломенные крыши. За этими сараюшками лежал садик, заросший вдоль плетня бузиной и крапивой. В конце садика, в частом окружении ветел, был пруд, довольно большой, со свежесрытыми откосами. В пруду плавали утки. Пруд чистый, обихоженный. Кто его рыл? Неужели старуха?
Я сел на пригорок поблизости от пруда и ломал голову над тем, как завязать разговор со старухой.
Вдруг за дальним кустом бузины, возле старой заброшенной дороги, звонко ударило бруском о косу – взинь, взинь, взинь! И тотчас со двора вышла старуха.
– Эй, шаромыжница! Прочь отсюда, не то пятки порежу! Фьють-тю!.. – старуха лихо свистнула и длинно, скверно выругалась…
Из-за куста выглянула баба с косой и тоже скверно заругалась:
– А соли в задницу не хошь?
– Я вот косу возьму…
– Ну, бери! Давай, иди сюда. Я те покажу! Остригу твои мужицкие портки-то.
– Воровка! Кого грабишь? Старуху.
– Это колхозная трава. Тебе ж запретили здесь косить, и не вякай.
|
– Сейчас я пчел растревожу. Они те разукрасят рожу-то. Старуха заковыляла в палисадник, а я подошел к женщине с косой. На вид ей было не более сорока лет – широколицая, приземистая, в белой в крапинку просторной кофте, в длинной до пяток юбке, босая. – Что у вас за спор? – спросил я. – Да ну ее! Ей запретили здесь косить, вот она и матюгается. Привыкла… – Кто запретил? – Колхоз. Отмерили ей пятнадцать соток вместе с прудом. А сюда не лезь. Трава наша, колхозная. – А пруд чей? – Ее. Сама вырыла по дурости. А теперь за травой в лес ездит на своем тарантасе да колхозников материт. – Кто она такая? – Колхозным председателем была. На всю округу шумела… Прошкина! – Анна Ивановна? – Может, и Анна Ивановна. Кто ее знает. У нас ее старицей зовут, потому как одичала. А вы почем знаете, как ее звать? – Слыхал… Анна Ивановна Прошкина. Как же я сразу не сообразил? Мне даже тетка моя рассказывала о ней, подружка ее. Да я и сам видел ее однажды в детстве. В полушубке черной дубки, опушенном серой мерлушкой, в серой, лихо заломленной папахе, она выступала в нашем районном селе на митинге в день убийства Кирова. Помню базарную площадь, запруженную санями, лошадей, привязанных вдоль дощатых ларьков, мужиков и баб, в валенках и в лаптях, в нагольных полушубках, в черных, крытых чертовой кожей сборчатках, в длинных коричневато-серых свитах, с округлыми стегаными воротниками, – всю эту темную подвижную толпу, толкущуюся вокруг покрытой кумачом полуторки. В кузове, как на трибуне, стояло человек десять; двое держали лозунг – красный лоскут на белых оструганных палках, по лоскуту в одну строчку аршинные буквы – «Нет пощады врагам народа!». Из ораторов мне запомнились полувоенный в серой бекеше, в буденовке и Прошкина… Когда оркестр ударил «Интернационал» и крикнул кто-то сверху «Шапки долой!», первой сорвала свою папаху Прошкина, – прямые, коротко остриженные волосы ее развалились скобкой по вискам, придавая ей вид упрямый и задиристый. – Эк, дьявол! Под мужика стрижется… – ахнул кто-то в толпе. – А може, и в самом деле мужик?! – Двухсбруйный! – Кхе-хе, гхы-хы… – Цыц! Анна Ивановна Прошкина. Атаман-баба. Бой-баба. И вот что осталось от нее. Ну как я мог узнать в этой старухе ту громогласную воительницу? Хоть и рассказывала мне тетка о ней, просила сходить, поглядеть… «Живет она теперь, как отец Серафим-пещерник. Ей-богу, правда! Сходи, подивись…» И мне по рассказам казалось, что живет она где-то в лесу у черта на куличках. Ан вот она где, у старого большака. В трех верстах от правления колхоза, от большого села Желудевки. Я вошел к ней в палисадник и сказал: – Здравствуйте, Анна Ивановна! У меня к вам дело, – я назвался и сказал, что пришел от тетки. Она резко вскинула голову, обернулась от дуплянки, опять пристальным немигающим взглядом посмотрела на меня: – А вы ее откуда знаете? – Я племянник ее. – Племянник! Ах ты Боже мой! – она всплеснула руками. – Что ж ты сразу-то не сказал? А ведь я думала, что ты из правления. Сено описывать пришел. – Ну, что вы! Хочу торговаться с вами. Тетка задаток просила оставить, – соврал я. – Ах ты Боже ж мой! – хлопнула она опять себя по ляжкам. – Скажи ты, не забывает про меня моя красавица. Как она, жива-здорова? – Ничего, слава Богу. – Да что ж это мы здесь стоим? Пошли в избу. Я медком тебя угощу. Да чайку поставлю. – Она заковыляла к веранде. – Правда, самовара-то нет у меня. Я в чугунке скипячу чаек да малинкой заварю. Уж не побрезгуй, касатик. Проходя мимо ветел с конским черепом, я спросил: – А эта штука зачем? Она лукаво улыбнулась, выпячивая нижнюю губу: – Старая примета – конская голова пчелу держит. – А вы верите? – Хочешь веришь, хочешь нет. Про Бога не скажу – грешница. Но что-то нами повелевает. В избе было сумрачно от низкого потолка, настланного из жердей. Стены хоть и были оштукатурены и побелены когда-то, но почернели от дыма. Пол, собранный из старых кадушечных досок, горбился волнами. Вся мебель в избе – и стол, и скамья, и кровать, и стул – были сбиты из березовых палок. Белая береста придавала им нарядность, даже своеобразную красоту. – Кто это вам мастерил мебель? – спросил я. – Все, что здесь сделано, от нижнего венца и кончая этой печью – все моими руками. – Неужто никто вам не помог? – Никто. – И стропила сами ставили? – Сама. На земле все разметила, вырубила. Потом сама и ставила. – И сруб? – И сруб рубила сама. – И крышу одна крыла? – Все одна. Сперва набросаю, потом залезу, утопчу… – Она вдруг растерла пальцами слезы по щекам. – Эх, Господи Боже мой! Я и в землянке нажилась, и по миру ходила, и в тюрьме насиделась… Она отвернулась, отрывисто, глубоко всхлипывая, сняла с печки сухое полено и начала отщепывать лучины. Огонь развела на шестке, чугунок с водой поставила на таган. – Вот мой и самовар! А ты садись хоть в креслице, хоть на скамью. – Спасибо! Я все дивлюсь, как это вы печь смогли сложить из битого кирпича. – На иле. Ил у меня крепкий, как цемент. И не трескается от огня. Из пруда брала. – Перевязки надо сделать, под выложить, небо – и все из половняка? – удивлялся я, разглядывая печь. – Эх, родимый. Я этих печей-то в жизни сложила – не перечтешь, как волос на голове. Через эти печи вся моя жизнь скособочилась. – Из-за печей? – Да. С детства я обучилась этому ремеслу. А потом в селе лучшим печником была, по дворам ходила. Меня все знали. Вот и выдвинули. В ладоши нахлопали. Она стояла у шестка, освещенная переменчивым пламенем, смотрела куда-то под ноги; высоко вздернутые, как наклеенные, седые брови придавали ей выражение мучительного недоумения. – Сорвало меня, как скворечню с дерева, и наземь бросило. Так пустым ящиком и Осталась. – Как же это произошло? – Э-э, всего не расскажешь. – Вы хоть пенсию получаете? – Нет. – Почему? – Говорят, не за что. – Кто говорит? – Тарарышкин, председатель рика. Стажу, мол, рабочего не хватает. – А колхоз? – Колхоз у нас слабый. На трудодни нечего платить, не то что пенсии. – Пусть платят как беспризорной! – Тарарышкин говорит – на беспризорных у нас лимит. Жди, говорит, очереди. – Что же вам предлагают? – Иди в богадельню! А не хочешь – жди, когда государство установит пенсию колхозникам. – Почему же в дом инвалидов не идете? – Там от безделья да от тоски помрешь. А тут сама себе хозяйка. Логика была, что называется, каменной – не сдвинешь. И я отступил. – Кем же вы числитесь: рабочей, служащей, колхозницей? – А никем. – Документы хоть какие-нибудь сохранились? – Да какие документы! От партии отказ получила. Трудовых книжек тогда еще не было. Вон, справка лежит, что в тюрьме отсидела. – Она выдвинула из стола грубо сколоченный ящик, достала маленький тряпичный сверток, подала мне. – Вот. Я развернул тряпку. В ней и в самом деле хранилась справка, выданная Н-ским УРом, что гражданка Прошкина действительно отбывала срок заключения. Да две картонных желтеньких книжечки – одна с красным крестиком на обложке, вторая с крупной надписью – МОПР. Обе книжечки выписаны были на Прошкину еще в 1928 году, на разворотах были наклеены крошечные марки – уплата взносов. Да еще было в сверточке направление от райземотдела, выданное в июне 1931 года. В нем написано, что работник женсектора Прошкина Анна Ивановна направляется в село Еремеевку с рекомендацией председателем колхоза. – Как вы сохранили все это? – А тетка твоя сохранила. Когда меня держали под следствием, она ко мне ходила, передачи приносила. Я и передала ей эти бумаги. А возвратилась – первым делом к ней. Разве она не рассказывала тебе? – Рассказывала… Я вспомнил теткин рассказ: «Скребется вечером у двери. Кто такой, думаю. Курица или кошка приблудная?.. Открываю – стоит нищенка в телогрейке, и сума тощая. Сейчас подам, говорю. А она мне: „Анна Ивановна, неужто не узнаешь?“ – „Тезка, ты, что ли?“ – „Я, Анюта, я…“ А сама плачет, рекой заливается. Неделю прожила у меня и ушла. „Живи еще“. – „Нет, у каждого воробья и то свое гнездо. А у меня еще руки-ноги есть, слава Богу“. Так и ушла…»
|


 Конкурс "Русская Голгофа"
Конкурс "Русская Голгофа"












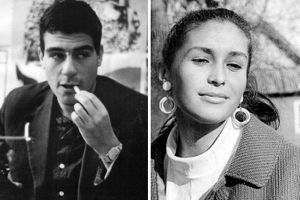





































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский