Люди, которых забирали, как врагов народа, у нас были… В одну ночь забрали сразу 30 человек, словно, по разнарядке.
Наступил 1931 г. Начались колхозы. Тогда у людей все отбирали, их хозяйства разоряли, а самих отсылали в Нарым. Ни один из них не вернулся.
Док. 37
Петрова Татьяна Петровна родилась в 1916 г. в Калининской области. Рассказ записала внучка Долгих Татьяна в 1998 г. (г. Прокопьевск)
В число раскулаченных мы как бы не попали. Но в то же время и попали. Мы просто не стали дожидаться этого бедствия. Мы сбежали от коллективизации. Когда от соседей мы прослышали о раскулачивании, то поняли, что нашей семье не избежать этой участи. Добежали аж до Сибири. Нам нужно было поосновательнее спрятаться. Попали мы в небольшой поселок Усяты. Потом на этом месте город Прокопьевск образовался. А тогда это было глухое место. Шахты только строились. Отец наш и устроился на шахту им. Сталина. Мама туда же пошла работать мотористкой. А я осталась присматривать за хозяйством. Справедливо ли было забирать у кулаков скот и инвентарь? Ты, доченька, лучше и не спрашивай. Что ты! Мы трудились. Всего добивались сами. А эти идолы захотели все у нас забрать. Разве это по-человечески, по-христиански? Сколько добра пришлось нам оставить в своей деревне! Конечно, что могли, то унесли с собой. Но много ли унесешь вшестером? Тем более что сестренка была маленькая, брату — чуть больше. Ехали на лошадях, товарняках, потом опять на лошадях. Ехали безконечно долго: Псков, Великие Луки, еще какие-то станции. Я уже и не замечала дороги. Мы очень вымотались. Ели то, что взяли с собой: картошку, свеклу, морковку, сало. Никакие мы были не эксплуататоры! Работников мы никогда не держали. Работали только сами. Я не знаю, что забирали при раскулачивании. Мы же сбежали от этого. Но люди тогда говаривали, что забирали все: и скотину, и зерно, и одежду, и даже посуду. Помню, с каким страхом родители и соседи говорили об этом… Так страшно было! Мы знали, что нас ждало такое же горе… Мне тогда все думалось, что кончилась моя молодость, мое счастье! Я очень твоего деда любила. Думала, мы убежим, а он останется. Но он поехал с нами. В Усятах мы и повенчались. А через год и дети пошли. У меня все время страх за детей был. Что с ними будет? Какое у них будущее? Все время одолевали думы — как жить дальше? Все время была неопределенность. Местные усятские жители встретили нас с пониманием. Спасибо им! Нас приютили в одном бараке, накормили тем, что было у них. А было, надо сказать, у них у самих мало. Но люди тогда совестливые были. Сначала мы жили в бараке на «Голубевке». Это был рабочий поселок рядом с шахтой. Затем переселились в дом, за который потом выплачивали шахте ссуду. У меня тогда уже шестеро детей было. Все мои сестры постепенно разъехались из Прокопьевска. Всем хотелось получше свою жизнь устроить. Но мы не могли сорваться с места из-за недостатка средств. А в 1953 г. деда твоего в шахте убило. Горе-то какое! Тут уж и речи не могло быть о переезде. Когда мы жили в своей деревне, то не знали, что такое голод. Вообще как-то не ощущалась еда. Она была — и все. А вот как приехали в Прокопьевск, тут и началось. Я уж не говорю про войну. Тут уж мы поголодали. Но ничего, перебились. Сажали картошку. Но ее часто воровали. Голод — это страшно! Это не просто есть хочется, кушать охота. Это ощущение своего безсилия. Ни я, ни твой дед ничего сделать не могли. Голодали сильно! Потом жизнь как-то налаживаться стала… У нас на шахте, говорят, были те, кто побывал в лагерях. Но они никогда, ничего не рассказывали. Оно и понятно! Если бы они пошли против партии и говорили про нее плохое, им бы не сдобровать. А так… никто, ничего не знал. Все любили партию и Сталина… Было ощущение, что Сталин не знал о всех наших бедах. А если бы узнал, то сразу бы нам помог.
То есть правитель ничего не знал, что творится в его стране??? Что людей у него под носом не просто убивают, но зверски убивают вместе с малыми грудными детьми и беременными женщинами десятками миллионов он не знал и не ведал?
Вот она — эта странная логика, откуда как черпал раньше, так и продолжает черпать сегодня свое оправдание на право убийств миллионов ни в чем неповинных людей и сегодня подпитывающийся Америкой пытающийся вернуться к власти нынешний неосталинизм. И пока он не будет осужден судом международного трибунала, как фашизм, — он будет вновь пытаться захватить власть и продолжить массовые убийства в стране этих недотеп — русских, которые из произошедшего не только так ничего и неизвлекли, но и не желают ничего для себя уяснить. А потому сильно рискуют вновь наступить все на те же так и не отставленные в стороночку грабли истории.
Док. 38
Сердюк Федор Иванович родился на Волге в 1917 г. Рассказ записала правнучка Бауэр Татьяна в 1999 г.
Отец считался кулаком, а кулаков надобно было власти раскулачивать. Все добро, таким трудом нажитое, отец не хотел отдавать. За это и за то, что людям раздавал молитвы, отец был репрессирован тройкой УНКВД 11.03.38 г. по ст.58-2-8-9-1 УК РСФСФ 1, приговорен к расстрелу. Расстрелян был 25.03.38 г. О расстреле мама знала, только не хотела верить, ждала отца. В день расстрела пролежала на печи весь день (ноги не шли и сердце тревожно билось). Тогда она поняла, что ее Иван больше не будет лежать с ней на печи. Нас отправили на большом корабле по Волге (было выселение). Когда в очередной раз корабль остановился «отдохнуть», кто-то нехороший украл Вареньку, самую младшую доченьку-куколку. Мама всю дорогу не отпускала от себя ее, а тут отвлеклась, не усмотрела. Плакать не было сил. Одно горюшко за другим! Седина посеребрила черные волосы сорокалетней женщины. Высадили нас в незнакомой стороне. Оказалось, что это село Дубровино Завьяловского района Алтайского края. Все приходилось начинать сначала… началась война. Жить стало тяжело, в поле собирали гнилую мелкую картошку, рвали крапиву и варили похлебку. Мария и Евдокия работали медицинскими сестрами на фронте. Мужики воевали. С войны вернулся только я.
Вот она где объявленная большевиками «свобода совести»: отца многодетной семьи большевики расстреляли за то, что он переписывал от руки и раздавал людям молитвы. Причем, как свидетельствует протоиерей Михаил Труханов, и сам попавший в ГУЛАГ лишь за чтение Библии, очень многие оказывались здесь именно за веру. И вот какая дикая смертность была в лагерях. В Унжлаге:
«В конце 1941 г. на 123-м лагпункте — и весь 1942 г. до марта 1943 г. на 18-м лагпункте — умирало не меньше 60 человек в сутки, а в отдельные дни умирало до 90 человек» [537] (с. 122).
А таких лагерей по стране?
Сотни. То есть если один такой лагерь в год по 60–80 тысяч человек «сжирал», то по всем лагерям советской страны в этот год умерли миллионы мужчин! И все это не военные потери — это большевицкий удар в спину нашим сражающимся на фронте армиям! Кто еще и здесь занимался вредительствами и ответил ли он впоследствии за свои преступления?
И вот как достигались эти страшные потери. Изголодалых, замученных непосильной работой людей, имеющих на теле гнойные нарывы и вспухшие от водянки ноги, в санчасть бросали вовсе не лечиться, но исключительно умирать. Отец Михаил Труханов свидетельствует:
«нас ничем не лечили» [537] (124).
Но ведь и нечем было: людей сюда не работать присылали, а сгноить до смерти — ведь у лагерных врачей для лечения больных не было не только вообще никаких лекарств, ваты, бинтов, но даже йода…
У людей гноились раны, и они умирали: по 60–90 человек в день.
Но все когда-то заканчивается. Закончилась и война. И что же? На волне эйфории победы произошло ли узникам советских лагерей смерти хоть какое-либо послабление?
Фридман Ю.А., работавший до своего ареста в Наркоминделе и прекрасно разбирающийся в стратегии политики большевиков, вот что сказал в тот момент своим сокамерникам, тщетно надеющимся, что с концом войны придет и конец их жесточайших мучений:
«Ничего не изменилось. Все будет впредь, как нынче есть. Изменения в стране бывают, когда в правительство приходят новые люди с новыми взглядами. У нас этого нет. Наше правительство — коммунистическая партия пролетарского авангарда. Если мы, по ее классификации, отнесены к врагам, то нам и впредь нечего ждать перемен в нашей участи. Врагов надо уничтожать, физически уничтожать! При этом извлекать максимум пользы из труда врагов народа — до их полного физического истребления» [537] (с. 147).
То есть уничтожение десятков миллионов людей в советских концлагерях — это вовсе не чьи-то перегибы на местах — это всеобщая стратегия партии и правительства в отношении людей, заподозренных во враждебности к человеконенавистническим канонам большевизма. Большевики объявили этих людей своими врагами, а потому столь жестоко и истребляли теперь. И даже тогда, когда столь напряженно ведущаяся война закончилась победой.
Причем, в еще худшем положении оказывались те люди, чудом выжившие в лагерях, которых, наконец, освобождали от подневольного труда. Их определяли на поселения в Сибири. Причем, работа предоставлялась им только такая, которой, оставив свое здоровье в заключении, они здесь, вроде бы как уже и на свободе, просто не выдержали бы. А потому, предоставленные самим себе, но оставшись безработными, обязаны были теперь умереть от голода и холода на свободе. Об этом сообщает протоиерей Михаил Труханов, который попал вот в такое же положение после своего освобождения. У него был период, когда средств к существованию просто не оставалось никаких. Но и не только у него у одного:
«Как-то две женщины пришли к коменданту и стали ему жаловаться: “Вот, мы обезсилели и работать в леспромхозе уже не можем, а по нашим силам работы здесь нет. В лагере мы имели крышу над головой, пайку хлеба и баланду ежедневно. А здесь за угол хозяйский платить надо, а денег нет. Заберите нас, просим вас, отправьте опять в лагерь; там мы можем хотя бы дневальными в бараках работать. Нам по 53 года. Мы ходим с отеками на ногах”» [537] (с. 242–243).
Чекисты же им могли ответить только то, что они враги. А врагов по большевистским меркам требуется уничтожать. Сколько миллионов русских людей погибли еще и здесь, вроде бы уже и получив эту столь долгожданную свободу?
Док. 39
Валова Елизавета Васильевна родилась в 1917 г. в д. Андреевка Щегловского района нынешней Кемеровской области Рассказ записала Пикунова Наталья в 1999 г. (г. Березовский)
Семья наша состояла из девяти человек: тятя, мама, четыре сестры и три брата. Отец умер рано. Мы росли сиротами. Потом братья поженились, а сестры повыходили замуж. Остались мы с младшим братом и мамой. Но не голодали. И деньги у нас с мамой водились: выращивали поросят, возили их на Кемеровский рудник. Продашь, и себе что-то купишь. Не сказать, что всего вдоволь было. Но мы были и обуты, и одеты. Хозяйство наше было не хуже, чем у других. А потом наступил 1931 г. Начались колхозы. Тогда у людей все отбирали, их хозяйства разоряли, а самих отсылали в Нарым. Ни один из них не вернулся. Даже писем от них не было. Разорили и наше хозяйство. Оставили нам лошадь, корову, штуки две овечки, несколько куриц. Нас не спрашивали, хотим мы или не хотим в колхоз. Иди, и все! Никто не протестовал. Деваться было некуда. Если не хочешь заходить в колхоз, значит, ты идешь против власти, и тебя ссылают. В нашей Андреевке еще до колхозов коммуна образовалась. Тогда нашли 7 кулаков и сослали в Нарым. Но наши деревенские их кулаками не считали. Почитали их как самыми честными тружениками. Они работали, не покладая рук. Их выслали, а из их хозяйств коммуну образовали. При коллективизации эту коммуну к колхозу присоединили. Первого председателя нашего колхоза прислали из города. Я даже фамилию его запомнила Панарин. Его сразу незалюбили. В деревенском хозяйстве он ничего не понимал. Как он начал ездить на коне по паханому полю! Сердце кровью обливалось. Коня было жалко! Одного коня запалил. Второго запалил. Много пил. Осень подошла, собрали урожай, продали. Он все наши деньжонки забрал и уехал. Никто его больше не видел. Все, что на трудодни нам приходилось, увез с собой. И оставил нас на целый год ни с чем. А ведь партийный был! Потом нам из города в председатели стали предлагать других. Но мы стояли на своем. Говорили, что никто нам не нужен, лучше поставим своего рядового колхозника. Так и сделали. Вот тогда нам легче стало жить. В колхозе мы работали с братом вдвоем. Оба несовершеннолетние. Мама уже старая была. Но пенсию, конечно, не получала. В колхозе не было пенсионеров. Рабочий день у нас был ненормированный. Работали с утра до позднего вечера, пока солнце не сядет или пока работу не закончим. Например, на сенокосе не отпускали до тех пор, пока не только сено сгребем, но и в стог его не смечем, и не укроем, как следует. Только тогда запрягали лошадей и везли нас в деревню. За работу нам ставили трудодни. Но с нас часто высчитывали столько, что к концу отчетного года и получать нечего. Осенью на трудодни хлеб выдавали. Его нам едва хватало до Нового года. Да и какой это хлеб! Первоклассный государству сдавали, а нам хлеб второго и третьего сорта доставался. Мясо у нас свое было, а вот хлебушка всегда не хватало. Наш председатель давал нам, женщинам, лошадь, и мы ездили за ним в магазин на рудник. Он от нас был недалеко километров шесть. В магазине хлеба давали только по две булки в руки. Стояли в очереди весь день. Какие копейки с продажи мяса заработаем, у нас их все по налогу забирали. Рудник был рядом. Мы могли бы уехать. Но не было паспортов. Справки, которые мы просили у председателя, нам не давали. Могли бы воровать колхозное добро. Но с этим строго было. Обнаружат в кармане зерно, дадут пять, а то и десять лет. Но друг у друга не воровали. Это было позорно! Даже замков не было. Двери на палочку закрывали, чтобы люди видели, что дома никого нет. Не то, что сейчас. Был у нас в селе только один разъединственный пьяница Шипицын Андрей. Но он тоже работал в колхозе, как все. Школа у нас была только до 4 классов. Я ее и окончила. Открыли вечернюю школу. В нее очень много ходило взрослых. Но это еще до колхозов. А потом, когда в колхоз загнали, учиться ни ребятишкам, ни взрослым уже некогда было. Церковь была в Промышленке. Ходили в нее как на праздник. Бывало, мама настряпает на Пасху, мы с братом пойдем в церковь, стоим всю ночь. Но ее разрушили. Куда иконы делись, не знаю. А из церкви сделали амбар, куда хлеб ссыпали. В колхозе никто не жил справно. Все жили плохо. Даже на ноги обуть нечего было. Нищета была. Мне нечего больше сказать. Да и вспоминать не хочется о такой тяжелой жизни!
Док. 40
Мазурина Матрена Тимофеевна родилась в 1917 г. в д. Демидово-Карповка Мариинского района нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Луконина Светлана в 1999 г. (д. Сокольники)
Во время коллективизации церкви закрывались. У нас в деревне была своя маленькая церквушка. Ее не стало. Сняли колокола и кресты, но саму не разрушили. Церкви использовали под склады, куда ссыпали зерно. Священников ссылали… Рабочий день колхозника был ненормированным. Во время страды работали от темна до темна… Кто опаздывал или не выходил на работу по неуважительной причине, с того снималось сразу пять трудодней. За воровство колхозного добра, за «горсть гороха», судили и давали пять лет тюремного заключения… Кто такие пенсионеры, колхозники и «слыхом не слыхивали». Они даже не знали про такое… Колхозники были в основном неграмотными. Грамотными считались те, у кого было 4 класса образования. А те, кто закончил 7 классов, работали учителями в сельских школах…
Док. 41
Захарова Любовь Григорьевна родилась в 1917 г. в с. Луговом Алтайского края. Рассказ записала Силина Наталья в 1999 г. (г. Прокопьевск)
Мужики работали от зари до зари в поле. Отец был трактористом. Колхозное добро, безусловно, воровали. Сено, скотину. В народе это не считалось воровством. Если, например, своровали зерно или другое что-нибудь, то за это могли расстрелять. До коллективизации все в деревне жили в достатке, все работали. С коллективизацией хозяйство приходило в упадок, жить стало хуже. Стали много воровать, поэтому дома стали закрывать на замок… Моих детей в деревне не осталось, там трудно жить, поэтому почти все поразъехались. В сегодняшней нищете виновата власть и сами крестьяне. Все хотят хорошо жить, но никто не хочет работать… Сейчас, во всяком случае, хуже не стало. Было, конечно, и то, что взамен старых порядков приходили чуть измененные новые. Жили помаленьку. Живем и в годы реформ. Будем жить и после них. Все пережили, все стерпели! Нам не привыкать!
Док 42
Иванова Евдокия Гавриловна родилась в д. Игратовка на Украине в 1917. Рассказ записала Соломыкина Александра в 2001 г. (г. Кемерово)
Когда началась коллективизация, мне двенадцатый год шел. Помню, крик, плач. Всех из дома выгоняли. Ничего взять с собою не давали, кроме того, что на себе было. Сажали на подводы и куда-то увозили. Говорили, что в Сибирь везут. Семья у соседей большая была. Страшно было, когда их увозили. После раскулачивания в деревне сразу тихо стало. Одни собаки выли. Мы все по домам сидели. И никаких вестей от них не было. Никогда, никто их не вспоминал, боялись. И до сих пор никто не знает, что с ними стало. Мы-то бедные были, нас не тронули. Отец добровольно в колхоз пошел. Собирали, говорили, что будет очень хорошо. Ни в чем, мол, не будем нуждаться, ни бедных, ни богатых не будет. Работали мы от зари до зари. Тяжело было, голодно… Тыквы в печке сушили, толкли, пекли лепешки из отрубей. У нас не было даже обыкновенной сковороды. Ничего у нас не было. Буряков натушим, наварим, вот и вся еда. Потом в 33-м году голод стал везде. Пошла я раз в райцентр, в столовой детей беспризорных кормили. Дядька говорит: «Ты что здесь, пойдем еды возьмем». Дали мне манной каши, хлеба кусочек. А он отобрал у меня, и съел, сукин сын. А я стою, смотрю, молчу, плачу. А что скажешь-то? А в 19 лет я замуж вышла. Какая там мебель! Переодеться-то и то не во что было. Радио включили, мы и рады были. Каганец (железная крышечка и жир) коптит весь наш свет. А молодежь-то все равно собиралась веселиться. Вечерки были. Ах, какие были игры, танцы какие были! (смеется). Нет, раньше много не пили, время знали. Вот праздник какой-нибудь отгуляют, неделю гуляют. А как рабочая пора настала, все прекращают. И все лето не пьют, не гуляют. Разве когда зимой выпьют, да осенью, когда свадьбы играют. Церковь у нас не разбили сразу. И то! Ведь помолишься, чище станет. Разобрали ее уже позже, амбар из нее сделали. В школу я ходила недельки две, потом дочка родилась. Читать так я и не научилась, писать только простые слова. А те, кто 3 класса имел, это уже шибко хорошо было. Такие чинами работали уже. Ох, и врагов народа помню. Уже дети у меня были. Пришел как-то сосед с работы. Подошел «воронок» и забрал его. Взяли — и с концами. И с тех пор его не видали. Приписали ему злодейство. Дескать, клади сжег. Во всех деревнях сажали людей. А уехать никуда нельзя было, документов не было. Человеку справку давали. А когда война началась, ох, ох! У нас уже в августе был немец и три года толокся. А ведь мы работали на него. И вот теперь справку взять не могу о работе во время войны. Не знаю где взять. Пишу, все молчат. А после войны жить не лучше стало. А налоги какие большие были! На корову налог сдать теленка, 4 кг масла, 400 л молока. Потом пошли эти облигации. Деньги с нас выжимали. А сколько детей в войну погибло! В 14 лет всех увозили. Куда? А Бог их знает. Кого в Германию. Кого на Урал или Сибирь. Уж и не знаю, куда лучше. Тяжелая судьба была у всех. У нас два брата на фронте убило, один умер. Сестра (ей 80 лет) на Украине осталась. Что с ней? Как она? Поехать — не поедешь, и писем нет. Вот так и живем.
Док. 43
Дряхлова Клавдия Дмитриевна родилась в 1917 г. в с. Бондари Тамбовской области Рассказ записал Юрлов Василий в 2001 г. (г. Кемерово)
Из хозяйства у нас имелись только куры и огород, с которого и питались. Мать нанималась еще работницей в зажиточную семью. Наша семья вступила в колхоз сразу же при его образовании, где-то в 1929 или 1930 г. Помню лишь одну зажиточную семью, которую раскулачили. Глава той семьи был очень грамотным человеком. Семья у него была большая, человек 15. Очень трудолюбивая… Говорили, что их увезли в Соловки… Ждали все время лучшего. Но, по правде, мало что изменилось в нашей семье и в других семьях после коллективизации. Хотя колхоз был мощный. Хорошо помнится день, когда пришел первый трактор. Высыпала вся деревня. Удивлялись, как можно пахать без лошади?! Удивления и радости не было конца. Активисты колхозов были из бедняков. Из бедняков был и председатель Михаил... Он был очень справедливый и проявил себя умелым руководителем… А если хороший хозяин, то и колхоз хороший… Люди, которых забирали, как врагов народа, у нас были… В одну ночь забрали сразу 30 человек, словно, по разнарядке. Забрали и председателя сельсовета Селиванова, очень хорошего, культурного человека. Его жену отправили в другое село. Очень мы голодали в 1933 г., питались только супчиком из гречневой крупы. Но семья осталась жива. В 1941–46 гг. тоже очень голодно было, хлеба давали 200–300 г по карточкам на человека в день… Все купленные вещи накапливались годами. Первый холодильник «Саратов» купила в 1975 г., второй — в 1989 г…
«Саратов» — это был очень маленький холодильничек. И даже он — приобретен лишь в 1975 г. Вот так жила в самые лучшие времена Советского Союза приговоренная большевиками к разорению русская деревня…
Док. 44
Бырбина (Салютина) Аксинья Фоминична родилась в Курской области в 1917 г. Рассказ записала Станкус Наталья в 2001 г. (Кемерово)
У моих родителей было 14 детей. В живых осталось только четверо: Илларион, Арина, Наталья и Аксинья. Коллективизация у меня ассоциируется с нищетой и грабежами. Семья наша имела 14 коров, много лошадей, овец, кур. Все было нажито собственным трудом членов семьи. Во время коллективизации отобрали скот, забрали из дома все съедобное. Кулаки — это трудовики, а бедняки, в основном, лентяи. После раскулачивания семью отправили в Алтайский край в село Просладуха. С собой разрешили взять только кое-какую одежду. В дороге умерло трое детей. Отношение односельчан к раскулачиванию было различным. Кого раскулачили, те плакали, а некоторые даже кончали жизнь самоубийством... Когда приехали в Сибирь, вырыли землянку и несколько лет жили в ней. Но и здесь людей стали сгонять в колхозы. Мы к тому времени уже имели корову, лошадь, теленка, амбар с зерном, землю. Все отдали в колхоз. Мы уже знали, что может быть, если не сдашь добровольно… Люди во все времена живут по-разному. Но лично мы одевались и жили лучше до коллективизации. Тут и говорить нечего. В наше время трудно было тем, кто считал себя по-настоящему хозяином земли. Человек привыкает ко всему. Прошли годы. Люди постепенно привыкали к новому образу жизни. Но крестьянам и колхозникам трудно было всегда. Рабочий день колхозника весь световой день. Оплата их труда исчислялась трудоднями. По трудодням колхозники получали зерно, которого не хватало для того, чтобы прокормить семью. Поэтому были случаи, когда воровали колхозное добро (сено, зерно, поросят). Я была дояркой. Бригадир следил, чтобы доярки не пили молоко. А мы пили, так как были всегда голодны. Колхозники это не считали воровством. В доколхозной деревне крестьяне жили намного лучше. И, кроме того, они все время верили в Бога и помнили заповедь «не укради». Поэтому и замков на домах в доколхозной деревне не было… В деревне врагами народа считались люди, которые были не согласны с колхозным строем. Это люди были смелые, не боявшиеся того сурового времени 30-х годов. В то время достаточно было только ложного доноса, чтобы человека забрали как «врага народа». Я помню, как забрали нашего соседа Анисимова Егора. В стране в 30-х годах был голод и очень сильный. У колхозников забирали буквально все, что можно было есть. Люди пухли от голода, ели лебеду. Мой отец, Фома Романович, в 1933 г. умер от голода. Этот страх голода я пронесла через всю жизнь. Если сейчас в доме вдруг кончается хлеб, я тут же посылаю кого-то из домочадцев за хлебом. И на стол я первым всегда ставлю хлеб. В сороковых годах тоже было голодно. Мужчины ушли на войну. Многие погибли. Полстраны было в руинах. Украина, Белоруссия заняты фашистами, да еще и неурожай. Все это сказалось на нехватке продуктов питания. Но голод 31–33 годов был намного страшнее… Колхозникам разрешалось иметь свое подобное хозяйство, но оно облагалось большими налогами. Если колхозник держал кур, нужно было сдать определенное количество яиц. Держал корову — сдавал молоко, держали овец сдавали шерсть… В деревнях с начала века были построены церкви. Но коммунисты превратили их в зернохранилища и школы. Однако люди не утратили веру в Бога. В 30–40-х годах люди были до того напуганы политикой партии, что о Сталине говорили только хорошее. А если что-то не нравилось, говорить об этом было опасно. Иначе можно было прослыть «врагом народа», а это значит, — сталинские лагеря на многие годы. В том, что деревня до сих пор не может выбраться из нищеты виновато правительство, советская власть. За свою почти 50 летнюю трудовую жизнь я ни разу не была на курорте. Холодильник купила через 40 лет после свадьбы.
То есть это, как минимум, 1975 г.! Вот только к какому времени русский человек смог покуситься на такую неслыханную в русской деревне страны социализма «роскошь» — холодильник…
Причем, что люди три года в советской стране еще задолго до войны жили в землянке — вовсе не является каким-то исключением:
Даже в 1933 г., то есть через 4 года после начала великой стройки, 57% строителей Кузнецкого металлургического комбината жили в землянках [538] (с. 279).
Такой вот большевики устроили в своей стране «рай»…
Приложение (архивные документы):
«Выписка из постановления Объединенного заседания Киселевского РК ВКП(б) и Райсполкома “Об обязательной поставке яиц государству колхозами, колхозниками и единоличниками” 29 марта 1941 г. г. Киселевск. [ ] В соответствии с постановлением Обкома КПСС и Облисполкома от 25 марта 1941 года “Об обязательной поставке яиц государству” Райком ВКП(б) и Райисполком постанавливают: Установить для всех колхозов района одинаковую норму обязательной поставке яиц государству по 7 штук с одного гектара пашни. Установить средне-годовые нормы обязательной поставке яиц государству колхозами в 1941 году в размере 70% от нормы, установленных настоящим постановлением с тем, чтобы начиная с 1942 года применялись нормы установленные в пункте 1 настоящего постановления одинаковые для всех колхозов. Установить начиная с 1941 года для всех колхозников и единоличников района годовые нормы обязательной поставке яиц государству колхозными дворами 100 штук и единоличными хозяйствами 130 штук. Обязать зав. райно тов. Горбач и всех представителей колхозов полностью укомплектовать птицефермы в соответствии с утвержденным планом с таким расчетом, чтобы план яицпоставок каждым колхозом был выполнен в установленные правительством сроки. Рекомендовать правлением колхозов сдавать в счет яйцепоставок уже имеющие яйца в порядке аванса. Секретарь Киселевского Райкома ВКП(б) подпись П. Смирнов. ГАКО. Ф. П-208. Оп. 1. Д. 4. Л. 116.
Подлинник.
Машинопись. Лексика и орфография документа даны без изменения» [532] (с. 169–170).
Док. 45
Ляшенко Полина Степановна родилась в 1918 г. в с. Васильки на Украине. Рассказ записала внучка Курбатова Евгения в 1999 г.
Семья наша была большая… Нравы в семье были строгие, с самого детства девочки много работали, помогая по дому и в поле. Жили не бедно, но и не в роскоши. Имели несколько лошадей, коров, овец, свиней, домашнюю птицу. Дом у нас был большой и справный. Работы в таком хозяйстве хватало всем. Мне было лет семь, когда отец стал меня будить рано утром, чтобы я подоила коров. Село наше было большое. В нем жили разные люди — и богатые, и бедные. Я хорошо помню, что деревенская беднота чаще не богатела именно потому, что предпочитала работе пьянку да болтовню. А работящие — кулаки да середняки — им были не по нутру. Позже, когда в селе организовали колхоз, мой отец, Степан Ляшенко не пожелал в него войти. Он был середняком и не хотел гнуть спину на кого-либо, кроме себя и своей семьи. Потому и пострадал. Сначала раскулачивали самых богатых людей села кулаков. Оставляли им только чуть-чуть еды да кое-что из одежды. Сажали в вагоны и куда-то отвозили. Потом беда пришла и за середняками. Семья Ляшенко оказалась в их числе. Летом 1930 г. к нам во двор пришли какие-то военные во главе с председателем колхоза. Имущество описали до самого последнего гвоздя. Сказали, что нам предстоит дальняя дорога и разрешили взять немного одежды да хлеба. Мне тогда было 12 лет. А самой младшей из сестер, Верочке, — 2 года. Отца моего отправили в лагерь на Север. А нас с мамой куда-то долго везли в товарном вагоне. Это была страшная дорога. Нам практически не давали ни еды, ни воды. Маленькая Вера заболела дизентерией и умерла. Остальные доехали до маленького шахтерского поселка, который в 1936 г. стал городом Киселевском. Сначала об отце мы долгое время ничего не слышали. Лишь в конце тридцатых годов он приехал к нам в Киселевск весь больной. К тому времени мама умерла, заболев скоротечной формой туберкулеза. Мы остались одни в чужом городе, без родни, без друзей. Старшие пошли работать, добывать младшим кусок хлеба. Я сначала нянчила детей, убирала в домах за гроши или какую-нибудь еду... Когда мне исполнилось 16 лет, пошла работать на шахту. Работала много. Стала получать кое-какие деньги… Работая на шахте, училась на вечерних курсах бухгалтеров, закончила их с прекрасными результатами. Стала работать в бухгалтерии своей же шахты — сначала младшим бухгалтером, потом доросла до начальника отдела. За это время, конечно, произошло и множество других событий, одно из самых страшных — это война. Мой друг, Яша, с которыми мы стали встречаться незадолго до войны, одним из первых добровольцем ушел на фронт. До сих пор сохранились несколько фронтовых треугольничков от того молодого парнишки, который потом стал отцом твоей мамы и твоим дедом. В войну пришлось несладко. Помимо работы в бухгалтерии, работала на заводе, делала снаряды для фронта. А после работы еще ходила дежурить в госпиталь. Спать практически не приходилось. Домой не приходила неделями, прибегала только, чтоб вынуть из почтового ящика весточки от Яши. Муж моей старшей сестры Марии тоже воевал. Ему посчастливилось вернуться домой. Также как и моему Яше. Скромную свадьбу сыграли сразу же после войны. В 1946 г. родилась дочь Александра, в 1948 г. дочь Татьяна, твоя мама. Жить было трудно, но всегда была вера в лучшее: война кончилась, все должно быть хорошо, будет людям счастье на века! Хотя после войны еще долго получали хлеб по карточкам. А одежда стоила огромные деньги. И после войны приходилось очень много работать… Сначала жили в комуналке, потом заняли эту же двухкомнатную квартиру целиком. Причем, обе наши дочери с семьями жили с нами, так как не могли получить собственные квартиры. Однако детям мы постарались дать образование, закончить институты. На курортах отдыхала, но очень редко. Теперь вот за раскулачивание, постигнувшее нашу семью, я получила прибавку к пенсии. Там еще какие-то льготы. Это государство таким образом пытается загладить вину перед нами. Но разве этого достаточно за разбитое детство, погибших близких, нечеловеческий труд и слезы?!
И сколько же загублено еврейскими большевиками маленьких русских детей, которых неделями не только не кормили, но даже и не поили, брошенных в холоде умирать раздетыми в вагоны для перевозки скота?! И сколько матерей поседело от безсилия чем-либо помочь своим умирающим малюткам (дети ясельного возраста погибали практически все)?!
И после всего вытворяемого большевики, набравшись наглости, нас баснями еще кормят про детские пионерские лагеря, дома отдыха и санатории! Какая же подлость содержится в этом страшном человеконенавистническом режиме, так нагло вравшем нам всю нашу жизнь! Ведь только сегодня обнаруживается, что люди молчали о тех страшных временах вовсе не потому, что времена были радостными и радужными, в созвучии бравурных маршей, передаваемых по радио и тиражируемых в кино. А потому что лишь за нечаянно оброненное слово о творящемся в то время в стране чекистском безпределе людей забирали в неизвестность, откуда они уже никогда не возвращались. Причем, уже и в 60-е и вплоть до конца 80-х эти массовые убийства «говорунов» так и продолжались. Но чтобы сделать это незаметнее, их просто заменили дурками, где людей закалывали насмерть или делали из них идиотов. Потому-то говорить о том что здесь творилось боялись вплоть аж до начала 90-х годов! Но ведь и сказано было тогда в средствах массовой информации только о евреях, то есть о палачах, погибших в 37-м. О многомилионных потерях русских людей пропаганда предпочла отмолчаться и тогда: Коротичи надсадно выли о разнесчастных детях Арбата, то есть о переселившихся в Москву из западных малорусских местечек евреях, у которых руки по локоть были в русской крови...
537. Труханов М.В. протоиерей. Воспоминания: первые сорок лет моей жизни. «Лучи Софии». Минск, 2010.
538. Красильников С.А., Кузнецова В.Л., Осташко Т.Н., Павлова Т.Ф., Пащенко Л.С., Суханова Р.К. Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 г. начало 1933 г. Новосибирск, 1993.
Алексей Алексеевич Мартыненко
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"











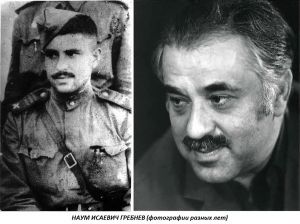





































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев