Даже после захода солнца, когда идешь домой по ночному присмиревшему полю, даже в эту пору снуют над головой и плачут боязливые чибисы. В полевых ложбинах заметно копится туман, все поле звенит кузнечиками, словно сама трава остекленела и звенит без ветра, и хорошо идти домой мимо этих ложбинок и звенящих луговин, хорошо ступать по мягкой дерновой дороге.
О чем так печально кричат чибисы? Они ничегошеньки не понимают, эти полевые птицы с хохолками на головках, они все кричат и летают над тобой и думают, что уводят тебя все дальше от своих гнезд. Но разве страшны для них пропахшие солнцем и высыхающей травой девичьи руки?
В доме светло, будто ночь еще не пришла, а только дохнула легонько из-за рощи. Под лавками и за печкой словно кто-то притих, а на столе таинственно и музыкально-тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве! Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги, потом самовар тихонько прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, не спетую еще песню и самую первую песню, которую ни за что не запомнить, так она хороша и так неуловима в этих сумерках.
Со двора приходит с подойником в руке мать. Она в сенях, за открытыми дверями разливает молоко, и слышно, как оно домовито журчит, и кот тяжело спрыгивает на пол, бежит, несмотря на старость, канючит, просит теплого молока. Поет самовар. Недопита чашка чая, босые ноги бесшумно ступают по мягким половикам.
— Мама? Ну, что мне с тобой делать? Говорила ведь, чтобы до меня не обряжалась. Я бы сама подоила…
— Ой-ей-ей! — словно не слыша упрека дочери, притворноплачущим голосом говорит мать. — С горушкой налила молока-то. Иди, прохвост, лакай.
Кот пристроился к молочной лужице. Мать запирает ворота, моет подойник оставшимся в самоваре кипятком, ошпаривает вытащенную из рыльца подойника вересковую веточку.
— Люба, а Любушка? Шла бы, милая, спать, время-то вон уже сколько накачало.
В окошко сенника, затянутое марлей, просочился комар. Он летает где-то в темноте, его жалобный звон то приближается, то удаляется, и под этот звон подступает к изголовью усталая ласка сна. Люба засыпает с улыбкой. Последние впечатления яви перешли в сон, и дождевые капли упали на крышу одна за другой и оборвались, словно многоточие на странице хорошей книжки.
Под утро над полями и рощей угасли последние вспышки зарниц. Спят деревни, спит холодная дымящаяся речка. Далеко в лесу призывно заржала лошадь, потерявшая из виду жеребенка, сонно пробарабанил в ответ ночной пастух. Тихо в деревне, но тишина эта не живет в девичьем сне. Снится Любе большой многолюдный праздник, где переливается множество девичьих лент, откуда-то издалека летит непонятная волнующая музыка, мелькают незнакомые и как будто знакомые лица и будто бы Люба вглядывается в эти лица, ищет и ждет кого-то, но никак не может найти и дождаться. Она бежит на непонятную музыку, ей не хватает сил, она все глядит в толпу, сердце у нее словно остановилось, вот уже близко, сейчас, сейчас она увидит кого-то, и все будет хорошо, все плывет перед глазами, вот что-то мелькнуло. Ой, только скорее бы, ей жарко, она задыхается и вдруг просыпается от сладкой тревожной боли, с минуту лежит, не двигаясь, словно задерживая счастливый, но исчезающий сон.
Она сдернула марлю с окошечка, и в сенник ударил широкий сноп света раннего утра. Сон прошел, но ощущение сна осталось, и все так же тревожно и сладко таится что-то в груди. Что ей снилось? Праздник? Много народу? Нет, это не то, было что-то другое.
Она торопилась куда-то, хотела что-то увидеть, что-то мелькнуло, потом все исчезло. Но что она хотела увидеть и кто мелькнул? Нет, лучше не думать, и она, одеваясь, старается думать о другом, но волнение и радость, испытанные и пережитые во сне, остались и перенеслись в будничную явь.
* * *
Далеко во все стороны раздвинулось и дрожит от жары небо. Мглистая синева, лиловая по бокам облаков, заслонила полсвета, и солнце плавает в ней с утра до вечера, а ветер вздыхает на зеленой земле. Пошевелит траву, поканителит голубую воду в реке, потом вдруг бережно опахнет лицо прохладным неуловимым касанием.
Давно уже, нелепо задрав на спину свои хвосты, прибежали в деревню коровы, стоят в холодке большого старого хлева, а вокруг хлева, на жаре, летают оводы.
По деревне бродят за петухом курицы либо лежат в горячей, как зола, дорожной пыли. А петуху жарко и даже лень орать. Пахнут теплом хлебные клоны у дороги. Осока у моста притихла, когда фура с навеянной рожью простучала по настилу и остановилась.
Люба подвязала вожжи к тележному передку, поглядела из-под руки на солнце. Потом она спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде. Тут, у самого моста, река раздваивалась, и край тростникового острова прятался под самым мостом.
— Ой, как пить хочу, умираю! — Агнеюшка тоже сбежала к реке, скинула башмаки, не стыдясь, заголила белоснежные ноги.
Подружки побрызгались немного и присели на большой камень под мостом.
— Жарко, Агнеюшка…
Люба, нежась, прислонилась щекой к Агнейкиной.
— Знала бы ты, какой сон мне ночью сегодняшнею приходил…
— Опять, наверно, города всякие. Ой, Люба, и чего ты все задумываешься?
— Я и не задумываюсь…
— Нет, задумываешься. Чуть немножко, так и задумываешься. А я вот не задумываюсь, а возьму да наревлюсь досыта, и все. Опять потом хохочу целую неделю. — Агнейка болтанула ногой в воде, напевая другим голосом:
Это, девушки, не озеро,
Не озеро — река.
Это, девушки, не парень —
Половина дурака.
И выбежала на травяной берег, буравя коленями прозрачную воду.
— Люба, гляди-ко, ухажер-то наш идет, вырядился, как на смотрины.
С того конца моста вышагивал в ботинках и клетчатой рубахе Африха. Он плюнул через перила, поздоровался за руку с Агнейкой и Любой, переступая с ноги на ногу.
— Чего, фуру возите? — спросил он.
— Фуру, — сказала Агнейка. — Ты разгуливаешь, а мы за тебя возим. Чего вырядился-то?
— В сельсовет ходил насчет справки.
— Я думала, ты расписываться ходил.
— Агнейка! Намну дуру!
— Думала, вот напляшемся с Любкой на Афришкиной свадьбе.
— Намну!
— Думала…
Африха кинулся к Агнейке, обхватил ее за поясницу. Агнейка завизжала, но не успела опомниться, как была уже на траве, и Африха деловито комкал ее и жамкал, потом, довольный, отступился. Агнейка запыхалась, но как ни в чем не бывало тут же спрыгнула на ноги. Лицо ее разрумянилось еще больше.
— Думала…
Африха сделал движение в ее сторону, и Агнейка опрометью бросилась от него, потом опять подошла близко.
— Любка, хоть бы ты заступилась.
Африха покосился на Любу, закурил.
— Да, чуть не забыл. Вам с Агнейкой липинские девки записку со мной послали. Зовут сегодня на гулянку. Меня звали, да я сказал, если наши девки пойдут, так и я пойду. Сходим, что ли?
— Люб, пойдем, а? — подскочила Агнейка. — Давно уже в Липине я не бывала. Может, и Заболотские придут.
— Это точно, — поддержал ее Африха, — Заболотские со своей гармонией обещались.
— А что заболотские-то? — Люба обернулась к Африхе. — Я ни липинских, ни заболотских не видывала. А матюкальных частушек так и дома наслушаемся.
— Нате записку-то, — сказал Африха, — вы как хотите, а я пойду и один. Заходите, ежели надумаете.
И Африха пошел к деревне по-над канавой, тропинкой, обросшей подорожником. Люба развернула записку. На листке из школьной в клеточку тетради было написано приглашение приходить к таким-то часам в Липино, к такому-то дому.
— Сходим, Агнеюшка?
Агнейка запрыгнула на телегу, отвязала вожжи, протараторила:
— Можно мне твои белые босоножки обуть?
2
Лесными теплыми покосами, через песчаные ручьи и брусничные горушки, то раздвигаясь, то вновь сливаясь, льнет к земле липинская дорога. Раза два за лето проедет кто-нибудь по ней на двухколесной телеге, спугнет тяжелых на подъем глухарей, и вновь явственно обозначатся две колеи и тропа посередине.
Что для молоденьких ног восемь веселых километров?
Босиком, с завернутыми в газету босоножками бежит впереди всех крепконогая Агнейка, шлепает комаров и нагибается иногда, чтобы обруснуть красную капельку земляники. На Агнейке черная новомодная юбка и красная кофточка, жакетку она погрузила на Африху. Африха где-то отстал, чтобы вырезать ивовый батожок, а может еще по какому делу.
За лесом уже садится солнце. Пахнуло сухим сеном, потом разогретым за день малинником, потом смолистой еловой поленницей.
Люба чуть подобрала свою тоже черную юбку, когда переходила усохший ручей. Комары так и налетели. Выдумщица Агнейка, передразнивая Африху, запела ребячьи частушки:
Запевай, товарищ, песенку
Веселым голоском,
Чтобы слышали сударушки
За темным за леском.
Голос у Агнейки приятный, особенно в лесу, когда песня отдается в сухом сосняке.
Мы с товарищем ходили
За реку по мостику,
Двух девчонок завлекали
Небольшого ростику.
Солнышко совсем спряталось, трава чуть отмякла, и комары налетели еще гуще.
— Ой, всю искусали, — допела частушку Агнейка и — снова ребячьим голосом:
Все курил, курил махорочку,
Тепере папирос,
У милахи носу не было,
Сево году прирос.
Позади, за поворотом откликнулся Африха:
— Девки! Тут напрямую можно, ближе намного!
Сшибая на ходу шляпы маслят, он догнал девушек, подал Агнейке жакетку.
Свернули на прямую тропу, которую знал Африха. Он шел, дымя папиросой, махая красивым ивовым батожком. Вокруг батожка вилась белая полоса вырезанной коры. Африху вроде и комары не кусали.
Тропа вывела на скошенное стожье. Посередине стожья стоял набитый сеном сеновал. За ручьем была поскотина, дальше белел туман большого липинского поля. Когда вышли к реке, Африха прислушался. Со стороны деревни никаких звуков не слышно было. Люба спустилась к воде, чтобы помыть ноги.
— Стыд-то какой. Всех раньше пришли, — проговорила она, но в деревне вдруг сначала тихо, потом громче взыграла гармонь.
Агнейка так вся и переменилась.
— Африш, ну-ка отвернись, да смотри не оглядывайся.
— Подумаешь, прынцесса, — Африка сел на луг, равнодушно отвернулся, закурил, пока Агнейка и Люба надевали чулки.
Туманом густо заволакивало реку, кричал дергач. Гармонь в Липине вдруг затихла. Но Люба знала, что затихла она не надолго, был как раз тот момент, когда в деревне из дома в дом перебегали девушки, а ребята всем гуртом сидели у кого-нибудь в избе. Пройдет минут пять, и мальчишки, играющие на улице «в муху», остановят игру и завистливо замрут, глядя на старших.
Улица словно расцвела, от посада до посада. В ночных сумерках зачернели ребячьи фигуры, и гармонист играл так хорошо, что у Любы вдруг дрогнуло что-то в груди. У Агнейки тоже. Из поля, с другого конца деревни, шли заболотские. Они сначала прошли по всей деревне. Липинские ребята почтительно уступили им улицу. Заболотские вернулись на средину, остановились у большого опушенного дома. Пока ребята здоровались, девушки охорашивались в сторонке под черемухами.
В большом ребячьем кругу сгрудилось много людей, и Люба с Агнейкой подошли туда. Гармонист был тот же самый, он торопливо загасил о каблук папиросу и надел на плечо ремень. Плясать пошли двое Заболотских ребят, а в это время в другом кругу плясали липинские девчата под игру своего гармониста: Африха подался к тому кругу, а Люба с Агнейкой остались. Люба закрыла глаза на секунду. Гармонь часто вздыхала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах, говор людей сливался в один постоянный звук, было тепло и тревожно, как в минувшем сне. Она открыла глаза и вдруг замерла от волнения: прямо на нее обернулось темнобровое лицо незнакомого невысокого парня. Он стоял рядом. Отвернулся почти сразу. Люба тоже отвернулась, но вновь тут же ощутила его взгляд, почувствовала, что быстро краснеет, и затеребила платок, не слыша Агнейкиных слов.
— Люба, пойдем плясать, слышь, — торопила ее Агнейка. — Что мы хуже других, пойдем, и все.
Агнейка протолкалась к самому гармонисту, он заиграл потише и на Агнейкин шепот ответил согласным кивком. Но Люба ничего этого не видела и не слышала. Она была словно и не она, как будто было две Любы: одна тут, а другая где-то. Она не смела взглянуть на соседа, а он все стоял рядом.
На круг вышла Агнейка. Все сразу обернулись на нее, статную, живую. Гармонист тоже сменил игру, Агнейка приостановилась и щемящим чистым голосом пропела частушку:
Ой ты, веночка усталая,
Играй тихонечко,
Голосок не позволяет
Песни петь нисколечко.
Круг сразу стал уже от того, что задние хотели посмотреть, все сгрудились теперь около этого круга. Агнейка приостановилась напротив Любы и снова пропела:
Девушки, зима не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не наша воля,
Не полюбишь кого хошь.
Плясала Агнейка всегда хорошо, особенно под настоящую игру. Люба чуть осмелела, хотя по-прежнему что-то сладкое и тревожное румянило щеки. Она подумала, что будь что будет, но Агнейку нельзя подводить, придется выходить на круг.
Запевай, подруга, песни,
Нам никто не запоет,
Невеселое-то времечко
Нескоро, да пройдет.
Выходи, подруга Люба,
На половочку ко мне,
Мы с тобою сиротиночки,
Гуляем-то одне, —
пропела Агнейка и встала на Любино место. Люба вышла на круг. Никогда еще не плясала она при таком народе, никогда ей так легко не дробилось и никогда так не навертывались в ее памяти самые хорошие частушки. Она плясала и видела, как смотрит на нее широкоплечий красивый парень, видела, как он закуривал с Африхой.
Люба прошла последний кружок и вышла с Агнейкой из толпы.
Они тихо пошли по улице. По-прежнему играли две гармошки. Вся деревня притихла, только у двух больших домов было людно, начиналась уже роса. Пропел чей-то петух, заскрипели чьи-то ворота. Люба не слышала, что говорила Агнейка, ей хотелось то ли поплакать, то ли запеть, то ли взлететь с пригорка над белым туманом.
Поет, и жалуется, и смеется веселая Заболотская гармонь, кричат бессонные мальчишки, одна за другой рождаются и умирают в хороводе частушки.
Ой, какая хорошая деревня Липино! А где же это таинственное Заболотье? Это где-то километров за восемь отсюда, еще дальше, и Люба никогда еще там не бывала.
Далеко за полночь гулянье понемногу пошло на убыль, поредел круг, затихла одна гармошка, и Африха подошел к Агнейке, предложил идти домой. Никому бы на свете не сказала Люба о том, как ей хотелось спросить у Афришки, с кем это он закуривал.
А Агнейка как назло всю дорогу говорила про заболотских.
3
Восход за восходом покатилось к осени Любино лето. Отцвела и увяла земляника, прошли сенокос и уборка, закраснела уже и рябина под окнами, а мир все так же, как и в ту липинскую ночь, был полон глубокой сладкой тоски.
Люба все время думала о темнобровом сероглазом заболотском парне. По многу раз на день она глядела в липинскую сторону. Там, где терялась в лесу липинская дорога, стояли два стога и темнела большая островерхая елка. Прежде чем посмотреть на эти стога и елку, Люба оглядывала другие места зубчатого лесного кольца. Оно было однообразным, тянулось далеко и одинаково, пока взгляд не встречался с теми стогами. Тогда Любу снова охватывало щемящее волненье.
Вскоре пошли дожди, и стоги из темно-зеленых превратились в желто-серые, зато ель еще яснее стала выделяться своим сизозеленым конусом.
Волнение охватывало Любу и в то время, когда кто-нибудь при ней упоминал в разговоре Липино и Заболотье, но особенно нетерпеливо билось сердце при виде всего того, во что была одета Люба в тот вечер. Черная юбка и крепдешиновая кофточка лежали в комоде, и Люба часто без нужды вынимала и гладила их. Ходить в них было некуда.
В Липине больше гуляний не собиралось, а в Заболотье не ходили даже ребята. На своих же гуляньях Любе было и раньше не больно весело, а теперь и вовсе стало скучно.
Зато Агнейка бегала каждую субботу, Африха «рекрутился», собирался на службу. Оба они давно забыли про липинскую гулянку. Но даже глуповатый Афришка казался Любе при встречах милым и хорошим, вызывая в сердце то же щемящее волнение, особенно когда закуривал. Ведь они вместе с Заболотским прикуривали тогда от одной спички! И, конечно, они знали друг друга.
Однажды Люба проснулась под утро от радостной горечи хорошего сна. Ей вновь снился тот большой праздник, вновь играла и звала к себе непонятная волнующая музыка, и Люба шла среди большой толпы навстречу серым заболотским глазам, шла, не стыдясь, она видела, знала, что это он, и вдруг проснулась и через минуту беззвучно заплакала. Это было через три месяца после липинского гулянья, когда речка от дождей стала по-весеннему полноводна, по-весеннему же, хотя и не очень рьяно, токовали полевики, и дым из труб шарахался на росу и на грядки.
Была та пора, когда по оголенным лесам свистят рябчики, замирают в еловых лапах сонные вздохи ветра, тихая мгла белеет на всех горизонтах и начинается царственный отдых осенней земли.
* * *
Бригадир еще со вчерашнего вечера направил Любу с Агнейкой копать картошку. К резиновым ботам и к лопатам налипала грязь, пальцы сводило от мокрой стужи. Агнейка, с выбившейся из-под платка косой, сильно вдавливала лопату в землю и выворачивала картофельный куст. Клубни были мелкие, с ржавыми пятнами картофельной коросты. Люба кидала их в корзину и часто разгибала спину. К обеду едва накопали около трех кулевых мешков.
Агнейка присела отдохнуть на мешке.
— Опять Афришки долго нет.
Люба взглянула на подружку.
— А что он тебе, Афришка-то?
— Да так. Он картошку должен возить…
— А вон он идет. На помине, как сноп на овине. Опять куда-то ходил.
Из-за гумна и в самом деле вышел Африха, шелестя дождевиком, сел рядом с Агнейкой.
— Все, девки, — сказал он весело, — забрили, двадцатого в отправку.
Агнейка сначала не поверила, сказала «не мели», потом замолчала, глядя на Афришку уже другими глазами.
— Правда, Африш?
— Ну, что я вам врать буду? Вместе с Костюхой из Заболотья в сельсовет вызывали.
У Любы покраснели щеки и часто заколотилось сердце.
— Из Заболотья? — тихо спросила она. — Какой это из Заболотья.
— Да помнишь, небольшой такой, в Липине еще мы вместе стояли. Мы с ним с одного года. Вместе будем отправляться. Ко мне придет он на отвальную…
— Люб, ты чего, Люб? — Агнейка кинулась к Любе.
…Ничего не видя и не слыша, Люба напрямую без тропинки пошла к деревне. Еще больше все в ней перемешалось, когда она взглянула на приколотый у зеркала численник: на листочке была цифра семнадцать.
* * *
Все эти три дня слились для нее во что-то одно, короткое и счастливое, тревожное и радостное. Каждый день приходила Агнейка. Она перебирала Любины платья и, давно обо всем догадавшись, сообщала новости: Африхина мать заварила пиво и вымыла пол, сам он зарезал к двадцатому ярушку, и на отвальную вместе с Костей придут еще двое липинских.
Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз.
С утра мать ушла на болото за клюквой, и Люба весь день была одна, потом прибежала Агнейка. Она мигом нащепала лучинок, развела духовой утюг.
— Ой, Люба, куда-то у меня голубая лента девалась, весь день ищу, ищу, не пила не ела, а толку нет.
— Да вот же, у меня она, голубая.
Агнейка прискочила от радости и быстро поцеловала Любину щеку. Люба, опустив большие ресницы, медленно заплетала косу. Агнейка подошла к ней, нежно обхватила ее плечи своими белыми от локтей до плеч руками, прошептала на самое ухо:
— Ой, Любушка… Афришка говорит, чтобы я села за столом рядом с ним. А я говорю, если Люба будет с другой стороны, так сяду, а то ни за что не осмелиться… Ну-ко, вся родня будет глядеть. А ну, подумаешь, пусть глядят! Смотри, кто-то идет из отвода.
Агнейка кинулась к окну.
— К Афришке идет. Люба! Смотри!
Но Люба в это время вдруг закрыла лицо руками и встала у шкафа, отвернувшись, как неживая. Она еще раньше Агнейки увидела его. Большим, еще неизведанным счастьем, как горячим летним ветром, опахнуло ее всю до последней кровинки.
* * *
В большой Африхиной летней половине уже собиралась молодежь, когда в зимней половине усаживалась за стол родня и призывники, которые вместе с Африхой уходили в армию. Налили по стопке, но все сидели, пока Африха бегал за Агнейкой и Любой. Он, в новом костюме, уже остриженный и непохожий на себя, вбежал в дверь к Любе:
— Ну чего вы прохлаждаетесь? Одних вас и нету. Люб, дай-ко тарелок и ложек, у нас недостает.
Агнейка завернула тарелки и ложки в полотенце, и все трое вышли из дома. Поднимаясь по ступенькам Африхиного крылечка, Люба услышала застольный говор, услышала гармонь, что играла в летней половине.
Они с Агнейкой вошли в дом вслед за Африхой.
— Во, во! Славутницы наши, честь и место! — радостно зашумел из-за стола Африхин отец.
Он уже был подвыпивший, сразу все задвигались, и Люба, ничего не помня, села за стол. Пока все чокались и шумно переговаривались, она один раз взглянула на Костю, он тоже в это время смотрел на нее, улыбнулся. Люба покраснела, поставила рюмку с красным вином на стол и вся затаилась от счастья, от большой своей радости и волнения.
* * *
В Красну Армию, ребятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока, —
пел Африха, останавливаясь посередине летней избы, и гармонист вновь широко раздвигал мехи гармони, и вновь шел Африха по полу, останавливаясь и чуть притопывая, снова пел:
Не обидно ли тому,
У кого пляшу в дому.
Дрыгай, пол и потолок,
Пляшу последний вечерок.
Переплясал Африха уже со всеми: с отцом, с Агнейкой, с липинскими ребятами. Только Костя не выходил на круг. Он стоял у косяка, не снимая кепки и стыдясь остриженных волос.
Народу набралось много. Сквозь звуки гармони и частушки слышались разговоры и смех, и все это сливалось в один праздничный гул, и кто-то в этом гуле уже заводил столбушку, потом другую.
В кути, за печью, за переборкой в темноте поставлены были скамейки и табуретки, занавешенные одеялами. Люба видела, как Африха с Агнейкой завели еще одну столбушку, в самом темном и тихом месте. Они пошушукались для виду, и вскоре Африха вышел на свет, подошел к Косте, шепнул ему что-то на ухо. Костя боком прошел в темноту. Люба знала, что сейчас, через недолго выйдет Агнейка и велит идти туда, к нему, и тогда будет то счастье, которого так долго ждала Люба, о каком думала всегда и жила для него.
Минут через пять вышла Агнейка. Ласково поглядела на подружку и глазами показала на то место, где ждал Костя. Люба, как во сне, прошла туда, присела на стул. Костя нежно и смело поймал ее горячую руку.
Где-то на свету снова плясал Афришка:
Некрута-некрутики,
Ломали в поле прутики,
Ломали да и ставили,
Сударушек оставили.
4
Наутро выпал снег. Его первородная чистота была похожа на Любину любовь: ни одного пятнышка, ни одной соринки не заметишь на белой крыше Африхиного дома, на улице и везде, куда ни посмотришь.
И вот по этому снегу зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года.
Если бы только на три!
Агнейка и Люба стояли на крыльце и смотрели в поле. Прижавшись друг к дружке, они молчали, думали об одном и том же.
— Пойдем, Любушка…
Агнейка, не осушая своих слез, вытерла платочком побелевшее Любино лицо, смахнула с ее лба прядку от косы.
В прядке крохотными бисеринками поблескивали тающие снежинки.
1963 г.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"




















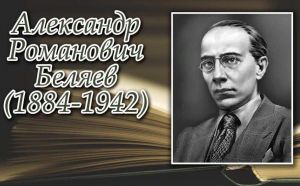








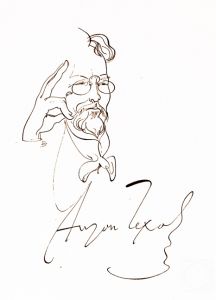





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Виталий Даренский
Виталий Даренский