I
В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные «Ведомости».
— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.
— Неужели?
— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.
В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в час пополудни».
Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел ужи несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была и том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.
«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».
«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».
— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.
— Да что у него, собственно, было?
— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.
— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.
— Что, у него было состояние?
— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.
— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.
— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.
— Вот, не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.
Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.
«Каково, умер; а я вот нет», — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.
Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.
Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.
Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.
У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав, входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич: то ли дело мы с вами».
Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.
Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.
Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.
Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив Широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:
— Сейчас будет панихида; пройдите.
Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:
— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича… — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.
Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!». И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.
— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.
Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд.
Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилий за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.
— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.
— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить… а развлечь, то это — заботы о нем же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:
— Однако у меня дело есть к вам.
Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.
— В последние дни он ужасно страдал.
— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.
— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!
— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.
— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с Нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.
Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.
«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это, очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.
После разных разговоров о подробностях действительно, ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичам (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.
— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.
Петр Иванович вздыхал, и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:
— Поверьте… — и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе: но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.
В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке,[1] Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать — четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого побыло. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.
— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?
— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.
Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладан а, трупа и карболовой кислоты.
— Куда прикажете? — спросил кучер.
— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу. И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.
II
Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.
Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.
Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.
У него было три сына, Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был le phenix de la famille,[2] как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении
Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.
Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе, в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них.
Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «respice finem»[3] простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.
В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.
В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant,[4] как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.
Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: il faut que jeumesse se passe.[5] Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.
Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.
И Иван Ильич стал этим новым человеком.
Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.
Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года
Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя, в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.
Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.
После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.
Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос: «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.
Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.
И Иван Ильич женился.
Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.
Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, de gaitй de coeur,[6] как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.
Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.
С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.
По, мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.
Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать — определенное отношение, как и к службе.
И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятности.
Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог публичность речей; успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — все это еще более привлекало его к службе.
Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.
После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.
Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью всей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, — все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.
Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.
III
Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.
Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.
Летом этого гола для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.
В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.
Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.
На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.
Он ехал за одним; выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.
И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.
Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович бил товарищ и друг Ивану Ильичу.
В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места к своем прежнем министерстве юстиции.
Через неделю он телеграфировал жене:
«Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».
Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.
Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили Петербурге.
Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.
Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, призаказать, еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.
И теперь, когда все устроилось так удачно, и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.
Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел — Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.
В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы. Темное и блестящее, — все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.
— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.
И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны итак много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.
Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь, Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт: но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.
Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгинею Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе»
. Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.
Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.
Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.
IV
Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.
Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.
И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.
После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.
Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.
Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда… и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезней слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.
Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:
— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..
Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания.
— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.
Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.
Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.
— Ну, я очень рада, — сказала жена, — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.
Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.
— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего еще.
Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.
Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.
Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушиванье к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.
Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастие или неприятность… И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.
В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он, видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:
— Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.
— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. — Один раз у Петра Ивановича.
— А вчера с Шебеком.
— Все равно я не мог спать от боли…
— Да там уже отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.
Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.
В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.
Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей, — и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.
Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», — думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.
Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.
И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.
V
Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.
— Что, переменился?
— Да… есть перемена.
И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.
«Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.
— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.
— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?
— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив…
Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее: так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.
— Куда ты, Jean? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.
Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.
— Мне надо к Петру Ивановичу.
Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.
Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.
Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених у дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстановлялась правильная деятельность. «Да, это все так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарствах, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок… Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка? Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и… смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.
«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть, Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.
«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.
Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла.
— Что ты?
— Ничего. Уронил нечаянно.
Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.
— Что ты, Jean?
— Ниче…го. У…ро…нил. — «Что же говорить. Она не поймет», — думал он.
Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.
Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.
— Что тебе, или хуже?
— Да.
Она покачала головой, посидела. — Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом.
Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал; «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.
Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.
— Прощай. Бог даст, заснешь.
— Да.
VI
Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.
В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.
Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера
: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?
И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.
Так чувствовалось ему.
«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»
И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.
И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть, То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от нее . И что было хуже всего — это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нес, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.
И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.
Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину: и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, подосадовал на неряшливость дочери и ее друзей, — то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.
Потом ему приходила мысль весь этот etablissement[7] с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о ней, ее не видно было.
Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг она мелькнула через ширмы, он увидал ее . Она мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?
«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».
Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею, с глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть.
VII
Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.
Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но эта не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.
Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.
Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.
Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.
Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.
Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.
Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошел к судну.
— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.
Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.
— Что изволите?
— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.
— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего же не потрудиться? Ваше дело больное.
И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.
Иван Ильич все так же сидел в кресле.
— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.
Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.
— Спасибо. Как ты ловко, хорошо… все делаешь.
Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.
— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.
Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.
— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.
Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.
— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?
— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.
— Тебе что делать надо еще?
— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.
— Так подержи мне так ноги повыше, можешь?
— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.
— А дрова-то как же?
— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.
Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.
С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.
Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду… была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:
— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.
Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.
VIII
Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?
— Не прикажете ли чаю?
«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», — подумал он и сказал только:
— Нет.
— Не угодно ли перейти на диван?
«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», — подумал он и сказал только:
— Нет, оставь меня.
Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.
— Что прикажете?
— Часы.
Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.
— Половина девятого. Там не встали?
— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?
— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. — Да, чаю… принеси.
Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». — Петр, подай мне лекарство. — «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.
Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!»
Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.
— Да, — сказал он, — чай… хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.
И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало: особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.
Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.
Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».
Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирным, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами. Доктор бодро, утешающе потирает руки.
— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит.
— Ну что, как?
Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»
Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?»
Но доктор не хочет понимать вопрос.
И Иван Ильич говорит:
— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!
— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.
И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукиванья, прослушиванья.
Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.
Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.
Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.
Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее, и прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.
Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.
— Да ведь вот он, не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху.
Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.
Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».
Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.
— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.
Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.
Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального, вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.
Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.
Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали вспрыскиванье, и он забылся.
Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.
После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.
Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.
— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.
— Пускай войдут.
Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.
Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой а la Capoul, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.
За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.
Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.
Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.
Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:
— Нет; а вы уж видели?
— Да, в «Adrienne Lecouvreur»
Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.
В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.
— Однако, если ехать, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали.
Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжело, ничто не легче. Все хуже.
Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.
— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.
IX
Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:
— Нет. Иди.
— Ты очень страдаешь?
— Все равно.
— Прими опиума.
Он согласился и выпил. Она ушла.
Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.
— Уйди, Герасим, — прошептал он.
— Ничего, посижу-с.
— Нет. Уйди.
Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..» Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»
Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.
— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое, он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.
И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его.
— Жить? Как жить? — спросил голос души.
— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.
— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.
Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.
И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смещалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.
Женитьба… так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, эти заботы о деньгах, итак год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвое. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь… И вот готово, умирай!
Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.
«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.
«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: „Суд идет!..“ Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?
Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.
X
Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.
С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменившие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.
Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.
Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.
В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом… слишком больно», — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.
И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже», — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу…» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно, — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть… Зачем?»
XI
Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.
Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде. — Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.
Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.
— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучать?
В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с, него озлобленного взгляда, и под конец сказал:
— Ведь вы знаете, что ничего не поможет, так оставьте.
— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.
— И того не можете; оставьте.
Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.
Доктор оговорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.
Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».
Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.
«А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.
Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.
Жена пришла к нему и сказала:
— Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто…
Он открыл широко глаза.
— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем…
Она заплакала.
— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.
— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.
Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.
Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:
— Не правда ли, тебе лучше?
Он, не глядя на нее, проговорил: да.
Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.
Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:
— Уйдите, уйдите, оставьте меня!
XII
С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.
— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».
Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.
Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.
— Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? — опросил он себя и вдруг затих.
Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.
В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.
«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:
— Уведи… жалко… и тебя… — Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя, — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»
Он стал прислушиваться.
«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».
«А смерть? Где она?»
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!
Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.
— Кончено! — сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.
1886 г.
Примечания:
1. (франц.) антикварный магазин
2. (франц.) гордость семьи
3. (латин.) предвидь конец
4. (франц.) добрый малый
5. (франц.) молодость должна перебеситься
6. (франц.) из каприза
7. (франц.) устройство, сооружение


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"
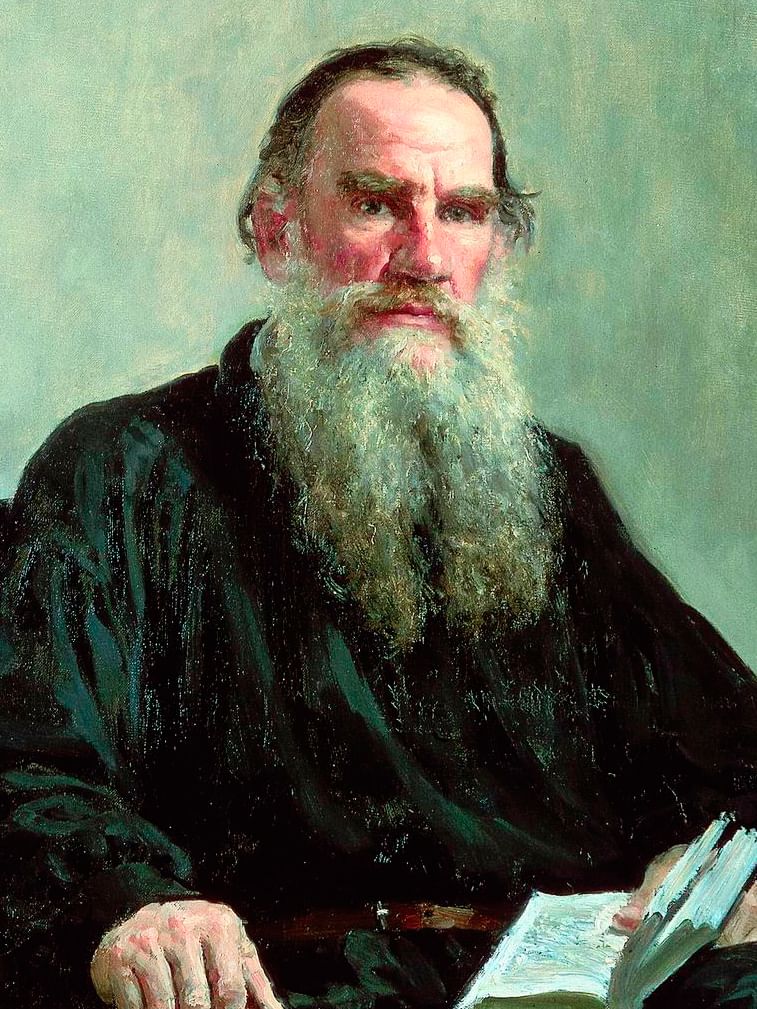



















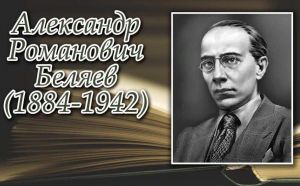








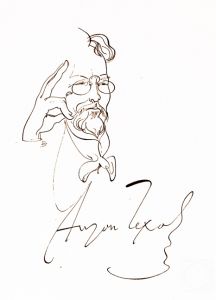


















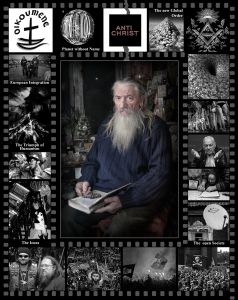









 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Виталий Даренский
Виталий Даренский