Глава 11. Цепи рвём наощупь
Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же дальше?…
Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы — ходили ежедневно на работу с обновлёнными нашими бригадирами (или негласно выбранными, уговоренными послужить общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывчивыми, дружелюбными, заботливыми), мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды — и, кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам-то развод просыпал, а вот вечером любил встретить колонны у вахты и пока топтались тут — пошутить что-нибудь. Он смотрел на нас с сытым радушием, как хохол-хуторянин где-нибудь в Таврии мог осматривать приходящие из степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным воскресеньям. И только по-прежнему донимали постройкой "великой китайской стены".
И всё-таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так оставаться: недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто-то должен был нанести удар.
Но — чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, всё, что хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано в жизни — было сладко!). Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или пойти туда с ней? Нет, конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадёжно, — придумать было нельзя! Мы не могли требовать в своём лагере — ни чтобы вообще изменилась страна, ни чтоб она отказалась от лагерей: нас бомбами с самолётов бы закидали.
Естественно было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые, ни за что данные сроки. Но и это выглядело безнадёжно. В том общем густевшем над страною смраде террора большинство наших дел и наших приговоров казались судьям вполне справедливыми — да, кажется, уже и нас они в этом убедили! И потом, пересмотр дел — невещественен как-то, не осязаем толпой, на пересмотре нас легче всего было обмануть: обещать, тянуть, приезжать переследовать, это можно длить годами. И если бы даже кого-нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, — откуда могли бы мы узнать, что не на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым сроком?
Да спектакль Комиссии разве уже не показал, как это можно всё изобразить? Нас и без пересмотра собираются домой распускать…
На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое унизительное: чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши: чтобы сняли с нас номера: чтобы труд наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ, — а разве там можно было жить?)
А добиваться ли нам 8-часового рабочего дня — даже не было у нас единогласия… Так отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней…
Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми руками мы ничего не сможем против современной армии, и потому путь наш — не вооружённое восстание, а забастовка. Во время неё можно, например, самим с себя сорвать и номера.
Но всё ещё кровь текла в нас — рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, выйти бы с пулемётами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке: если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. На голодовку мы, вроде, имеем всё-таки какое-то право, — а на забастовку? Поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще-опасное и, конечно, контрреволюционное слово «забастовка» стоит у нас в одном ряду с "Антанта, Деникин, кулацкий саботаж, Гитлер".
Так, идя добровольно на совсем не нужную голодовку, мы заранее шли на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. (К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки.)
Мы продумывали и детали такой возможной забастовки-голодовки. Применённый к нам недавно общелагерный штрафной режим научил нас, что в ответ, конечно, нас запрут в бараках. Как же мы будем сноситься между собой? как обмениваться решениями о дальнейшем ходе забастовки? Кому-то надо было продумать и согласовать между бараками сигналы, и из какого окна в какое окно они будут видны и поданы.
Обо всём этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, представлялось это неизбежным и желательным — и вместе с тем, по непривычке, каким-то невозможным. Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы собёрёмся, сговоримся, решимся и…
Но охранники наши, открыто организованные в военную лестницу, более привыкшие действовать и менее рискующие потерять в действиях, чем от бездействия, — охранники нанесли удары раньше нас.
А там покатилось оно само.
Тихенько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах — новый, 1952 год. А в воскресенье 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились славно попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки нас заперли и больше не открывали.
Никто не ждал! Подготовлено было тайно, лукаво! В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту.
Этап?…
Вот и к нам. Надзиратели. Офицеры с карточками. И по карточкам выкликают. Выходи со всеми вещами… и с матрасами, как есть, набитыми!
Вот оно что! Пересортировка! Поставлена охрана в проломе китайской стены. Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят — с мешками и матрасами, как погорельцев каких-то, вокруг лагеря и через другую вахту — в другую зону. А из той зоны гонят навстречу.
Все умы перебирают: кого взяли? кого оставили? как понять смысл перетасовки? И довольно быстро замысел хозяев проясняется: в одной половине (2-й лагпункт) остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет 1-й лагпункт — тысячи три всех остальных наций — русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы, и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии. Одним словом — "единая и неделимая". (Любопытно. Мысль МВД, которая должна была бы освещаться учением социалистическим и вненациональным, идёт по той же, по старой тропинке: разделять нации.)
Разломаны старые бригады, выкликаются новые, они пойдут на новые объекты, они жить будут в новых бараках — чехарда! Тут разбора не на одно воскресенье, а на целую неделю. Порваны многие связи, перемешаны люди, и забастовка, так уж кажется назревшая, теперь сорвана… Ловко!
В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого — БУР. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей, отделить от БУРа подальше. А — зачем так?
Скоро мы узнаём, зачем так. По лагерю идёт достоверный слух (от работяг, носящих в БУР баланду), что стукачи в своей "камере хранения" обнаглели: к ним подсаживают подозреваемых (взяли двух-трёх там-здесь), и стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: кто режет?? Вот когда замысел прояснился весь — пытают! Пытает не сама псарня (вероятно, нет санкции, можно нажить неприятность), а поручили стукачам: ищите сами своих убийц! Рвения им не впрыскивать. И так хлеб свой оправдают, дармоеды. А бандеровцев для того и удалили от БУРа, чтоб не полезли на БУР. На нас больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари — там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой.
Но сколько глубоких историков, сколько умных книг, — а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед.
Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют — не берёт. А искорка одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла.
Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья и крестовины и в полутьме (местечко там полутёмное с одной стороны у БУРа) бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает.
Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда стали их отгибать — и скрежет двенадцатисантиметровых гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё-таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом: одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в каптёрку, кто за посылкой.
Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой стенке, где кипело, — обожглись и — назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или палкой бить стёкла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стёкла!
А вся-то затея было ребят — не восстание поднимать, и даже не брать БУР, это нелегко (ф. 4 — вот дверь экибастузского БУРа, высаженная и сфотографированная многими годами позже), а затея была: через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь — мол, знай наших, не очень-то! Дюжина человек и ворвалась в проломанную дыру БУРовского забора. Стали метаться — которая камера, правильно ли угадали окно, да сбивать намордник, подсаживаться, ведро передавать, — но с вышек застрочили по зоне пулемёты, и поджечь так и не подожгли.
Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский (за ним тоже с ножом погнались, он по сарайной крыше хоздвора бежал к угловой вышке и кричал: "Вышка, не стреляй! Свои!" — и полез через предзонник)[56] дали знать в дивизион. А дивизион (где доведаться нам теперь о фамилиях командиров?!) распорядился по телефону угловым вышкам открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там.)
По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22-го, а по старому — 9-го января, день, который ещё до того года отмечался в календаре торжественно-траурным как кровавое воскресенье . А у нас вышел — кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев.
В темноте наугад стали садить из пулемётов по зоне. Стреляли, правда, недолго, большая часть пуль, может, прошла и поверху, но достаточно пришлось их и вниз, — а на человека много ли нужно? Пули пробивали лёгкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных, — но раны свои им надо было теперь скрывать, в санчасть не идти, чтоб заживало как на собаках: по ранам их могли признать за участников мятежа, — ведь кого-то ж надо выдернуть из одноликой массы! В 9-м бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок: через месяц он должен был освобождаться; его взрослые сыновья служили в той самой армии, которая с вышек лупила по нас.
Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам (ещё надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи наоборот наружу высыпали, возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять — что это, отчего.
Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любознательные и ищущие истины.
И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта — и автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъярённые надзиратели — с железными трубами, с дубинками, с чем попало.
Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся, раненых или ещё целых, и немилосердно били их.
Это выяснилось всё позже, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в полутьме не видели и не понимали ничего.
У входа в наш барак образовалась губительная толкучка: зэки стремились поскорей втолкнуться, и от этого никто не мог войти (не то чтоб досочки барачных стен спасали от выстрелов, а — внутри человек уже переставал быть мятежником). Там у крыльца был и я. Хорошо помню своё состояние: тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к спасению — не спасению. Будьте вы прокляты, чту вы к нам привязались? Почему мы до смерти виноваты перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги заняла грудь спокойствием и отвращением. Даже постоянная моя боязнь за носимые во мне поэму и пьесу, нигде ещё не записанные, не присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне, нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было — главное каторжное настроение, до которого нас довели.
Дверь освободилась, мы прошли последние. И тут же, усиленные помещением, грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк. А четвёртая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе мельчайших трещин.
В бараки за нами преследователи не врывались. Они заперли нас. Они ловили и били тех, кто не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была — тюрьма и следствие за участие в мятеже.
Но всё это узналось потом. Ночью бараки были заперты, на следующее утро, 23 января, не дали встретиться разным баракам в столовой и разобраться. И некоторые обманутые бараки, в которых никто явно не пострадал, ничего не зная об убитых, вышли на работу. В том числе и наш.
Мы вышли, но никого не выводили из лагерных ворот после нас: пуста была линейка, никакого развода. Обманули нас!
Гадко было на работе в этот день в наших мехмастерских. От станка к станку ходили ребята, сидели и обсуждали — как, что вчера произошло; и до каких же пор мы будем вот так всё ишачить и терпеть. А разве можно не терпеть? — возражали давние лагерники, согнувшиеся навек. — А разве кого-нибудь когда-нибудь не сломили? (Это была философия набора 37-го года.)
Когда мы пришли с работы в темноте, зона лагпункта опять была пуста. Но гонцы сбегали под окна других бараков. Оказалось: девятый, в котором было двое убитых и трое раненых, и соседние с ним на работу уже сегодня не выходили. Хозяева толковали им про нас и надеялись, что завтра они тоже выйдут. Но ясно теперь сложилось — с утра не выходить и нам.
Об этом было брошено и несколько записок через стену к украинцам, чтобы поддержали.
Забастовка-голодовка, не подготовленная, не конченная даже замыслом как следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации.
В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, получалось конечно умней. У нас — хоть и не умно, но внушительно: три тысячи человек сразу оттолкнули и хлеб, и работу.
Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали: второй, третий, четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно — нас выгонять, потом мягко — нас приглашать: только пока в столовую за хлебом, а о разводе и речи не было.
Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь нам, бригадирам (я в этот горячий год стал бригадиром), доставалось что-то отвечать, потому что говорили надзиратели всё нам. Мы тоже лежали и бормотали от изголовий:
— Ничего не выйдет, начальник…
И это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и орать под пулями.
Наконец, уговаривание прекратилось, и бараки заперли.
В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили параши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было обществом не голодать. И только врачам и санитарам — работать. Кухня сварила раз — вылила, ещё сварила — ещё вылила, и перестала варить. Придурки в первый день, кажется, показались начальству, объяснили, что никак им нельзя, — и ушли.
И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров между надсмотрщиками — и рабами.
Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону.
Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения.
Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: "умри ты сегодня, а я завтра!" И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить.
В комнатах бараков установилось какое-то торжественно-любовное отношение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого-нибудь, особенно у посылочников, сносился теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и потом по общему решению секции одна пища делилась, другая откладывалась на завтра. (В каптёрке личных продуктов у посылочников могло быть ещё изрядно еды, но, во-первых, в каптёрку, через зону, не было ходу, а во-вторых, и не всякий был бы рад принести свои остатки: ведь он рассчитывал подправиться после голодовки. Вот почему голодовка была испытанием неравным, как и всякая тюрьма вообще, и настоящую доблесть выказали те, у кого не было ничего в запасе и никаких надежд подправиться потом.) И если была крупа, то её варили в топке печи и раздавали ложками. Чтоб огонь был ярее — отламывали доски от вагонок. Жалеть ли казённое ложе, если собственная жизнь может не протянуться на завтра!
Что будут делать хозяева — никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и снова начнётся с вышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоёвывали у них — и горечью безнадёжности веяло от нашей забастовки.
Но в безнадёжности этой было что-то удовлетворяющее. Вот мы сделали бесполезный, отчаянный шаг, он не кончится добром — и хорошо. Голодало наше брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая-то другая высшая потребность. В голодные долгие эти дни, вечера, ночи три тысячи человек размышляли про себя о своих трёх тысячах сроках, о своих трёх тысяч семьях или бессемейности, о том, что с каждым было, что будет, и хотя в таком обилии грудных клеток по-разному должно было клониться чувство, было и прямое сожаление у кого-то, и отчаяние, — а всё-таки бульшая часть склонялась: так и надо! назло! плохо — и хорошо, что плохо!
Это тоже закон не изученный — закон общего взлёта массового чувства, вопреки всякому разуму. Этот взлёт я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чём не жалел. Кобелю вас под хвост, давайте хоть и второй срок!..
На другой день мы увидели в окна, как группа офицеров направляется от барака к бараку. Наряд надзирателей отпер дверь, прошёл по коридорам и, заглядывая в комнаты, вызывал (по-новому, мягко, не как прежде на быдло): "Бригадиры! На выход!"
У нас началось обсуждение. Решали не бригадиры, а бригады. Ходили из секции в секцию, советовались. У нас было двоякое положение: стукачи были искоренены из нашей среды, но иные ещё подозревались, даже наверняка были — как скользкий, смело держащийся Михаил Генералов, бригадир авторемонтников. Да и просто знание жизни подсказывало, что многие сегодняшние забастовщики, голодающие во имя свободы, завтра будут раскалываться во имя покойного рабства. Поэтому те, кто направляли забастовку (такие были, конечно), не выявлялись, не выступали из подполья. Они не брали власти открыто, бригадиры же от своей открыто отреклись. Оттого казалось, что мы бастуем как бы по течению, никем не руководимые.
Наконец незримо где-то выработалось решение. Мы, бригадиры, человек шесть-семь, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству (это были сени того самого барака-2, недавней режимки, откуда шёл подкоп-метро, и самый их лаз начинался в нескольких метрах он нынешней нашей встречи). Мы прислонились к стенам, опустили глаза и замерли, как каменные. Мы опустили глаза потому, что смотреть на хозяев взглядом подхалимным не хотел уже никто, а мятежным — было бы неразумно. Мы стояли, как заядлые хулиганы, вызванные на педсовет, — в расхлябанных позах, руки в карманах, головы набок и в сторону — невоспитуемые, непробиваемые, безнадёжные.
Зато из обоих коридоров к сеням подпёрла толпа зэков и, прячась за передних, задние кричали всё, что хотели: наши требования и наши ответы.
Офицеры же с голубыми каймами погонов (среди знакомых — и новые, доселе не виданные нами) формально видели одних бригадиров и говорили им. Они обращались сдержанно. Они уже не стращали нас, но и не снисходили ещё к равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах — прекратить забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя пайка, но и — небывалое в ГУЛАГе! — вчерашнего дня. (Как привыкли они, что голодных всегда можно купить!) Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о наших требованиях, как будто их не существовало.
Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах.
Из коридора кричали:
— Судить виновников расстрела!
— Снять замки с бараков!
— Снять номера!
В других бараках требовали ещё: пересмотра ОСОвских дел открытыми судами.
А мы стояли, как хулиганы перед директором, — скоро ли он отвяжется.
Хозяева ушли, и барак был снова заперт.
Хотя голод уже притомил многих, головы были неясные, тяжёлые, — но в бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел вслух.
Гадали — как высоко дойдёт известие о нашем мятеже. В Министерстве внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают, — но Ус ? Ведь этот мясник не остановится расстрелять и всех нас, пять тысяч.
К вечеру слышали мы гудение самолёта где-то поблизости, хотя стояла нелётная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто-нибудь ещё повыше.
Бывалый зэк, сын ГУЛАГа, Николай Хлебунов, близкий к нашим бригадам, а сейчас, после девятнадцати отсиженных лет, устроенный где-то на кухне, ходил в этот день по зоне и успел и не побоялся принести бросить нам в окно мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами и потом варили ночью, чтобы не наскочил надзор.
Хлебунов передал тяжёлую весть: за китайской стеной 2-й лагпункт, украинский, не поддержал нас. И вчера и сегодня украинцы выходили на работу как ни в чём не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки и слышат двухдневную нашу тишину, и с башенного крана строительства видят двухдневное наше безлюдье после ночной стрельбы, не встречают в поле наших колонн. И тем не менее — они нас не поддержали!.. (Как мы узнали потом, молодые парни, их вожаки, ещё не искушённые в настоящей политике, рассудили, что у Украины — судьба своя, от москалей отдельная. Так ретиво начав, они теперь отступались от нас.) Нас было, значит, не пять тысяч, а только три.
И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями.
Но когда чекисты, ещё более многочисленные, на третье утро снова вызвали бригадиров в сени, и мы опять пошли и стали, неохотливые, непроницаемые, воротя морды, — решение общее было: не уступать! Уже у нас появилась инерция борьбы.
И хозяева только придали нам силы. Новоприехавший чин сказал так:
— Управление Песчаного лагеря просит заключённых принять пищу . Управление примет все жалобы. Оно разберёт и устранит причины конфликта между администрацией и заключёнными.
Не изменили нам уши? Нас просят принять пищу? — а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем — а конфликт между! — между равными сторонами — администрацией и заключёнными!
Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться — и как же наши душевладельцы изменили тон! Никогда за всю жизнь, не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких елейных речей!
Однако, мы молча стали расходиться — ведь решить-то никто не мог здесь . И пообещать решить — тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв голов, не обернувшись, хотя начальник ОЛПа по фамилии окликал нас.
То был наш ответ.
И барак заперся.
Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри по секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса — уступить. Чего большего мы могли достигнуть в самом деле?…
Мы устали! Мы хотели есть! Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать.
Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь — и промолчали бы её до смерти. Их слушали, конечно, и недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего, на несколько минут обретённого голоса (в нашей комнате — Дмитрий Панин) должны были окупиться потом новым сроком, петлёй на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз делали то, для чего созданы.
Уступить сейчас? — значит, сдаться на честное слово. Честное слово чьё? — тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, — когда ж они выполнили хоть одно своё слово?!
Поднялась давно осаждённая муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу — и уже уступить? В первый раз мы почувствовали себя людьми — и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал нас и познабливал: продолжать! продолжать! Ещё не так они с нами заговорят! Уступят! (Но когда и в чём можно будет им поверить? Это оставалось неясным всё равно. Вот судьба угнетённых: нам неизбежно — поверить и уступить…)
И, кажется, опять ударили крылья орла — орла нашего слитого двухсотенного чувства! Он поплыл!
А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дела нам осталось — думать.
Давно окончились в бараке последние крошки. Уже никто ничего не варил, не делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых наблюдателей, прильнувших к окнам: они рассказывали нам обо всех передвижениях по зоне. Мы любовались этой двадцатилетней молодёжью, её голодным светлым подъёмом, её решимостью умереть на пороге ещё не начинавшейся жизни — но не сдаться! Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной дужке.
Я думаю, что могу уже теперь назвать Янека Барановского, Володю Трофимова.
И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, — наблюдатели крикнули с горячей досадой:
— Девятый барак!.. Девятый сдался!.. Девятый идёт в столовую!
Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам. Через решётки, с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга, мы смотрели, замерев, на это печальное шествие.
Двести пятьдесят жалких фигурок — чёрных и без того, ещё более чёрных против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной покорной униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли — и не хотели за ними. Некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов. А ещё у многих в руках были котелки или кружки — и эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за подаянием, — была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной.
Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их же.
Слово 9-го барака было решающим. Это у них уже четвёртые сутки, с вечера вторника, лежали убитые.
Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц.
Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады, редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались, чтоб не было ещё новых трупов?…
Мы расходились от окон молча.
И тут я понял, чту значит польская гордость — и в чём же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок.
А сейчас — исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул:
— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду!
Взобрался на верх вагонки, отвернулся к стене и — не встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт — и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной Свободы!
Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?
Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу — навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. ("Пир победителей", — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу.) Да ласковые хозяева ещё раз обещали, что все законные просьбы (однако: кто знал и определял, чту законно?…) будут удовлетворены.
А между тем роковая мелочь: некий Володька Пономарёв, сука, все дни забастовки бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, — бежал на вахту . Это значит — он бежал предать и за зоной миновать ножа.
В этом побеге Пономарёва для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но, попав в круговорот революции, они обязательно сподличают. Они не могут понять никаких принципов, только силу.
Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков. Но объявляли, что напротив — приехали комиссии из Караганды, из Алма-Аты, из Москвы и будут разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке, сели чины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили. Записывалось.
А во вторник после отбоя собрали бригадиров — "для предъявления жалоб". На самом деле это совещание было ещё одной подлостью, формой следствия: знали, как накипело у арестантов, и давали высказаться, чтобы потом арестовывать верней.
Это был мой последней бригадирский день: у меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по-лагерному, это будет «удобно». В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас — удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.
Его собрали в предбаннике — просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД, несколько подполковников, остальные помельче, а наше лагерное начальство и совсем терялось во втором ряду, за их спинами. Там же, за спинами, сидели записывающие — они всё собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им ещё повторяли фамилии выступающих.
Выделялся один подполковник из Спецотдела или из Органов — очень быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой, и этой хваткостью мысли, и узостью лица как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной своре.
Бригадиры выступали нехотя, их почти вытягивали из густых рядов — подняться. Едва начинали они что-то говорить своё, их сбивали, приглашали объяснить: за что режут людей ? и какие были цели у забастовки? И если злополучный бригадир пытался как-то ответить на эти вопросы — за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались сворой: а откуда вам это известно? значит, вы связаны с бандитами? тогда назовите их!!
Так благородно и на вполне равных началах выясняли они «законность» наших требований…
Прерывать выступавших особенно старался высокоголовый злодей-подполковник, очень хорошо у него был подвешен язык и имел он перед нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал складываться такой тон, что во всём обвиняли нас, а мы оправдывались.
Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слова, назвал фамилию (её как эхо повторили для записывающего). Я поднимался со скамьи, зная, что из собравшихся тут вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. Одного только я вовсе не представлял, — о чём я могу им говорить? Всё то, что написано вот на этих страницах, что было нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки, — сказать им было всё равно что орангутангам. Они числились ещё русскими и ещё как-то умели понимать русские фразы попроще, вроде "разрешите войти!", "разрешите обратиться!" Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя нам свои однообразно-безмыслые белые упитанные благополучные физиономии, — так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя словесная связь между нами порывается безнадёжно, и остаётся — пулевая.
Только долгоголовый ещё не ушёл в орангутанги, он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание молниеносных реплик:
— А где вы работаете?
(Спрашивается, не всё ли равно, где я работаю?)
— На мехмастерских! — швыряю я через плечо и ещё быстрей гоню основную фразу.
— Там, где делают ножи? — бьёт он меня спрямака.
— Нет, — рублю я с косого удара, — там, где ремонтируются шагающие экскаваторы! — (Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль.)
И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать.
Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх:
— Вас делегировали сюда бандиты ?
— Нет, пригласили вы! — торжествующе секу я его с плеча и продолжаю, продолжаю речь.
Ещё раза два он выпрыгивает и полностью смолкает, отражённый. Я победил.
Победил — но для чего? Один год! Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, — но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы её всё равно, — но если бы меня транслировали по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.
И я не говорю им, что лагеря наши — фашистского образца, а в чём-то и поизощрённей. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск, — и вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших обликсоветских воинов , помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих зэков разворовывать для них строительство (тбк это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь). И какое развоспитывающее действие это производит на заключённых, желающих исправиться.
Мне самому не нравится моя речь, вся выгода её только в выигрыше темпа.
В завоёванной тишине поднимается бригадир Т. и медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или отроду так, он говорит:
— Я соглашался раньше… когда другие заключённые говорили… что живём мы — как собаки…
Полкан из президиума насторожился. Т. мнёт шапку в руке, стриженый каторжник, некрасивый, с лицом ожесточённым, искривлённым, так трудно найти ему правильные слова…
— …Но теперь я вижу, что был неправ.
Полкан проясняется.
— Живём мы — гораздо хуже собак! — с силой и быстротой заворачивает Т., и все сидящие бригадиры напрягаются. — У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают! Собаку с вышки не стреляют! Собакам не лепят подвадцать пять !
Теперь можно его хоть и перебивать — он главное высказал.
Встаёт Черногоров, представляется как бывший Герой Советского Союза, встаёт ещё бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и подчёркнуто повторяют их фамилии.
Может быть, это всё на погибель нашу, ребята… А может быть, только от этих ударов головой и развалится проклятая стена.
Совещание кончается вничью.
Несколько дней тихо. Комиссии больше не видно, и всё так мирно идёт на лагпункте, как будто ничего и не было.
Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я — первый, кого туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего страдания.
О, как одно и то же, но в разных жизнях, воспринимается нами в разном масштабе! Вот эта самая опухоль, по-видимому раковая, — какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь, когда головы так легко отлетают от туловищ, эта же самая опухоль — только повод полежать, я о ней и думаю мало.
Я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива — им не на чем лежать, всё ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель — железной трубою (память, память! — фамилии сейчас не вспомню). Кто-то уже умер от ран.
А новости обгоняют одна другую: на «российском» лагпункте началась расправа. Арестовали сорок человек. Опасаясь нового мятежа, сделали это так: до последнего дня всё было по-прежнему добродушно, надо было думать, что хозяева разбираются, кто там из них виноват. Только в намеченный день, когда бригады уже проходили ворота, они замечали, что их принимает удвоенный и утроенный конвой. Задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не помогли, ни стены бараков или строительства — нам. Выведя из лагеря, разведя колонны по степи, но никого ещё не доведя до цели, начальники конвоя подавали команду: "Стой! Оружие — к бою! Патроны — дослать! Заключённые, садись! Считаю до трёх, открываю огонь — садись! Все садись!"
И снова, как в прошлогоднее крещение, рабы беспомощные и обманутые скованы на снегу. И тогда офицер разворачивал бумагу и читал фамилии и номера тех, кому надо было встать и выйти за оцепление из бессильного стада. И уже отдельным конвоем эту группку в несколько мятежников уводили назад, или подкатывал за ними воронок. А стадо, освобождённое от ферментов брожения, поднимали и гнали работать.
Так воспитатели наши объяснили нам, можно ли им когда-нибудь в чём-нибудь верить.
Выдёргивали в тюрьму и среди опустевшей на день зоны лагпункта. И через ту четырёхметровую стену, через которую забастовка перевалиться не смогла, аресты перепорхнули легко и стали клевать в украинском лагпункте. Как раз накануне назначенной мне операции арестовали и хирурга Янченко, тоже увели в тюрьму.
Аресты или взятия на этап — это трудно было различить — продолжались теперь уже без первичных предосторожностей. Отправляли куда-то маленькие этапы человек по двадцать — по тридцать. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в семьсот. Этап особого режима: этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Возмездие судьбы! Украинцы, оберегавшие себя от помощи москалям, шли на этот этап гуще, чем мы.
Правда, перед самым их отъездом они салютовали нашей разбитой забастовке. Новый деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем-то из дерева (в Казахстане, где леса нет, а камня много!) — по не выясненным причинам (знаю точно, был поджог) загорелся сразу из нескольких мест — и в два часа сгорело три миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга — древний скандинавский обычай вместе с героем сжигать и его ладью.
Я лежу в послеоперационной. В палате я один: такая заваруха, что никого не кладут, замерла больница. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, — избушка морга и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда. (Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату: "и здесь два". И записывает в дощечку.)
В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё этапирование с не зажившими швами. Я — чувствовал и ждал, как придут — откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли.
Павел Баранюк, тоже вызванный на большой этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной — всё, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами, и если когда-нибудь увидимся, — это будет совсем другая страна. А на всякий случай — прощай, друг! Прощайте, друзья!
* * *
Потянулся томительный тупой год — последний мой год в Экибастузе и последний сталинский год на Архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих-многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли: кого — на новое следствие и суд; кого в изоляцию по нестираемой галочке на деле (хотя бы арестант давно стал ангелом); кого в джезказганские рудники; и даже был такой этап "психически неполноценных" — запекли туда Кишкина-шутника и устроили врачи молодого Володю Гершуни.
Взамен уехавших выползали из "камеры хранения" по одному стукачи: сперва боязливо, оглядываясь, потом наглей и наглей. Вернулся в зону "сука продажная" Володька Пономарёв и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил отъявленному вору.
Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты, сколько хотели и кого хотели. Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и спрятать их. Я не вернулся больше на должность бригадира (уже и бригадиров опять хватало), а стал подсобником в литейке. Работать приходилось в тот год много и вот почему. Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд Управление лагеря дало нам хозрасчёт , то есть такую систему, при которой труд, совершённый нами, не просто канывал в ненасытное хайло ГУЛага, но оценивался, и 45 % его считалось нашим заработком (остальное шло государству). Из этого «заработка» 70 % забирал лагерь на содержание конвоя, собак, колючки, БУРа, оперуполномоченных, офицеров режимных, цензорных и воспитательных, — всего, без чего мы не могли бы жить, — зато оставшиеся тридцать-десять процентов всё же записывали на лицевой счёт заключённого, и хоть не все эти деньги, но часть их (если ты ни в чём не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальства) можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту — боны , и эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пота и отдавал крови, тем ближе ты подходил к тридцати процентам, а если ты горбил недостаточно, то весь труд твой уходил на лагерь, а тебе доставался шиш.
И большинство — о, это большинство нашей истории, особенно когда его подготавливают изъятиями! — большинство было заглатывающе радо такой уступке хозяев и теперь укладывало своё здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущённого молока, маргарина, поганых конфет или в «коммерческой» столовой взять себе второй ужин. А так как расчёт труда вёлся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать своё здоровье за маргарин, — должен был класть его, чтобы товарищи заработали.
Гораздо чаще прежнего стали возить в зону и кинофильмы. Как всегда в лагерях, в деревнях, в глухих посёлках, презирая зрителей, не объявляли названия загодя, — свинье ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в её корыто. Всё равно заключённые — да не те ли самые, которые зимой так героически держали голодовку?! — теперь толпились, захватывали места за час до того, как ещё занавесят окна, нимало не беспокоясь, стоит ли этого фильм.
Хлеба и зрелищ. Так старо, что и повторять неудобно…
Нельзя было упрекнуть людей, что после стольких лет голода они хотят насытиться. Но пока мы насыщались здесь, — тех товарищей наших, кто изобрёл бороться, или кто в январские дни кричал в бараках "не сдадимся!", или даже вовсе ни в чём не замешанных, — где-то сейчас судили, одних расстреливали, других увозили на новый срок в закрытые изоляторы, третьих изводили новым и новым следствием, вталкивали для внушения в камеры, испестрённые крестами приговорённых к смерти, и какой-нибудь змей-майор, заходя в их камеру, улыбался обещающе: "А, Панин! Помню-помню. Вы проходите по нашему делу, проходите! Мы вас оформим!"
Прекрасное слово — оформить ! Оформить можно на тот свет, и оформить можно на сутки карцера, и выдачу поношенных штанов тоже можно — оформить. Но дверь захлопнулась, змей ушёл, улыбаясь загадочно, а ты гадай, ты месяц не спи, ты месяц бейся головой о камни — как именно собираются тебя оформить?…
Об этом только рассказывать легко.
Вдруг собрали в Экибастузе этапик ещё человек на двадцать. Странный какой-то этап. Собирали их неспешно, без строгостей, без изоляции, — почти так, как собирают на освобождение. Но никому из них не подошёл ещё конец срока. И не было среди них ни одного заклятого зэка, которого хозяева изводят карцерами и режимками, нет, это были всё хорошие заключённые, на хорошем у начальства счету: всё тот же скользкий самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов, и бригадир станочников хитро-простоватый Белоусов, и инженер-технолог Гультяев, и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Райков; и милейший, "свой в доску" токарь Женька Милюков с блинно-смазливым лицом; и ещё один токарь грузин Кокки Кочерава, большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою.
Куда же их? По составу ясно, что не на штрафной. "Да вас в хорошее место! Да вас расконвоируют!" — говорили им. Но ни у одного ни на минуту не проблеснула радость. Они уныло качали головами, нехотя собирали вещи, почти готовые оставить их здесь, что ли. У них был побитый, паршивый вид. Неужели так полюбили они беспокойный Экибастуз? Они и прощались какими-то неживыми губами, неправдоподобными интонациями.
Увезли.
Не дали времени их забыть. Через три недели слух: их опять привезли! Назад? Да. Всех? Да… Только они сидят в штабном бараке и по своим баракам расходиться не хотят.
Лишь этой чёрточки не хватало, чтобы завершить экибастузскую трёхтысячную забастовку, — забастовки предателей!.. То-то так не хотелось им ехать! В кабинетах следователей, закладывая наших друзей и подписывая иудины протоколы, они надеялись, что келейной тишиной всё и кончится. Ведь это десятилетиями у нас: политический донос считается документом неоспоримым, и лицо сексота не открывается никогда. Но что-то было в нашей забастовке — необходимость ли оправдаться перед своими высшими? — что заставило хозяев устроить где-то в Караганде большой юридический процесс. И вот этих взяли в один день, — и посмотрев друг другу в беспокойные глаза, они узнали о себе и о других, что едут свидетелями на суд. Да ничто б им суд, а знали они гулаговское послевоенное установление: заключённый, вызванный по временным надобностям, должен быть возвращён в прежний лагерь. Да им обещали, что в виде исключения оставят их в Караганде! Да какой-то наряд и был выписан, но не так, не правильно, — и Караганда отказалась.
И вот они три недели ездили. Их гоняли из вагон-заков в пересылки, из пересылок в вагон-заки, им кричали: "садись на землю!", их обыскивали, отнимали вещи, гоняли в баню, кормили селёдкой и не давали воды, — всё, как изматывают обычных, не благонастроенных зэков. Потом под конвоем их вводили на суд, они ещё раз посмотрели в лица тем, на кого донесли, там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек — и опять через все пересылки привезены и, разоблачённые, выброшены в прежний лагерь.
Они больше не нужны. Доносчик — как перевозчик…
И, кажется, — разве лагерь не замирён? Разве не увезена отсюда почти тысяча человек? Разве мешает им теперь кто-нибудь ходить в кабинет кума?… А они — нейдут из штаба. Они забастовали — и не хотят в зону! Один Кочерава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца, он идёт в бригаду и говорит:
— Нэ знаем, зачем возили! Возили-возили, назад привезли…
Но на одну только ночь и на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает в комнату штаба, к своим.
Э-э, значит не впустую прошло то, что прошло, и не зря легли и сели наши товарищи. Воздух лагеря уже не может быть возвращён в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочно. О политике в бараках разговаривают свободно. И ни один нарядчик и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зэка. Ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи и как легко вонзаются под ребрину .
Наш островок сотрясся — и отпал от Архипелага…
Но это чувствовали в Экибастузе, едва ли — в Караганде. А в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы Особлагов — в одном, другом, третьем месте, — Отец же и Учитель об этом понятия не имел, ему конечно не доложили (да не умел он ни от чего отказываться, и от каторги бы не отказался, пока под ним стул бы не загорелся). Напротив, для новой ли войны, он намечал в 1953 году большую новую волну арестов, а для того в 1952 расширял систему Особлагов. И так постановлено было экибастузский лагерь из лаготделения то Степлага, то Песчанлага обратить в головное отделение нового крупного прииртышского Особого лагеря (пока условно названного Дальлагом). И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Экибастуз целое новое Управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех окупить своим трудом.
Обещали не заставить себя ждать и новые заключённые.
* * *
А зараза свободы тем временем передавалась — куда ж было деть её с Архипелага? Как когда-то дубовские привезли её нам, так теперь наши повезли её дальше. В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскреблено, выдолблено: "Привет борцам Экибастуза!"
И первое изъятие "центровых мятежников", человек около сорока, и из большого февральского этапа 250 самых «отъявленных» были довезены до Кенгира (посёлок Кенгир, а станция Джезказган)- 3-го лаготделения Степлага, где было и Управление Степлага и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастузцев разделили между 1-м и 2-м отделениями Степлага (Рудник).
Для устрашения восьми тысяч кенгирских зэков объявлено было, что привезены бандиты . От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованною легендой вошло наше движение в рабский ещё Кенгир, чтоб разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь ещё господствовали кулак и донос.
До апреля продержав четверть тысячи наших в тюрьме, начальник Кенгирского лаготделения подполковник Федотов решил, что достаточно они устрашены, и распорядился выводить на работу. По централизованному снабжению было у них 125 пар новеньких никелированных наручников последнего коммунистического образца — а сковывая двоих по одной руке, как раз на 250 человек (этим, наверное, и определилась принятая Кенгиром порция).
Одна рука свободна — это можно жить! В колонне было уже немало ребят с опытом лагерных тюрем, тут и тёртые беглецы (тут и Тэнно, присоединённый к этапу), знакомые со всеми особенностями наручников, и они разъяснили соседям по колонне, что при одной свободной руке ни черта не стоит эти наручники снять — иголкой и даже без иголки.
Когда подошли к рабочей зоне, надзиратели стали снимать наручники сразу в разных местах колонны, чтоб не умедля начать рабочий день. Тут-то и стали умельцы проворно снимать наручники с себя и с других и прятать под полу: "А у нас уже другой надзиратель снял!" Надзору и в голову не пришло посчитать наручники прежде чем запустить колонну, а при входе на рабочий объект её не обыскивают никогда.
Так в первое же утро наши ребята унесли 23 пары наручников из 125 пар! Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острей: стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтоб сохранились лучше, и вмуровали в стены и фундаменты домов, которые клали в тот день (20-й жилой квартал, против Дворца Культуры Кенгира), сопровождая их идеологически несдержанными записками: "Потомки! Эти дома строили советские рабы. Вот такие наручники они носили".
Надзор клял, ругал бандитов , а на обратную дорогу всё же поднёс ржавых, старых. Но как ни стерёгся он — у входа в жилую зону ребята стащили ещё шесть. В два следующих выхода на работу — ещё по несколько. А каждая пара их стоила 93 рубля.
И — отказались кенгирские хозяева водить ребят в наручниках.
В борьбе обретёшь ты право своё!
К маю стали экибастузцев постепенно переводить из тюрьмы в общую зону.
Теперь надо было обучать кенгирцев уму-разуму. Для начала учинили такой показ: придурка, по праву сунувшегося в ларёк без очереди, придушили не до смерти. Довольно было для слуха: что-то новое будет! не такие приехали, как мы. (Нельзя сказать, чтоб до того в джезказганском лагерном гнезде совсем не трогали стукачей, но это не стало направлением. В 1951 в тюрьме Рудника как-то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там Козлаускаса.)
Теперь создались и в Кенгире подпольные Центры — украинский и «всероссийский». Приготовлены были ножи, маски для рубиловки — и вся сказка началась с начала.
"Повесился" на решётке в камере Войнилович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лифшиц, член реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова. (Лифшиц был благополучным библиотекарем КВЧ на лаготделении Рудник, но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии.) Венгр-комендант зарублен был около бани топорами. И, открывая дорожку в "камеру хранения", побежал туда первым Сауер, бывший министр советской Эстонии.
Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунктами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак — и восемь тысяч человек в свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на четыре несообщающихся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. (Всё-таки в идеале надо было разделить весь мир на одиночки!)
Старшина, начальник кенгирской тюрьмы, был профессиональный боксёр. Он упражнялся на заключённых, как на грушах. Ещё у него в тюрьме изобрели бить молотом через фанеру, чтобы не оставлять следов. (Практические работники МВД, они знали, что без побоев и убийств перевоспитание невозможно: и любой практический прокурор был с ними согласен. Но ведь мог наехать и теоретик! — вот из-за этого маловероятного приезда теоретика приходилось подкладывать фанеру.) Один западный украинец, измученный пытками и боясь выдать друзей, повесился. Другие вели себя хуже. И прогорели оба Центра.
К тому же среди «боевиков» нашлись жадные проходимцы, желавшие не успеха движению, а добра себе. Они требовали, чтобы им дополнительно носили с кухни и ещё выделяли "от посылок". Это тоже помогло очернить и пресечь движение.
Среди тех, кто идёт путём насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налётчики Камо, сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми. И чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино? Когда в военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь.
Как будто пресекли. Но присмирели от первой репетиции и стукачи. Всё же кенгирская обстановка очистилась.
Семя было брошено. Однако произрасти ему предстояло не сразу и — иначе.
* * *
Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, особенно если она сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Теперь говорят: никто ничего не понимал — ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только понимала, но избрала отравиться в углу, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только бы не крикнуть нам с трибуны.
И вот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в Экибастузе, пять тысяч плеч подведя под эти своды и поднапрягшись, — трещинку мы всё-таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали не заметную, пусть сами больше надорвались, — а с трещинок разваливаются пещеры.
Были волнения и кроме нас, кроме Особлагов, но всё кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951, в сахалинском ИТЛовском лагере Вахрушево была пятидневная голодовка пятисот человек с большим возбуждением и арестными изъятиями — после того как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильное волнение в Озёрлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года.
Видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно в Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать свои цепи.
Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам экономики или общества — остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой личности .
И хотя по Передовой Теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись (их за зону в тот день не выпустили), что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, — а что-то неведомое в подземельи стало сотрясаться, сдвигаться.
Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях «ворошиловской», своим духом вполне была верна покойнику: холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она их, как крыс, распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решётки ставить себе на вольные окна, а милиции — заново вылавливать всех, прежде выловленных. Пятьдесят же Восьмую она освободила в привычной пропорции: на 2-м лагпункте Кенгира из трёх тысяч человек освободилось… трое.
Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном: смерть Сталина ничего не меняет. Пощады им как не было, так и не будет. И если они хотят жить на земле, то надо бороться!
И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах — заварушки помельче, вроде 12-го лагпункта Карлага; и крупное восстание в Горлаге (Норильск), о котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой-нибудь был у нас материал. Но никакого.
Однако, не впустую прошла смерть тирана. Неведомо отчего что-то скрытое где-то сдвигалось, сдвигалось — и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем ещё одна личность — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото.
И все теперь — и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы Архипелага поняли: наступила новая пора.
Здесь, на Архипелаге, падение Берии было особенно громовым: ведь он был высший Патрон и Наместник Архипелага! Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио, и нельзя было заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты этого милого ласкового Покровителя со стен Управления Степлага, полковник Чечев сказал дрожащими губами: "Всё кончено". (Но он ошибся. Он думал — на следующий день будут судить их всех.[57]) В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замечаемая арестантами. Начальник режима 3-го кенгирского лагпункта, от которого зэки взгляда доброго никогда не видели, вдруг пришёл на работу к режимной бригаде, сел и стал угощать режимников папиросами. (Ему надо было рассмотреть, что за искры пробегают в этой мутной стихии и какой опасности от них ждать.) "Ну, что? — насмешливо спросили его. — Ваш главный-то начальник — враг народа?" — "Да, получилось", — сокрушился режимный офицер. — "Да ведь правая рука Сталина! — скалились режимники. — Выходит — и Сталин проглядел?" — "Да-а-а… — дружески калякал офицер. — Ну что ж, ребята, может, освобождать будут, подождите…"
Берия пал, а пятно берианцев он оставил в наследство своим верным Органам. Если до сих пор ни один заключённый, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслом усомниться в кристальности любого офицера МВД, то теперь достаточно было налепить гаду «берианца» — и он уже был беззащитен!
В Речлаге (Воркута) в июне 1953 совпало: большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов мятежников (большей частью западных украинцев). К этому времени ещё была Воркута рабски забита, и приехавшие зэки изумили местных своей непримиримостью и смелостью.
И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали цемзавод, строительство ТЭЦ-2, шахты 7-я, 29-я и 6-я. Объекты видели друг друга — как прекращаются работы, останавливаются колёса шахтных копров. Уже не повторяли экибастузской ошибки — не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон, однако — отдай пайку, начальничек! — каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. (Я думаю, из-за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали.) В бастующих зонах создались забастовочные комитеты, установился "революционный порядок", столовая сразу перестала воровать и на том же пайке пища заметно улучшилась. На 7-й шахте вывесили красный флаг, на 29-й, в сторону близкой железной дороги… портреты членов Политбюро. А чту было им вывешивать?… А чту требовать?… Требовали снять номера, решётки и замки, — но сами не снимали, сами не срывали. Требовали свободной переписки с домом, свиданий, пересмотра дел.
Уговаривали бастующих только первый день. Потом неделю никто не приходил, но на вышках установили пулемёты и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, сновали чины в Москву и из Москвы назад, нелегко было в новой обстановке понять, чту правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник Речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров (до сорока). К этой блестящей свите всех собирали на лагерный плац. Заключённые сидели на земле, генералы стояли и ругали их за саботаж, за «безобразия». Тут же оговаривались, что "некоторые требования имеют основания" ("номера можете снять", о решётках "дана команда"). Но — немедленно приступить к работе: "стране нужен уголь!" На 7-й шахте кто-то крикнул сзади: "а нам нужна — свобода, пошёл ты на…!" — и стали заключённые подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет.[58]
Тут же срывали номера, начали выламывать и решётки. Однако, уже возник раскол, и дух упал: может, хватит? большего не добьёмся. Ночной развод уже частично вышел; утренний полностью. Завертелись колёса копров, и, глядя друг на друга, объекты возобновляли работу.
А 29-я шахта — за горой, и она не видела остальных. Ей объявили, что все уже приступили к работе — 29-я не поверила и не пошла. Конечно, не составляло труда взять от неё делегатов, свозить на другие шахты. Но это было бы унизительное цацканье с заключёнными, да и жаждали генералы пролить кровь: без крови не победа, без крови не будет этим скотам науки.
1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29-й шахте. Заключённых вызвали на плац, к воротам. С другой стороны ворот сгустились солдаты. "Выходите на работу — или примем жестокие меры!"
Без пояснений — какие. Смотрите на автоматы. Молчание. Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать? Особенно — краткосрочникам… У кого остался год-два, те толкаются вперёд. Но решительнее их пробиваются другие — и в первом ряду, схватясь руками, сплетают оцепление против штрейкбрехеров. Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь, его ударяют железным прутом. Генерал Деревянко отходит в сторону и даёт команду "огонь!". По толпе.
Три залпа, между ними — пулемётные очереди. Убито 66 человек. (Кто ж убитые? — передние: самые бесстрашные да прежде всех дрогнувшие. Это — закон широкого применения, он и в пословицах.) Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьёт зэков и выгоняет из зоны.
Три дня (1–3 августа) — аресты по всем бастовавшим лагпунктам. Но что с ними делать? Притупели Органы от потери кормильца, не разворачиваются на следствие. Опять в эшелоны, опять везти куда-то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен.
Для оставшихся — штрафной режим.
На крышах бараков 29-й шахты появилось много латок из драни — это залатаны дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами.
Но довольно и тех, что били в мишень.
Близ терриконика 29-й шахты кто-то в хрущёвские времена поставил у братской могилы крест — с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили. И кто-то ставил вновь.
Не знаю, стоит ли сейчас. Наверно, нет.
Глава 12. Сорок дней Кенгира
Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.
И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах, — вдруг понесли на себе как бы печать порока и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними), — но не в глазах ли и правительства?
В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату ("за звёздочки"), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?
Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?
Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать меры . И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.
Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным.[59]
Застрелили ту юную девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике.
Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.
Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.
Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)
Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.
Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков позовут на суд, и они проверят!..). Вышли на работу.
Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — «евангелиста», как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была — обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева-Бородавки, названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)
Всё в зоне взволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. "За что убили?" — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?…)
Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что — слишком готовые…). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.
Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.
Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: "Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!" И так секция за секцией, барак за бараком.
Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был, и обдумано раньше не раз, сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу — однако они присоединились.
Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й — на работу не вышли.
Такая повадка — бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться, всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и, вдвоём берясь за одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод.
Два дня так они выстояли.
Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: "Долго думаете волынку тянуть?"[60] И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: "Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!" И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: "И я пойду!" — "Иди!" — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест, и против чего тут можно было протестовать.
В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на работу. 3-й не вышел ещё и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались, нагнувшись, между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек: "Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я подполковник!" И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался — в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование — туда помешалось лишь около полутысячи человек.)
Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но не достаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным.[61] К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и несокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.
Применены были и все проверенные ранее способы. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!) Человек семьдесят (среди них и Тэнно) были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: "все меры исправления исчерпаны, разлагающе влияет на заключённых, содержанию в лагере не подлежит". Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчёт, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, — в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже — о, невозможность! — выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. (ГУЛаг верил туземцу в долг! — это небывало.)
Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассыпалось.
Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой — за блатными. (Ну а в самом деле: зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально-близкие?)
Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себяпонять, — хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). "Прибывает здоровый контингент! — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы не шелохнётесь". А к привезенным ворам воззвали: "Вы у нас наведёте порядок!"
И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счёт других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: "Покажи нам баб, начальничек!"
Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!
* * *
Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан .
И если это так — что же мешало нам добиться воровского «уважения» — раньше? Все двадцатые, все тридцатые, все сороковые годы мы, Укропы Помидоровичи и Фан Фанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью и содержимым своего сидора , и своими ещё не отнятыми ботинками или брюками, — мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические: когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке; а когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей, мы услужливо отдавали этим образинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к этому! Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага! Мы терзались извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, вкрасне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между рёбрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысо-людьми, которым на загрызание бросили нас Голубые. И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря? В самом деле, за что было ворам нас уважать? …
Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством, — пришли к паханамвыдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: "Мы —представители . Какая в Особых лагерях идёт рубиловка — вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас — шестьсот человек, нас — две тысячи шестьсот. Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас перережем".
Вот этот-то шаг и был мудр и нужен был давно! — повернуться против блатных всем остриём! увидеть в них — главных врагов!
Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит. Покровители — всё-таки за зоной, да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, — был весёлой небывалой авантюрой, да ещё кажется открывал и дорожку — через забор в женскую зону.
И ответили воры: "Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе!"
Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные.
Ещё в первых же карантинных бараках здоровый контингент отметил своё новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развёл костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же своё с запиранием бараков они выразили, забивая щепками скважины замков.
Две недели воры вели себя как на курорте: выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло, но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписывать ворам было не из каких сумм. Однако появились у воров боны, они приходили в ларёк и покупали. Обнадёжилось начальство, что здоровый элемент начинает-таки воровать. Но, плохо осведомлённое, оно ошиблось: среди политических прошёл сбор на выручку воров (это тоже было, наверно, частью конвенции, иначе ворам неинтересно), оттуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нём догадаться!
Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки.
Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), сведённых в гвардию, —мобили . Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было вкалывать на казённой работе, — но что-то же надо было делать! Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из 3-го лагпункта во 2-й, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор.
Когда режимные офицеры, или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок — небывалое для ГУЛАГа обращение! — но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов — дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшачее верили в успехи перековки , они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкою в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев.
Так, имея низкий административный рассудок и лишённые высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кенгирский взрыв: сперва бессмысленными застрелами, потом — вливом воровского горючего в этот накалённый воздух.
События шли необратимо. Нельзя было политическим не предложить ворам войны или союза. Нельзя было ворам отказываться от союза. А установленному союзу нельзя было коснеть — он бы распался и открылась бы внутренняя война.
Надо было начинать , что-нибудь, но начинать! А так как начинателей, если они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они воры — только журят на политбеседах, то воры и предложили: мы — начнём, а вы — поддйржите!
Заметим, что всё кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, нарезаны были внутренние зоны: сперва 1-го лагпункта (женского), потом хоздвора (о его индустриальной мощи мы говорили), потом 2-го лагпункта, потом 3-го, а потом — тюремного, где стояли две тюрьмы — старая и новая, и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей посёлка.
Естественной первой целью было — взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили взлезли на крыши своих бараков и усеяли стену между 3-м и 2-м лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2-й лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси 2-го лагпункта — к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.
Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел сорганизоваться и получить инструкции. И вот преинтересно! — надзиратели стали бегать по баракам Пятьдесят Восьмой и к ним, тридцать пять лет давимым, как мразь, взывать: "Ребята! Смотрите! Воры идут ломать женскую зону! Они идут насиловать ваших жён и дочерей! Выходите не помощь! Отобьём их!" Но уговор был уговор, и кто рванулся, о нём не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдержат условий конвенции, — надзор не нашёл себе помощников из Пятьдесят Восьмой.
Уж как там защищал бы надзор от своих любимцев женскую зону — неизвестно, но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородавка-Беляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов, воры стали отступать к своему 3-му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление.
Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотою близ столовой 2-го лагпункта стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм "Римский-Корсаков".
Но отважный композитор не успел ещё уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу, как зазвенели от камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по 2-му лагпункту, и заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой.)
При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, всё тот же опер капитан Беляев ворвался в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и — впервые в истории ГУЛАГа! — открыл огонь посоциально-близким ! Были убитые и несколько десятков раненых. А ещё — бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А ещё сзади, по разделению карательного труда, принятому уже в Экибастузе, и в Норильске, и на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломами и этими ломами досмерти добивали раненых. (В ту ночь в больнице 2-го лагпункта засветилась операционная, и заключённый хирург испанец Фустер оперировал.)
Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расставились. А 2-й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические) соорудил против хоздвора баррикаду. 2-й и 3-й лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД.
Но что случилось с тем, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через развязное то презрение, с которым блатные оценивают баб . Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а — товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом — и вооружённые. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали их в тюрьму (в жензоне была предусмотрительно своя тюрьма), а в иных мужчин стреляли.
Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону «чернопогонников» — солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять не солдатского дела! — и пришлось их увести.
А между тем именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели! Они вовсе не были простаками. Прочли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух-трёх своих верзил, переодетых в заключённых. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь!
В утренние часы понедельника напряжённость сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулемётчики лежали за пулемётами, направленными на те же всё ворота. В освобождённых мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться, положение было неустойчиво слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исхудалых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулемётчикам свои костлявые груди и рёбра, кричали: "Ну, стреляете, что же! Бейте по отцам! Добивайте!"
И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор.
Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров.
(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алма-Аты. Унесённые трупы отвезли в степь и закопали, чтоб устранить экспертизу, если её потом потребуют.)
Покатилось "Ура-а-а!.. Ура-а-а…" — и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму — и всё соединилось! Всё было свободно внутри главной зоны! — только 4-й тюремный лагпункт оставался тюрьмой.
На всех вышках стало по четыре краснопогонника! — было кому в уши вбирать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им (а женщины, конечно, больше всех): "Вы — хуже фашистов!.. Кровопийцы!.. Убийцы!.."
Обнаружился, конечно, в лагере священник, и не один, и в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран.
Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, всё время и давеча и только что бывших разобщёнными рабами — и вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверённых конвоиров?! Экибастузское голодное лежание в запертых бараках — и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут — революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей! И мы любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. Да ведь они от своего закона отошли!) И ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сёстры наши по судьбе.
В столовой прокламации: "Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый!" На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги: "Хлопцы, бейте чекистов!", "Смерть стукачам, чекистским холуям!" В одном-другом-третьем месте, только успевай — митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Думай — тебе думать разрешено — за кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева! — это понятно. Под суд убийц! — это понятно. А дальше?… Не запирать бараков, снять номера! — а дальше?…
А дальше — самое страшное: для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы! — но кто ж нам её даст? Те суды, которые нас осудили, — в Москве. А пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой… нас всех в этой степи закопают.
А тогда — чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню?…
Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, всё равно не жаль! — этот день стоил того!
А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна, они не смотрят зверьми, они без автоматов, да ведь и то сказать — они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, что из Москвы прилетели генералы — гулаговский Бочков и заместитель генерального прокурора Вавилов. (Они служили и при Берии, но зачем бередить старое?) Они считают, что наши требования вполне справедливы. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, вполне справедливы.) "Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности". — "А за что женщин избили?" — "Женщин избили? — поражается делегация. — Быть этого не может". Аня Михалевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана: "Разберёмся, разберёмся". — "Звери!" — кричит генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: "Не запирать бараков!" — "Не будем запирать". — "Снять номера!" — "Обязательно снимем", — уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). — "Проломы между зонами — пусть остаются! — наглеем мы. — Мы должны общаться!" — "Хорошо, общайтесь, — согласен генерал. — Пусть проломы остаются". Так братцы, чего нам ещё надо? Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели — и победили! И хотя среди нас качают головами и говорят — обман, обман! — мы верим. Мы верим нашему в общем неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения…
А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми — и снова верить. И снова быть обманутыми — и снова верить.
И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирились со своими мертвецами.
И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьёзно признать правоту заключённых! Не могли же они серьёзно наказывать военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны!
И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как взяться, — брал в руки мастерок; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки; инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой: открывать огонь!
А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот первый вечер — вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, — а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею.
Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, — перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом хулиганском гуляньи (эти свисты были ещё один удачный вклад блатных в общее дело). И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал (старший лейтенант интендантской службы Медвежонок), задержался по своим делам и взят был до утра в плен.
Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам — вышки открывали пулемётный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами. Вот тут 3-ему лагпункту пригодился хозофицер: с одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене (с их стороны предзонника не сделали), и он вопил из темноты своим: "Не стреляйте, здесь я, Медвежонок! Здесь я, не стреляйте!" — а с вышек его матюгали: а ты врагам не попадайся. В конце концов зэки пожалели его и отпустили, с расстройством.
Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, — значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски.
В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулемётным огнём прошли подкопами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западнёй (в другие дни их сделали шириной метров в двадцать).
В эту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надзорсостав, охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания: бывший полковник Красной Армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную — за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме он сидел "за очернение лагерной действительности" в письмах, отосланных через вольняшек); бывший старший лейтенант Красной Армии Глеб Слученков (он побывал в плену; как некоторые говорят — и власовцем).
В «новой» тюрьме сидели жители посёлка Кенгира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране — всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но быстро узнав, что революция — слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания — лишь за едою ходили в столовую мятежных зэков.
Мятежных зэков! — которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали, и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж.
Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут, это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Стать на колени? Но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными? — но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от тех, чьи суды работают машинно: если четвертаки , так уж всем вкруговую, без пропуска.
Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу , хоть и не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им — жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбок.[62] Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывался изощрёнными тайными путями и никогда не видел друг друга, — теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей — их брак спустился от Господа на землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продовольствие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день.
Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатах — цветные халаты и тюрбаны, серо-чёрный лагерь расцветёт.)
Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы Комиссии — комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так скромно, так боязливо она себя назвала).
Её избирали может быть на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством кенгирского лагеря.
* * *
Если б это всё свершилось на два года раньше, то из одного только страха, чтоб не узнал Сам , степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все восемь тысяч или четыре — ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые.
Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже постреляно было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создалась заминка, а значит — время для мятежников начать свою независимую новую жизнь.
В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а значит бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов: "Хлопцы, бейте чекистов"?
Едва выйдя из тюрьмы — и тут же силою обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли друзей или внутренним позывом направляясь к руководству, Капитон Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затёртых в Кенгире ортодоксов: "Пресечь эту стряпню (листовки), пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями!" (Эти выражения я цитирую по записям другого члена Комиссии А. Ф. Макеева об узком разговоре в вещкаптёрке Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову: "Да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки".)
В первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая:
— Антисоветчина — была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги — нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше — в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями как подобает советским гражданам!
И уже громче потом: "Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов!" (Да впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались. Не очень-то в речи его и вникали.)
Это подобно тому, как если бы поезд вёз вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него, — вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:
"Да здравствует Советская Конституция!"
"Да здравствует Президиум ЦК!"
"Да здравствует советская власть!"
"Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!"
"Долой убийц-бериевцев!"
"Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно быть жёнами убийц?"
Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далёкие и близкие, произошли под болотным солнцем этой конституции и утверждены этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать — да здравствует эта конституция и это Политбюро. И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твёрдость под ногами и стали успокаиваться: движение их — не безнадёжно.
А над столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: белое поле, чёрная кайма, а в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил:
"Терпим бедствие. На борту — женщины и дети".
В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы:
— агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопкус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания),
— быта и хозяйства,
— питания,
— внутренней безопасности (Глеб Слученков),
— военный и
— технический, пожалуй самый удивительный в этом лагерном правительстве.
Бывшему майору Макееву были поручены контакты с начальством. В составе Комиссии был и один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины (очевидно: Шахновская, экономист, партийная, уже седая; Супрун, пожилая учительница из Прикарпатья; Люба Бершадская).
Вошли ли в эту Комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры , а особенно украинский (во всём лагере русских было не больше четверти), очевидно остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941 воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседания Комиссии молчаливым наблюдателем оттого штаба.
Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но военный отдел вынес свой командный пункт (полевой штаб) в баню 2-го лагпункта. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо было всё придумать и наладить.
Прежде всего надо было укрепиться. (Макеев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней настояли Слученков и Кнопкус.) Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне (и входов извне), которые остались во власти охранников и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из неё наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое-где выставить и дощечки: "Осторожно! Минировано!"
А это была одна из первых затей Технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе Техотдел завёл секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано: "Напряжение 100 000 вольт". Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Так даже заключённые не стали знать, чем занимается Техотдел. Очень скоро распространён был слух, что изготовляет он секретное оружие по химической части. Так как и зэкам и хозяевам было хорошо известно, какие умники-инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они всё могут , и даже изобрести такое оружие, какого ещё не придумали в Москве. А уж сделать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хоздворе, — отчего же нет? И так дощечки «минировано» воспринимались серьёзно.
И ещё придумано было оружие: ящики с толчёным стеклом у входа в каждый барак (засыпать глаза автоматчикам).
Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых было в женском лагпункте большинство.
Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решётки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, ещё работали станки в хоздворе и из прутьев этих решеток сделали множество пик , заостряя и обтачивая их концы. Вообще кузня и станочники эти первые дни непрерывно делали оружие: ножи, алебарды-секиры и сабли, особенно излюбленные блатными (к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи). У иных появлялись в руках кистени.
Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли ощетиненные кончиками пик.
Это всё было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба! — эту первую возможность защищать свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, — мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо.
Если кто в эти дни и вёл расчёты низменного сладострастия, то — хозяева в голубых погонах там, за зоной. Их расчёт был, что предоставленные на неделю сами себе, заключённые захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям посёлка, что заключённые взбунтовались для разврата. (Конечно, чего другого могло не доставать арестантам в их обеспеченной судьбе?)[63]
Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся, и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! — и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя как люди , но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно — и политические и сами женщины относились к ним подчёркнуто дружелюбно, с доверием. А что скрытей того — не относится к нам. Может быть ворам всё время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье.
Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём-то силу, то сила была — в единстве.
Не посягали воры и на продовольственный склад, что, для знающих, удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподданная боязнь переесть казённый харч и потом отвечать за растрату! Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам! Наоборот — почти смешной изворот: всё лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора, а как же! — и по их просьбе Комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтушкина (невредного, бывшего фронтовика), и он регулярно отгружал продукты начальству, например сухие фрукты, из расчёта норм для вольных — и зэки отпускали.
Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама, и не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей . И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы — еды стало заметно больше!
И если блатные продавали вещи (то есть награбленные прежде в другом месте), то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. "Теперь не такое время", — говорили они…
Даже ларьки от местного ОРСа продолжали торговать в зонах. Вольной инкассаторше штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускалась в зону и здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку — боны. (Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров хозяева в зону не пропускали.)
В руках у хозяев оставалось ещё три вида снабжения зоны: электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за сорок дней ни порошка,ни капли йода . Электричество отрезали дня через два-три. Водопровод — оставили.
Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать с силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, — и так несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны. За это время Техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него и стал на хоздворе (в укрытом месте от прозора с вышек и от низко летающих самолётов У-2) монтировать гидроэлектростанцию, работающую от… водопроводного крана. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и… радиопередатчик! А в бараках светили лучины… Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.
В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева (ну, не слишком-то свободно по самой зоне, остерегались). Правда, нашёлся и Кузнецов: на первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: "Головные уборы — снять!" Обнажили головы зэки — и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание Комиссии ("нельзя ж со всеми сразу разговаривать"), он потребовал, чтоб депутаты на переговорах сперва рассказали о своём следственном деле (и Кузнецов стал длинно и может быть охотно излагать своё); чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто-то сказал: "Заключённые требуют…", Бочков с чувствительностью возразил: "Заключённые могут только просить , а не требовать!" И установилась эта форма — "заключённые просят".
На просьбы заключённых Бочков ответил лекцией о строительстве социализма, небывалом подъёме народного хозяйства, об успехах китайской революции. Самодовольное косое ввинчивание шурупа в мозг, отчего мы всегда слабеем и немеем… Он пришёл в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия было правильным (скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было, это ложь бандитов, и избиений тоже не было). Он просто изумился, что смеют просить его нарушить "инструкцию о раздельном содержании зэ-ка зэ-ка". (Они так говорят о своих инструкциях, будто это довечные и домировые законы.)
Вскоре прилетели на «Дугласах» ещё новые и более важные генералы: Долгих (будто бы в то время — начальник ГУЛага) и Егоров (замминистра МВД СССР). Было назначено собрание в столовой, куда собралось до двух тысяч заключённых. И Кузнецов скомандовал: "Внимание! Встать! Смирно!", и с почётом пригласил генералов в президиум, а сам по субординации стоял сбоку. (Иначе вёл себя Слученков. Когда из генералов кто-то обронил о врагах здесь, Слученков звонко им ответил: "А кто из вас не оказался враг? Ягода — враг, Ежов — враг, Абакумов — враг, Берия — враг. Откуда мы знаем, что Круглов — лучше?")
Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало бы никого не этапировать и не репрессировать, начать расследование, а зэки за то соглашались немедленно приступить к работе. Однако когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект, зэки честили их "лысыми комсомольцами", "уполномоченными по заготовкам" и "чекистскими холуями". Особенно враждебно встретили их на женском лагпункте и особенно неприемлемо было для зэков согласиться теперь на разделение мужских и женской зон. (Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям: "А ты подержался за сисю у Параси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своём настоит, всё равно!")
Дни текли. Не спуская с зоны глаз — солдатских с вышек, надзирательских оттуда же (надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть, с фотосъёмкой), — генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается, и повода нет вести войска на выручку.
Лагерь — стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая-нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников гарантировал им личную безопасность!..
Генералов проводили там, где можно (конечно, не по секретной зоне хоздвора), и давали им разговаривать с зэками и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонами, хозяева и тут рассаживались в президиумах — как раньше, как ни в чём не бывало.
Арестанты выпускали ораторов. Но как трудно было говорить! — не только потому, что каждый писал себе этой речью будущий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания жизни и представления об истине у серых и у голубых, и почти ничем уже нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе, из ворованного с обогатительной фабрики свинца заставляют делать себе дробь для браконьерства; если огороды им копают заключённые; если для начальника лагпункта, когда он моется в бане, расстилают ковры и играет оркестр.
Чтоб меньше было такого бестолкового крику, эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу: в июне как-то поставили в женской зоне долгий столовский стол и по одну сторону на скамье расселись золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики. По другую сторону стола сели члены Комиссии, и тоже была охрана — очень серьёзно стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подталпливались зэки — слушать толковище, и подкрикивали. (И стол не был без угощений! — из теплиц хоздвора принесли свежие огурцы, с кухни — квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь…)
И ещё было как-то полускрытое совещание лагерной Комиссии с пятью генералами МВД в домике у вахты 3-го лагпункта.
Требования-просьбы восставших были сформулированы ещё в первые два дня и теперь повторялись многократно:
— наказать убийцу евангелиста;
— наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе;
— наказать тех, кто избивал женщин;
— вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы;
— не надевать больше номеров, не ставить на бараки решёток, не запирать бараков;
— не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами;
— восьмичасовой рабочий день, как у вольных;
— увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными);
— свободная переписка с родственниками и иногда свидания;
— пересмотр дел.
И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило конституции (а многие были только — просьба о возврате в старое положение), — но невозможно было хозяевам принять ни мельчайшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины и фуражки давно отучились признавать свою ошибку или вину. И отвратна, и неузнаваема была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст чёрного народа.
Но всё-таки затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот (для правдоподобия) трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни встреч. А вот начать в зоне работу следственной комиссии (по обстоятельствам расстрелов) генералы внезапно согласились. (Но Слученков разгадал и настоял, чтоб этого не было: под видом показаний будут стукачи дуть на всё, что происходит в зоне.) Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только надо подождать . Но что совершенно безотложно — надо выходить на работу! на работу! на работу!
А уж это зэки знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков.
Нет, — отвечали они через стол и с трибуны. Нет! — кричали из толпы. Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству Степлага! Мы не верим МВД!
— Даже МВД не верите? — поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамолы. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?
Загадка.
— Члена Президиума ЦК! Члена Президиум ЦК! Тогда поверим! — кричали зэки.
— Смотрите! — угрожали генералы. — Будет хуже!
Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо.
— Если войдёте в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что здесь половина людей — бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием!
Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял своё судебное дело? Давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятеже ему пришло из Москвы освобождение (кажется, с реабилитацией)? Только ли профессионально-военной была его гордость, что в таком порядке он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? (Я это отклоняю.) Или, зная командные свои способности, — для того, чтобы умерить его, ввести в берега (и взаимные расправы предотвратить, сдерживая Слученкова) и укрощённой волною положить под сапоги начальству? (Так думаю.) Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от Комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой.
Два телохранителя — два огромных украинских хлопца, всё время сопровождали Кузнецова, с ножами на боку.
Для защиты? Для расплаты?
(Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена — тоже бандеровка.)
Глебу Слученкову было лет тридцать. Это значит, в немецкий плен он попал лет девятнадцати. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохранённой в каптёрке, выявляя и подчёркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это искупалось большой подвижностью.
На переговорах он вёл себя чётко, резко. Придумало начальство вызвать из зоны "бывших малолеток" (посаженных до 18 лет, — сейчас уже было кому и 20–21 год) — для освобождения. Это, пожалуй, не был и обман, около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил: "А вы спросили бывших малолеток — хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей?" (И перед Комиссией настаивал: "Малолетки — наша гвардия, мы их не можем отдать!" В том и для генералов был частный смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира; уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной?) Законопослушный Макеев начал всё же сбор бывших малолеток на "суд освобождения" и свидетельствует: из четырёхсот девяти , подлежавших освобождению, удалось ему собрать на выход лишь тринадцать человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться: 400 молодых людей в самом расцветном возрасте и даже в массе своей не политическихотказались не только от свободы — но от спасения! остались в гиблом мятеже…
А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: "Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Караганду! А там — наш брат!"[64]
Можно верить и другим свидетельствам о нём. "Кто побежит — будем бить в грудь!" — и в воздухе финкой взмахнул. Объявил в бараке: "Кто не выйдет на оборону — тот получит ножа!" Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения…
Новорождённое лагерное правительство, как и извечно всякое, не умело существовать без службы безопасности, и Слученков эту службу возглавил (занял в женском лагпункте кабинет опера). Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слученков, что его пост означал для него неминуемую казнь. В ходе мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение — спровоцировать в лагере национальную резню (очень на неё золотопогонники рассчитывали, и удивительно, что она не случилась! Добрый прообраз к нашему будущему) — и тем дать благовидный предлог для вступления войск в лагерь. За это хозяева обещали Слученкову жизнь. Он отверг предложение. (А кому и что предлагали ещё? Те не рассказывали.) Больше того, когда по лагерю пущен был слух, что ожидается еврейский погром, Слученков предупредил, что переносчиков будет публичносечь . Слух угас.
Ждало Слученкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это непременно низменным соображениям (немало ортодоксов были связаны службой у кума), вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху — как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому же порывом, разрозненные, но снизу, — были для них бандитизм, да к тому ж ещё в «бандеровской» форме (среди благонамеренных никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм). Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решётками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов.
Так и в Кенгире всё гнездо благонамеренных (Генкин, Апфельцвейг, Талалаевский, очевидно Акоев, больше фамилий у нас нет; потом ещё один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него "циркулирует нога", — такой интеллигентный способ борьбы они допускали; а в самой Комиссии явно — Макеев, очевидно и Бершадская) — все они с самого начала упрекали, что "не надо было начинать"; и когда проходы заделали — не надо было подкапываться; что всё затеяла бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. (Да ведь и те убитые шестнадцать были — не с их лагпункта, а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть.) В записках Макеева выбрюзжано всё их сектантское раздражение. Всё кругом — дурно, все — дурны, и опасности со всех сторон: от начальства — новый срок, от бандеровцев — нож в спину. "Хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть". Кенгирский мятеж Макеев зло называет "кровавой игрой", "фальшивым козырем", "художественной самодеятельностью" бандеровцев, а то чаще — «свадьбой». Расчёты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и оттяжке расплаты. (А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая.)
Это очень верно выражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50-х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях мятежа, — а Талалаевский эти упрёки рассыпал вслух — и слученковская служба безопасности за агитацию, враждебную восставшим, посадила его в камеру кенгирской тюрьмы.
Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам (сношение с хозяевами) человека четыре, и ни один из них не был расстрелян (а наоборот, получил лучшее алиби перед Руководством).
Вообще же тюрьму, особенно мрачную старую, построенную в 30-е годы, широко показывали: её одиночки без окон, с маленьким люком наверху; топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где ещё холодней и сырей, чем во всей холодной камере; рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска.
Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих — кому не привелось посидеть и может быть не придётся. Туда водили и приходящих генералов (они не были очень поражены). Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей посёлка — ведь на объектах они всё равно сейчас без заключённых не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали — разумеется не из простых работяг, а персонал подобранный, который не нашёл, чем возмутиться.
Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключённых на Рудник (1-е и 2-е лаготделение Степлага), где по лагерным слухам тоже вспыхнул мятеж (кстати, слова этого мятеж , или ещё хуже восстание , избегали по своим соображениям и рабы и рабовладельцы, заменяя стыдливо-смягчающим словом сабантуй ). Выборные поехали и убедились, что там таки действительно всё по-старому, выходят на работу.
Много надежд связывалось с распространением таких забастовок! Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние.
(А свозили-то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен, от вольных слышали были и небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на запретке . И тоже началась забастовка, сбили ворота между лагпунктами, вывалили на линейку. На вышках появились пулемёты. Вывесил кто-то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем "Свобода или смерть!". Но его сняли, заменили плакатом сзаконными требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада — не дали. Что-то около недели забастовка продлилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней, это всё — из третьих уст, и вероятно — преувеличено.)
Вообще были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало: через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращение к заключённым с информацией, дезинформацией и одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками.
Ходит по полю девчёнка,
Та, в чьи косы я влюблён.
(Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь — проигрывание пластинок, надо было восстать. Коленопреклонённым даже этой дряни не играли.) Эти же пластинки работали в духе века и как глушилка — для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска.
По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить (в самом лагере зэки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям посёлка. Да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться — недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости). То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах Комиссии (даже об одном пахане: будто этапируясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и триста зэ-ка. Упор был на то, что именно бедных зэ-ка, да чуть ли всё не Пятьдесят Восьмую он потопил, а не конвой; и непонятно, как при этом спасся сам). То терзали Кузнецова, что ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы: работать! работать! почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству! (Это должно было пронзить сердца, обречённые на вечную каторгу.) Простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать! (Пусть постоят! — смеялись зэки, — скорей уступите! Но даже и им не приходила мысль, чтоб золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит.)
Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения, конечно, более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидростанции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик да не стали бы о своём восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто-то пускал.)
Появились в лагере свои дикторы (известна Слава Яримовская). Передавались последние известия, радиогазета (кроме того была и ежедневная стенная, с карикатурами). "Крокодиловы слёзы" называлась передача, где высмеивалось, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры.
Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире, — для вольных жителей посёлка, часто тоже ссыльных. А именно их, уже не по радио, а там где-то, недоступно для зэков, власти посёлка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки (такой вариант имел успех у жительниц[65]); что здесь истязают невинных и живьём сжигают в топках (и непонятно только, почему Руководство не вмешивается!..).
Как было крикнуть им через стены, на километр, и на два, и на три: "Братья! Мы хотим только справедливости! Нас убивали невинно, нас держали хуже собак! Вот наши требования…"?
Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги (на хоздворе чего только не было, мы писали о нём,[66] много лет он заменял джезказганским офицерам и столичное ателье и все виды мастерских ширпотреба) склеен был по примеру братьев Монгольфье огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! — ветер был быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками.
После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи:
— Спасите женщин и стариков от избиения!
— Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!
Охрана стала расстреливать эти шары.
Тут пришли в Техотдел зэки-чечены и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над посёлком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбою к каждому нашедшему кенгирцу — доставить её в ЦК.)
По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать.
Война воздушных змеев во второй половине ХХ века! — и всё против слова правды…
(Может быть читателю будет удобно для привязки кенгирских событий по времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле? Женевская конференция заседала об Индо-Китае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз писатель Сартр приехал в Москву, для того чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось 300-летие воссоединения Украины и России.[67] 31 мая был важный парад на Красной площади. УССР и РСФСР награждены орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шёл съезд профсоюзов (но о Кенгире там ничего не говорили). 10-го выпущен заём. 20-го был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Ещё эти месяцы 1954 года отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, фронте : Сурков, Кочетов и Ермилов выступали с очень твёрдыми одёргивающими статьями. Кочетов спросил даже: какие это времена? И никто не ответил ему: времена лагерных восстаний! Много неправильных пьес и книг ругали в это время. А в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединённые Штаты.)
В посёлке были ссыльные чечены, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнёшь, чтоб они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печёного хлеба. Разумеется, войска отогнали их.
(Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество — и расположение чеченов тотчас было завоёвано! Когда кажется нам, что нас мало уважают, — надо проверить, так ли мы живём.)
Тем временем готовил Техотдел и пресловутое «секретное» оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все ящики со спичками отнесли за дверь "100 000 вольт"). Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части.
Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то, по прошествии недель двух от начала, в одну из тёмных, ничем не освещённых ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы и не бунтари долбили её — разрушали стену сами войска конвоя! В лагере был переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли.
К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. (По ту сторону проломов, чтоб зэки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулемётами.[68] Это конечно была подготовка к наступлению через проломы, и в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб восставших решил: разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укреплённую саманными навалами против проломов — для защиты от пулемётов.
Так всё переменилось! — конвой разрушал зону, а лагерники её восстанавливали, и воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона.
Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов; назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго должен бежать ночью по сигналу тревоги и занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги.
Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулемётов. Кто и не был готов — подичась, привыкал.
Лихо до дна, а там дорога одна.
И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона Управления Степлага, на котором толпились чины, крытые погонами строевыми широкими и прокурорскими узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, — в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги и прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками и держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду, — и тогда с балкона (исключая автоматчиков из поля съёмки) зажужжали кинокамеры и защёлкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там ещё был, все члены партии, конечно, — смеялись дикому зрелищу этих воодушевлённых первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными обманутыми согражданами, и им было очень смешно.[69]
А ещё к проломам подкрадывались надзиратели и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить верёвочные петли с крючьями и затащить к себе языка.
Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах — не стреляем! перешедших — не будем судить за бунт!
По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спасаться — валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого.
Так и сделал… член самой Комиссии бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте как бы по делам. ( Как бы — не потому, что его бы задержали, или было чем выстрелить в спину, — а почти невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей![70] Три недели он притворялся — и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи: "Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик… Хотят подставить под пули тех, кто не берёт железок… Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия — ширма для бандитского разгула… Ведите переговоры, достойные политических заключённых, а не (!!) готовьтесь к бессмысленной обороне".
Долго зияли проломы — дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины.
Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне может быть тысячи. А бывших малолеток вызывали и на самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души, и слишком низкие законы, по которым "жизнь даётся однажды", и бытие определяет сознание, и шкура гнёт человека в трусость, — не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам:
— Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!
И операция так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, — операция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры.
И в стенной газете восставших рядом с рисунком — женщина показывает ребёнку под стеклянным колпаком наручники — "вот в таких держали твоего отца", — появилась карикатура: "Последний перебежчик" (чёрный кот, убегающий в пролом).
Но карикатуры всегда смеются, людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя… То, что по законам ГУЛага не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго — половину мая и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встреч и затей, — потом верили слухам, что поднялся Рудник, — может, за ним поднимутся Чурбай-Нура, Спасск, весь Степлаг! там, смотришь, Караганда! там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог! — но Рудник, заложив руки за спину и голову опустив, всё так же ходил на одиннадцать часов заражаться силикозом, и не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя.
Никто не поддержал остров Кенгир. Уже невозможно было рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведён снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка: приедет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет добрый и ахнет и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут держали? судить убийц! расстрелять Чечева и Беляева! разжаловать остальных… Но слишком точкою была и слишком розовой.
Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и сдаваться на расправу Степлагу МВД.
И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чём не замешан, и если осторожненько дальше — то и не будет. А кто-то был молодожён (и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛага были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, — каждое утро было для них даром неба.
А верующие — молились, и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. (Заставили их мыть посуду.) Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в тёплое, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да и к кому ж ещё…
А кто-то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. (Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце.)
Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им или держаться, — они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти.
— Товарищи! — уверенно говорил статный Кузнецов, будто знал он много тайн и все тайны были заарестантов. — У нас есть средства огневой защиты , и пятьдесят процентов от наших потерь будут и у противника!
И так ещё он говорил:
— Даже гибель наша не будет бесплодной!
(В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура.)
И когда голосовали — держаться ли? — большинство голосовало за .
Тогда Слученков многозначительно угрожал:
— Смотрите же! С теми, кто остаётся в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за пять минут до сдачи!
Однажды внешнее радио объявило "приказ по ГУЛагу": за отказ от работы, за саботаж, за… за… за… кенгирское лаготделение Степлага расформировать и отправить в Магадан. (ГУЛагу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, — за что те?) Последний срок выхода на работу…
Но прошёл и этот последний срок, и всё оставалось так же.
Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек только ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок; прачечная, смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже примирительные суды для спорящих. И даже… освобождение на волю!
Да. Внешнее радио иногда вызывало освобождающихся; это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошёл (или якобы подошёл?…) конец срока. Может быть, таким образом Управление и брало языков — без надзирательской верёвки с крючками? Комиссия проверить не могла и отпускала всех.
Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрей. (Правда, потом-то узнали, что за это время из-под Куйбышева выписали полк "особого назначения", то бишь, карательный. Ведь это не всякий и умеет.) Согласовывали подавлениенаверху ? И как высоко? Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление.
Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворота хоздвора — для того ли, чтобы проверить готовность защитников? Дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу. Но в зону не шёл никто.
Вся разведка защитников лагеря была — дозорные на крышах бараков. И только то, что доступно было увидеть с крыш через забор, было основанием для предвидения.
В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов ещё ямы (впрочем, У-2 все их сфотографировал или зарисовал).
Этот недобрый какой-то рёв добавил мраку.
И вдруг — посрамлены были скептики! посрамлены были отчаявшиеся! посрамлены были все, говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК!
Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно добиться! Значит, есть справедливость в нашей стране! Что-то уступят нам, в чём-то уступим мы. В конце концов и в номерах можно походить, и решётки на окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы до этого вышли на работу!
Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.
И даже противные трактора, поработав с вечера 24-го июня, замолкли.
Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра он и приедет, может уже приехал…[71] Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко. Как тринадцать лет назад.
На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвились и с вышек — и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы! Самолёты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. (Один из них всё-таки попал в яму.) За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами в касках. (И автоматчики и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска , а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела) подавали команды: "Берите такой-то барак!.. Кузнецов находится там-то!.." Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили.[72]
Издалека, со строительных конструкций, на подавление смотрели вольные.
Проснулся лагерь — весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти.
Бился Третий лагпункт — тот, который и начал (он был из двадцатипятилетников, с большим перевесом бандеровцев). Они… швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверно и серными угольниками в танки… О толчёном стекле никто не вспоминал. Какой-то барак два раза с «ура» ходил в контратаку…
Танки давили всех попадавшихся по дороге (киевлянку Аллу Пресман гусеницей переехали по животу). Танки наезжали на крылечки бараков, давили там (эстонок Ингрид Киви и Махлапу).[73] Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались в дощатые стены бараков и даже били внутрь холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн: как во сне отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин туда бросали.
Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок — боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, — кололи и женщин! Опер Беляев в это утро своей рукой застрелил десятка два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых бандитов . Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там.[74]
Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь (приём блатных).
Потом стрельба утихла. Кричали: "Выходи из бараков, стрелять не будем!" И, действительно, только били прикладами.
По мере захвата очередной группы пленных, её вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек.
(За этой заботой никому не был досуг развернуть «Правду» этого дня. А она была тематическая — день нашей родины: успехи металлургов, шире механизированные уборочные работы. Историку легко будет обозреть нашу Родину, какой она была в тот день .)
Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хоздвора: откуда брался ток и какое было "секретное оружие".
Победители-генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен и они выпили. Шумок от выпитого нисколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди — то навинчено было снаружи.
Убитых и раненых было: по рассказам — около шестисот, по материалам производственно-плановой части кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, — более семисот. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. (Вольным объясняли, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключённые сами.)
Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых, но для большего неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, остальных где-то в степи.
Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти дни — нещадно знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что — жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам.
Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму, переставшую служить экскурсионным целям. Больше тысячи человек — отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. (Как всегда, списки эти были составлены полуслепо: и попали туда многие ни в чём не замешанные.)
Да внесёт картина усмирения — спокойствие в души тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! — собираться в "камеры хранения" никому не придётся, и возмездия карателям не будет никогда.
26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проломы.
27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук.
Танки, давившие Кенгир, поехали самоходом на Рудник и там поелозили перед глазами зэков. Для умозаключения…
Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый и даже о нём-то мы толком ничего не знаем… Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вёл и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам не известны. Вероятно, Слученкова, Михаила Келлера и Кнопкуса расстреляли. То есть, расстреляли бы обязательно, но может быть 1955 год смягчил?
А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не преминули создать из недавних мятежниковударные бригады. Расцвёл хозрасчёт. Работали ларьки, показывалась кинофильмовая дрянь. Надзиратели и офицеры снова потянулись в хоздвор — делать что-нибудь для дома: спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Мятежные сапожники и портные (литовцы и западные украинцы) шили им лёгкие обхватные сапоги и обшивали их жён. И так же велели зэкам на обогатиловке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь — охотиться товарищам офицерам на сайгаков.
Тут общее смятение Архипелага докатилось до Кенгира: не ставили снова решёток на окна и бараков не запирали. Ввели условно-досрочное «двух-третное» освобождение и даже невиданную «актировку» Пятьдесят Восьмой — отпускали полумёртвых на волю.
На могилах бывает особенно густая зелёная травка.
А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали — и тогда тамошние жители из неуехавших ссыльных разведали всё-таки, где похоронили тех, — и приносили степные тюльпаны.
Мятеж не может кончиться удачей.
Когда он победит — его зовут иначе…
(Бёрнс)
Всякий раз, когда вы проходите мимо памятника Долгорукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы памятник Кенгиру.
Конец пятой части
Продолжение следует


 Конкурс "Русская Голгофа"
Конкурс "Русская Голгофа"



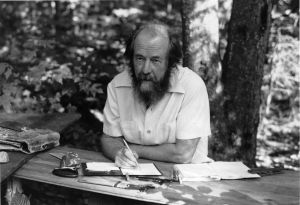





















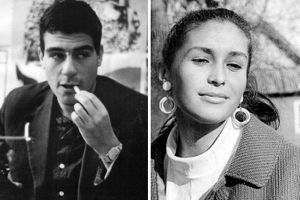






























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Виталий Даренский
Виталий Даренский