К шестидесяти годам, после доброй четверти века, проведенной мной на просфорной, впервые в жизни я оказался на руководящей должности. С подачи помощника эконома, Бориса Васильевича Серабиновича, меня назначили помощником коменданта мужского ставропигиального Свято-Данилова монастыря.
Надо сказать, что в нашей святой обители, первой, открывшейся на Москве с началом горбачевских «перестройки и ускорения», к моменту моего вхождения на начальственную должность хозяйственная жизнь была уже хорошо отлажена. Беря меня на работу, Борис Васильевич так прямо мне и сказал:
- Слушай, Иван… Иванович, я - человек простой. Надеюсь, и ты – такой же. Поэтому говорю по-простому, прямо: мы тебя берем поддерживать установившийся в монастыре порядок. Так что особо не суетись: вначале присмотрись хорошенько к сложившейся обстановке; и только потом уже, если что-то покажется тебе не совсем понятным, обращайся с предложениями ко мне. Сам ничего не ломай, не трогай. Монастырь у нас патриарший, и люди сюда стекаются соответственные. Случайно не за ту ниточку потянешь, всю мою многолетнюю кропотливую работу тут же сведешь на нет. Надеюсь, ты меня понял?
- Да, - пробурчал я ему в ответ и, выйдя из кабинета, вдруг ощутил себя мальчишкой-канатоходцем, в первый раз оказавшимся под куполом монастырского «цирка».
Сколько раз я видел этих людей, пробегающих с папочками по площади, роющих здесь траншеи или сгребающих снег в КАМаз, но только сейчас, впервые, я ощутил их вдруг, как единый, хорошо отлаженный механизм, работу которого мне доверили по мере сил поддерживать и подлаживать. Да, - подумалось мне тогда, - всё-таки хорошо быть простым просфорником: в пять часов утром встал, замесил в тестомесе тесто, дождался, пока оно подойдёт, вместе с товарищами-просфорниками превратил замес в заготовки к просфорам, подогрел их в растойке, выпек, и ты свободен до следующего утра, что хочешь, то и твори. А тут, столько людей, и все – не известно с какими связями, кому-нибудь лишнее слово скажешь, и улетишь на истоки, в Сумы, в холодно-голодный край, к безработной жене под крылышко. И словно бы в подтверждение моих мыслей пробегавшая мимо меня бригадир уборщиц, задержавшись на миг, с улыбкой Джоконды меня поздравила:
- Со вступлением в должность, Иван Иванович. Дай Бог Вам смирения и терпения. Просфорником можно было всю жизнь прожить, рассуждая об этих величайших христианских добродетелях чисто теоретически. Но теперь, раз уж Вы помощником коменданта стали, Вам придется их обязательно стяжать. Иначе в один присест можете из начальника превратитесь в обычного безработного. И что самое любопытное, назад ведь, в рабочие, дороги нет. Так что дерзайте, Иван Иванович, возрастайте в духовном плане, да и нас, дураков, за собой подтягивайте.
- Спасибо за вразумление, - поблагодарил я зама по работе с храмовыми уборщицами, и по совету бывалых начальствующих персон начал присматриваться к вроде бы хорошо знакомой, но, как потом оказалось, и впрямь совершенно иной уже «общественно-политической» обстановке.
Оказалось, что те же люди, с какими я много лет обменивался рукопожатиями при встречах, вдруг обратились ко мне совершенно иными гранями. Кто-то начал слегка надо мной подтрунивать, кто-то подобострастно стал заглядывать мне в глаза. Одни замкнулись в холодном пренебрежении; другие, напротив, принялись грубо и явно льстить. Кто-то довольно вкрадчиво пытался вкрасться ко мне в доверие; а кто-то бесцеремонно начал указывать мне, что делать и с кого начинать «прополку» подвластного мне состава. Одним словом, картина жизни резко переменилась. Но что самое любопытное, огромное большинство подходивших ко мне людей, будто сговорившись, начали намекать на то, что неплохо было бы для начала бригаду молдавских дворников разбавить хоть парочкой-тройкой русских. Уж больно в глаза бросалось: центральный московский монастырь, а бригада разнорабочих все сплошь кургузые деревенские мужички из дружественной нам Молдовы. Ну, неужели свои же, русские, не сумели бы точно так же пошаркать метлами по асфальту, а зимой загрузить лопатами снежный сугроб в КАМАЗ?
Когда подобных намеков и замечаний перевалило за добрую дюжину, я поневоле обратился к своему непосредственному начальнику, Борису Васильевичу, который, внимательно меня выслушав, кривенько улыбнулся и, помолчав, сказал:
- Ладно, Иван… Иванович, хочешь российских дворников, попробуй, не возбраняется. Кстати, это и будет твоей проверкой мною налаженного порядка. Только давай-ка, брат, начни собрать бригаду где-нибудь в ноябре, когда погода испортится. А пока мои молдаване пусть хоть немного передохнут.
На том мы и порешили. Летом, когда ко мне подходили русские, - москвичи там или провинциалы, - с целью устроиться на работу, я просил их перезвонить мне поближе к ноябрьской стуже. Только сразу предупреждал, зарплата у нас не ахти какая, а вот работы много: с пяти утра, пока монахи ещё не пошли на службу, и до конца снегопада, то есть жить им придется в монастыре, по трое в одном вагончике. Россияне безропотно соглашались, забивали в мобильник мой телефонный номер и прощались со мной до осени. Да только, как позже выяснилось, из кучи-малой парней, обращавшихся ко мне по весне и летом, к первым ноябрьским заморозкам не позвонил мне, увы, никто. С одной стороны, понятно: не может же человек, да ещё, если он - человек семейный, прожить без зарплаты с начала лета до середины осени; вот наши парни, видно, и поустраивались туда, где нашлось для них место работы ещё в теплое время года. Но, с другой стороны, хорошо запомнив ту ироническую улыбочку, с которой Борис Васильевич встретил мое предложение разбавить бригаду молдавских дворников ребятами из России, я поневоле слегка занервничал и со всё усиливающейся тревогой принялся поджидать подхода каких-нибудь новых русских.
Вскоре я их дождался.
Первым, в сырой и дождливый ноябрьский полдень, ко мне подошел высокий сгорбленный паренек из Тулы. Рассказав банальную историю о том, как его ещё в мае месяце приняли без документов на стройку дома, но потом, по прошествии полугода, вышвырнули со стройки, не заплатив, естественно, ни копейки, он жалобно посмотрел мне глаза в глаза.
Видя сравнительно юный возраст заглядывавшего мне в глаза просителя, я решил поверить ему на слово: выдал промокшему насквозь парню смену свежевыстиранного белья, отвел его в монастырскую душевую и хотел уже поселить в вагончик, как тут вдруг раздался звонок из прачечной, куда я отнес до этого снятые парнем портки и куртку.
Дрожащим взволнованным шепотком прачка Люся доверительно сообщила мне, что все нижнее белье у новенького завшивленно, и потому, естественно, ни о каком поселении этого человека в столь плотно заселенном месте, как монастырь, и речи идти не может.
- Нам тут только эпидемии не хватало! – закончила прачка в трубку.
После чего, естественно, я лишь вздохнул с досады и, дав парню немного денег на плацкартный билет до Тулы, прямо от дворницкого вагончика отправил его лечиться к одиноко живущей в деревне бабушке.
Поблагодарив меня за участие, Паренек страстно пообещал, что, избавившись от вшей, он тотчас вернется назад, в Москву, и отработает долг сторицей. Дружелюбно помахав мне на прощанье рукой, он вскоре исчез, растворившись в дождливых ноябрьских в сумерках, да так вот, как пишут в подобных случаях, и не проявился оттуда и по сей день.
Следующим русским оказался высокий костлявый мордвин с такою же сердобольной, как и у туляка, историей. Работал он якобы на окраине Москвы, в мебельном гипермаркете, в котором после декадной сверки оказалась большая недостача денег в одной из диванных касс, так что его, как единственного не москвича, заподозрив в воровстве, тихо, без разбирательств, вышвырнули на улицу, не заплатив, естественно, ни копейки.
А в ту зиму, надо сказать, снега не было до самого января. Наши дворники-молдаване, по установившейся до меня традиции, за неделю до Нового года разъехались по домам, встречать Праздник в кругу семьи. Возвращались они обычно только уже к Крещению, так что, понятия не имея, когда же выпадет первый снег, я и решил на свой страх и риск взять на работу залетного мордвина даже без минимальной, положенной в таких случаях полицейской перепроверки.
В ту же неделю ко мне подошел и третий, пожелавший пожить при монастыре русак. Им оказался плотный, пятидесятипятилетний доброволец «Русской весны» - до сих пор ещё необъявленной, но вот уже пятый год вялотекущей гражданской бойни - войны русских-великороссов с русскими-малороссами на Юго-Востоке Республики Украина. Этот мужик мне понравился много больше худого костлявого мордвина, который слова не мог сказать, чтобы не преткнуться об очередной, совершенно непроизвольно срывающийся с его губ мат. Доброволец «Русской весны», - а звали его – Андрей, - говорил по-русски вполне свободно; знал много церковно-славянских терминов и блестяще владел тем немного лилейным неоправославным новоязом, которым начали изъясняться после распада СССР практически все «миряне» - трудники многочисленных, вновь открывшихся монастырей и храмов. Андрей так и сыпал: «Простите, братья!», «Спаси, Господи», «Во славу Божью», перемежая рассказ о своих бесчисленных романтических переездах из одной православной обители в другую воспоминаниями о копке противотанковых рвов и окопов под Славянском и Иловайском. Глядя на его крепкую, подтянутую фигуру, на всегда чисто выбритые до блеска бугристые скулы и подбородок, я поневоле проникался к этому человеку искренним уважением и любовью; и не раз, - ещё до приезда моих кургузых, вечно замотанных молдаван, - мечтал про себя: ну, вот, Бог послал мне настоящего воина, командира, поставлю его со временем бригадиром, да так вот и соберу помалу бригаду из русских дворников.
Мордвин, естественно, в счет не шел. При виде его землисто-серого, обветрившегося лица, маленьких серых глазок и сжатых в тонкую нитку губ, из-за которых в любой момент мог вырваться крепкий соленый мат, я отчетливо понимал: этот долго тут не протянет. Оказавшись поблизости от святыни, если ты со своими страстями не борешься, то грешки незаметно берут над тобою большую власть, и ты уже поневоле, как бы сам себя, изгоняешь вскоре за ворота монастыря. Но, чтобы начать борьбу, надо хотя бы знать, что есть грех, а что – добродетель, не говоря уж о той премудрости, как то или иное духовное совершенство с помощью Божьей потом стяжать. А мордвин был в душевно-духовном плане человек далекий от православия, невежественный, сырой. И единственное, о чем я мечтал, глядя на его затравленно-высокомерный вид, так это о том, чтобы он, по крайней мере, дотянул бы без срывов до возвращения молдавских парней из отпуска. Правда, он, к сожалению, так и не дотянул. После первого же снегопада, который, как на грех, начался в Новогоднюю ночь, - мордвин, наклюкавшись до положения риз, вначале устроил пьяную перебранку с задержавшим его казаком, потом во сне наложил в штаны и, наконец, к пяти утра не смог выйти во двор на расчистку снега. Естественно, на следующий же день мне пришлось уволить его с работы. А ещё через двое суток явившийся к нам, в монастырь, работник прокуратуры деликатно мне объяснил, что мордвин-то, оказывается, убийца. Четверть века тому назад он убил в пьяной ссоре свою же родную матушку, отсидел потом восемь лет за непреднамеренное убийство, а сразу после того, как я его выгнал за пределы святой обители, умудрился украсть в магазине для «новых русских» дорогие американские зимние сапоги.
Короче, с мордвином я серьезно влип. И единственное, что спасло меня от разноса Бориса Васильевича, так это то, что набранные им дворники-молдаване втихаря разъехались праздновать Новый год по семьям, и мне ничего другого не оставалось, как затыкать образовавшуюся дыру в работе первым попавшимся россиянином.
Но на мордвина, как Вы помните, я особо и не надеялся.
Зато надежда моя и опора - воин из Новороссии прошел крещение снегопадом, в общем-то, вполне достойно. С бригадой из двух молдавских столяров и одного трактора, - их выделили ему в помощь, - он очистил весь монастырский двор от трехвершковых наносов снега, потом помог трактористу Васе загрузить этот снег в КАМАЗ и вывез его с водителем за пределы монастыря. Короче, к тому моменту, когда к Рождеству Христову в монастырь вернулась бригада молдавских дворников, Андрей превратился у нас в легенду. Его полюбили все, - и вечно всем недовольные, одинокие продавщицы церковной утвари, и разбитные, себе на уме, сантехники, и скромные задумчивые электрики, и даже важные, казалось бы ни на что не обращающие внимания бухгалтера. Ко всем Андрей успел подыскать свой ключик, со всеми нашел свою, общую тему для разговора: всем женщинам сделал по очень взвешенному, скромному комплементу, мужчин обаял героизмом прошлого и стойкою молодецкой удалью при уборке Первого снегопада. Исключительно по инерции я подчинил его молдавскому бригадиру, Юре, но внутренне понимал уже, что после Третьего, от силы Четвертого снегопада, власть перейдет к нему, - к скромному русскому воину из Новороссии, - к Андрею.
Второй снегопад Андрей тоже выдержал с честью. Окруженный кургузыми молдаванами, он бодро метал пласты сметенного трактором снега в ковш и помогал водителю обительского КАМАЗа точно припарковаться во время загрузки сугробов в кузов. Я любовался его работой и думал: ну, вот, и всё, - ещё пару таких загрузок и я пойду к Борису Васильевичу с предложением поставить достойного русского человека бригадиром над молдаванами. Ну а потом, - мечталось, - пойдет уже, как по маслу…
Осадки довольно редко выпадают дней пять подряд. После обильного снегопада обычно проходит денек-другой без всяких метелей и завирух. Так что за это время дворники могут немного передохнуть и к следующему бурану выходят на улицу посвежевшие, имея силы не только на очистку монастырского двора от снега, но и на добрые шутливые подтрунивания друг над другом.
Так случилось и в то злополучное утро, когда выпал Третий в моей начальственной жизни не скажу, что очень обильный, а, напротив, вполне умеренный, даже, можно сказать, ничтожный, не более, чем вершковый после рождественский снегопад.
Обычно к пяти утра, если снега выпадало за ночь довольно много, я вызываю трактор. Но в тот день я даже не позвонил трактористу Васе.
- Зачем, - подумалось мне тогда. – Снега – совсем немножко. Приедет Вася к восьми утра на работу, и с помощью молдаван быстренько уберет монастырскую территорию от небольших заносов.
С таким вот вполне благодушным настроением я и вышел тогда к восьми утра на монастырский двор.
Навстречу, с желтыми пластиковыми лопатами на плечах, шли гурьбой молдаване. Ребята весело перешучивались. А, завидев меня, поснимали сырые варежки, и подошли ко мне обменяться традиционным рукопожатием.
Пожимая по очереди их крепкие, мозолистые руки, я поневоле поинтересовался:
- А где Андрей?
- А он – на войну уехал, - ответил мне один из трех подошедших ко мне Георгиев. (У молдаван это имя особенно популярно, так что каждый второй из них если не Георгий, то уж наверняка - Юра).
- Как на войну? Когда?.. - немного опешил я.
- Да минут двадцать тому назад, - ответил мне самый плечистый Юра - метр шестьдесят с кепкой, - бригадир.
- А почему же меня не дождался? – промямлил я. – Или хотя бы позвонил?
- А он – очень спешил, - потупился Бригадир и пояснил затем: - Просил, чтобы ему, если что-то там причитается, переслали деньги на мобилку.
Тем вот и завершилась моя первая, да и последняя проверка установленного Борисом Васильевичем порядка. С тех пор я даже и не пытаюсь экспериментировать с национальным составом вверенных мне работников. Как при жизни Бориса Васильевича, так и теперь, через два года после его кончины, все монастырские дворники – исключительно молдаване. А вот сантехники, электрики, компьютерщики, кладовщики, - одним словом, - элита рабочей косточки, - все сплошь - русские, москвичи….
Январь, 2020 г.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

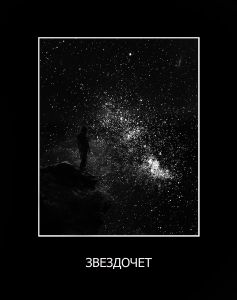




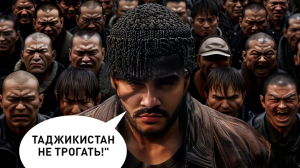






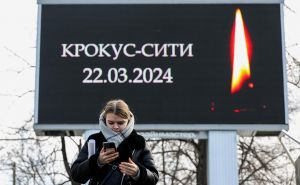






































 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов