НА ФОТОГРАФИИ: Олег Стрижак
Социальное происхождение
Его отец был выпущен после четырехмесячных курсов артиллерийским лейтенантом и в августе сорок четвертого командовал взводом сорокапяток. Вся его война состояла из одного выстрела в бою под Яссами. После этого немецкий танк уложил снаряд точно в его огневую, и лейтенант очнулся уже в госпитале.
Он лечился восемь месяцев и перед Победой был комиссован из армии по инвалидности.
А мать была из семьи раскулаченных и сосланных в голую казахстанскую степь. За полгода до ее шестнадцатилетия отец отдал дочери все семейные деньги, ей собрали лучшую одежду и отправили в город —устраиваться на работу. Чтобы через полгода, когда придет срок получать паспорт, она могла скрыть свое происхождение и не быть лишенкой — пораженной в правах. Иметь возможность жить где хочет и поступить в техникум или институт. Одна из всей большой семьи она получила высшее образование.
Вот в Алма-Ате девятнадцатилетний инвалид в лейтенантской форме и учительница, заочница пединститута, и познакомились. И поженились. И сняли каморку, и родился ребенок, и отец работал в мастерских, а мать окончила институт и получила прибавку к зарплате.
Отец хворал после ранений часто; он умер, когда сыну не было трех лет.
Ленинград
А Ленинград после блокады обезлюдел. И по всей стране открыли вербовку — городу нужны люди. Молодые, естественно, — чтобы работали и не болели. А какие после войны люди? Мужиков нет. И девки потянулись в Ленинград — в строители и в телефонистки, на фабрики и заводы, вагоновожатые и учительницы. Они получали койку в общежитии и прописку от предприятия, и гордость грела их — ленинградок. Счастье большого города сияло им. Через сорок лет Ленинград станет печальным городом старух, и только в аптеках и молочных отделах гастрономов будет видно, сколько девчонок было здесь в послевоенные времена.
И вот сюда приехала учительница из Алма-Аты с трехлетним Алькой. И вскоре преподавала уже не в школе, а на вечерних курсах, потом в институте, и ей предлагали писать диссертацию, и она думала, как забрать к себе из Казахстана старую мать, уже одинокую. А сын ходил в детский сад.
А баба она была собой видная, молодая энергия лучилась, и чертики плясали в глазах. И вышла она замуж за хорошего, образованного и домовитого мужика.
У хорошего мужа обнаружилась только одна отрицательная черта: выпив, он норовил мордовать пасынка. Так-то еще сдерживался. Но пил часто. Это бы и не такой грех, где ж непьющего возьмешь, да после войны, да сама не девочка и с ребенком. Но Алька отчима, тыловую крысу, возненавидел. За что и был регулярно лупцован. И стал кусаться и царапаться, а потом хватал кухонный нож или молоток.
С фингалами его не выпускали из дома, чтоб не позорил, но он ухитрялся сбегать, когда они уходили на работу, и являлся такой на уроки. Следовали вопросы, скандалы и порки. Отчим лупцевал все безжалостнее, и мальчик мрачно клялся, что всадит ему нож в печень или разобьет висок молотком. Мать плакала и в отчаянии обнимала обоих: она любила мужа и кляла свою долю.
После третьего класса Альку сдали в Суворовское училище.
Суворовец
Десятилетних мальчишек гоняли, как солдат. Училище давало полную школьную программу, плюс военные дисциплины, плюс усиленная физическая подготовка, плюс строевая. Внешний вид, подворотнички, начищенная обувь и отбой-подъем по секундам. Командиры рот — майоры, начальник училища — генерал. Спартанский дух воспитания демонстрируют случаи типа: рота в столярных мастерских на занятиях по ручному труду. Командир роты, показывая работу с циркулярной пилой, отпиливает вместе с бруском указательный палец. Брызги крови, опилки, гудение пилы на холостом ходу, молчание. Командир, прижав рану платком, поднимает другой рукой отпиленный палец и, кратко им жестикулируя, отдает приказ:
— Я в санчасть. За меня — суворовец Стрижак. Продолжать занятия.
Занятия продолжаются. Уважительный мат перемежается хохотом.
Труднее всего было с недосыпом. Что детскому организму при таком режиме нагрузок необходимо часов десять сна, никто не думал. Кормили прилично, содержали в чистоте и приучили к этому на всю жизнь, а вот спать хотелось постоянно.
Тяжелее всего было перед парадами, особенно ноябрьскими, темной осенью. Поднимали в четыре ночи и гнали на Дворцовую репетировать. Шеренги часами отрабатывали равнение, парадные коробки били строевой шаг единой ножкой, ботинки сбивались о брусчатку.
Везением было, если репетиция приходилась на банный день. Тогда прямо с площади шли мыться. Горячая вода и яркий свет гнали усталость. Среди кадетских присказок была: «Помылся — как выспался».
Потом, 7 Ноября и 1 Мая, народ умилялся парадному расчету суворовцев, а дети с горделивым молодчеством чеканили шаг перед трибуной с представителями партии и правительства. А кадетами они стали называть себя с самого начала, с создания училищ, с 43-го года, когда вернули в армию вместе с погонами слово «офицер».
…Тех, кто не тянул нагрузок, отчисляли. И таково было достоинство кадет, что когда в процессе хрущевских реформ пробовали заменить командиров взводов с офицеров в капитанских-майорских званиях на сержантов срочной службы — их в грош не ставили и подчиняться отказывались. Я прослужил пять лет, а ты, салага, полтора — ты что нюхал? Ты кто такой? Да это я тебя службе учить буду!
«Открываем сезон охоты на сержантов!» И на головы несчастных летели груды снега, ведра с водой и табуреты на швабрах. Пацаны жестоки, и жестокой была их школа. Сержанты дергались, смирялись и искали мирных путей решения всех вопросов.
Борец за мировой коммунизм
Ленинградское суворовское училище располагалось в бывшем Воронцовском дворце, за парковой решеткой на Садовой напротив Гостиного Двора. Сто лет до революции там был Пажеский корпус. А при советской власти — пехотная школа комсостава, она же позднее — Ленинградское пехотное училище. Конкретно для нашей повести это означает, что богатую и специфическую библиотеку Пажеского корпуса в блокаду не сожгли. Приказа не было теми книгами отапливаться. Казенное имущество и значится по описи, материально ответственные лица отвечают согласно законам военного времени. Военная дисциплина для курсантов.
Ну а поскольку в Пажеском корпусе обучались господа дворяне, то библиотека была в основном на французском. Дворянском языке. Что также ее обезопасило, не вызвав интереса красных курсантов. Вот книги на русском были просмотрены и уничтожены согласно инструкции Надежды Константиновны Крупской, которая успела поруководить библиотеками, приводя их в соответствие с пролетарской идеологией.
Но мальчик Олег, суворовец Стрижак, отличался повышенной энергией и любознательностью. Застекленные дубовые шкафы вдоль коридоров уходили под потолок. Ряды и тысячи старинных книг остались музеем другого мира, и погасшее золото корешков проступало запретными тайнами. Ключи же от запертых дверец сгинули по причине ненужности в незапамятные времена.
Вот между шкафом и стеной пролезала детская рука, взятым в столярке ножиком подковыривался и отгибался фанерный задник, и тяжелый том в тисненом переплете выползал и перекочевывал за пазуху. Их роту, видите ли, в качестве иностранного учили французскому языку. Для общего аристократизма офицерского корпуса был когда-то такой амбициозный замысел.
Суворовец Стрижак выучил французский сверх чаяний преподавателей и стал читать то, что выковыривалось с краев полок. Он не понимал ничего, и над ним посмеивались. Что было непереносимо. Для ясности — кличка у него в кадетке была Понтер. Упрямства и самолюбия мальчик был немереного.
Короче, к пятнадцати годам он осознал и усвоил Прудона, Штирнера и Бланки. Такой уж шкаф попался. И юный комсомолец Стрижак воспламенился идеями мировой справедливости. А это была эпоха романтической советской любви к революционной Кубе. Там, к сожалению, революция уже успешно закончилась. Но кое-где в мире борьба продолжалась! И следовало отдать все силы делу освобождения трудящихся всех стран! Вплоть до «не щадя своей жизни», как и положено.
Но коммунисты всегда осуждали тактику индивидуальной борьбы и выступали за политику организованных движений. А в характеристиках суворовца Стрижака отмечались его волевой командный характер и организаторские способности.
Я хату покинул, пошел воевать
И в пятнадцать лет воспитанник Стрижак был исключен из комсомола и отчислен с волчьим билетом из Суворовского училища за создание подпольной антисоветской террористической группы, нападение на дежурного офицера, нападение на дневального, взлом оружейной комнаты, кражу оружия, самовольное покидание территории части (училища) и переход на нелегальное положение с целью: нелегально перейти финскую границу, вопреки действующим международным правовым нормам добраться без виз и билетов до Латинской Америки — и присоединиться в Боливии к партизанскому соединению Че Гевары, чтобы участвовать в войне за освобождение боливийских крестьян и насильственную смену государственного строя иностранного государства.
Реальность
Их было пятеро — просвещенных и сагитированных зачинщиком. Ночью они заткнули рот дежурному майору, свалили и связали. Затем так же обезвредили дневального. Замок с оружейки свинтили ножкой табурета, всунув ее в дужку. Забрали два калашникова — учебных, с просверленными затворами. Лучших не было, а эти решили починить, заварить. А поскольку специально выждали для побега ночку потемней и дождливую — от дождя надо было как-то укрыться и пересидеть до света и суха.
Майор через пятнадцать минут распутался и поднял тревогу не боевую, а просто страшнее атомной. Двое суток ленинградский КГБ стоял на ушах и перерывал весь город. Группа профессионалов-автоматчиков в городе! — вы что, это же подарок по службе, рост карьеры, не зря хлеб едим, а то все думают, что нам после Сталина и делать уже нечего!
К концу вторых суток их взяли, сонных и пьяных, на квартире матери одного из пятерых. Дождь не кончался, идти было пока некуда, цивильной одеждой еще не разжились, а выпить и отдохнуть на воле хотелось. Ну и по портвешку.
При Сталине их бы шлепнули. Старше четырнадцати. Но тут — недавно сняли Хрущева, либерализм, равенство, гуманизм. Кроме того, Министерство обороны надавило на КГБ: не надо шума, товарищи особисты, вы что — хотите марать армию, ронять авторитет защитницы-Родины? И партия решила: наши суворовцы, комсомольцы, гордость, юная смена, да у нас вообще такого быть не может! Так что — тихо всем.
И дело спустили на тормозах. Ну выгнали: идите гуляйте, засранцы.
Юный гегемон
Возвращаться домой Альке было невозможно: он входил в силу и отчима убил бы в первый день. А брать хоть копейку от матери, которая поднимала двух дочерей, не позволяла гордость. Не для того он бежал из училища.
И вдвоем с товарищем по подвигам и несчастьям они устроились на кухню столовки — «ученик подсобного рабочего», то есть поломойка и судомойка. Тяжело, но не противней наряда по кухне, зато сыт. Сняли вдвоем каморку в полуподвале, жили. А перекантовавшись и получив на шестнадцатилетие паспорта, отправились на завод: «ученик слесаря». А там скоро второй разряд и здоровенная для пацана, самостоятельная, взрослая зарплата.
Рабочий-металлист — это становой хребет пролетариата, и отношение к нему советской власти было поощрительное. Юного слесаря заботливо оформили в вечернюю школу рабочей молодежи. А также привлекли к комсомольской работе. Бурное прошлое он скрыл, сказав, что был отчислен за неуспеваемость. И по новой вступил в комсомол.
В восемнадцать лет слесарь четвертого разряда Стрижак был комсоргом бригады, зарабатывал сто восемьдесят рублей в месяц — и окончил вечернюю школу с золотой медалью. Его фотография висела на Доске почета.
Я больше никогда не слышал о выпускнике вечерней школы с золотой медалью.
Карьера морехода
Он подал документы в Макаровскую мореходку, на судоводительский.
«Училище — это ты на всем готовом. Жилье, питание, одежда, койка с бельем. Да еще стипендия на карманные расходы. И система не военная — никто тебя так не дрючит, жить легче, в город выйти спокойно. А потом ты будешь штурманом и капитаном — увидишь мир, загранка, отдельная каюта. Да я мечтал об этом! Идеальный вариант».
При поступлении медалисту достаточно было сдать на отлично профильный экзамен. Алька с его золотой медалью сдал на пять математику, был зачислен и вселился в кубрик. Тяжкий период жизни кончился, и он прошел его с честью. Впереди была хорошая жизнь. Пока другие сдавали оставшиеся экзамены, он отсыпался, ел и гулял.
Это были счастливые четверо суток. На пятые сутки его вызвали к замначальника факультета по режиму.
За столом сидел человек в костюме, а на столе лежала раскрытая тонкая папка.
— Ты что же вздумал, Стрижак? — зловеще сказал он. — Отчисление из Суворовского училища в автобиографии скрыл? Исключение из комсомола — скрыл? Создание вооруженной преступной группы — скрыл?! Нападение на офицера при исполнении им служебных обязанностей!!! Побег!!! Попытка перехода границы!!! И после этого!.. в штурмана!.. капитаны!.. Что, думал — замаскировался? Как ты еще на свободе ходишь, ты же враг! Доверить судно!.. за рубежами родины!..
В лицо вытянувшемуся курсанту полетели школьный аттестат, заводская характеристика, справки с печатями и без, бумажки порхали в урагане мата:
— Решил, что органы ничего не узнают?!
Через полчаса бывший курсант, в собственной одежде и со своим чемоданчиком, сдав казенное имущество и поставив где надо подписи, вышел на улицу, и ворота захлопнулись.
Нокдаун
«Идти было некуда. Пошел я в свою комнату, еще хозяйкой не сданную. Запасные ключи я давно сделал и на всякий случай себе оставил. Купил пару бутылок, деньги еще оставались, выпил и лег на свой диван. Когда проснулся — пошел купил еще, выпил опять и лег на диван. А что делать?
Но долго лежать не приходилось. Потому что деньги кончились, а платить за комнату надо договариваться, пока не выгнали.
Вернулся на завод. Особо там не расспрашивали. Не поступил и не поступил, кто там вникать будет.
И стал ждать призыва в армию. Хрен ли мне эта армия после кадетки. Пусть кормят».
Флот
Здоровьем и силой бог не обидел, и в военкомате определили его на флот. «На флоте я отсыпался! Работать не надо, учиться не надо, жратвы хватает, служба фигня! А койка набита пробковой крошкой — оч-чень способствует качественному сну». Со своей медалью, характером и неоконченной кадеткой он тут же выслужился в старшины. Из которых был мгновенно разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию.
Отсидел на губе, вышел, был надежен, как стальной двутавр, восстановлен в звании и должности старшины корабельных акустиков. Разжалован за буйство и неподчинение непосредственному командованию и определен к двум месяцам гауптвахты с оттяжкой решения насчет суда и двух лет дисбата.
На этой второй губе он понял службу. Вдруг стал по памяти переводить с французского Превера. Начал сочинять стихи. Продиктовал их под запись дневальному для корабельной стенгазеты. На словах (а относились к нему матросы хорошо, твердое наглое буйство льстило их классовому чувству) передал просьбу помполиту послать их во флотскую многотиражку. Из воспитательных соображений и демонстрируя собственные успехи в воспитании личного состава, помполит стихи послал и сопроводил звонком и личной просьбой.
Стихи напечатали, и дважды разжалованный старшина второй статьи Стрижак прославился. Он написал благодарственное и покаянное письмо помполиту, которое тот хранил всю службу как высшее достижение своего воспитательского таланта. Отбыв заслуженное наказание, перековавшийся матрос взял на себя повышенные социалистические обязательства повысить классность и воспитать двух новых специалистов из молодых. Писал заметки в стенгазету, стихи во флотскую многотирагу и выступал на комсомольских собраниях. Его снова восстановили в звании и приводили в пример.
Старшина первой уже статьи Стрижак выразил желание после службы продолжить учебу и поступить в институт. И отец родной помполит поспособствовал оформлению на заочные подготовительные курсы в Ленинградский университет. На журналистику. Как автора заметок и стихов.
Когда на учениях его акустики первыми засекли шумовую цель, а корабельная шлюпка, в экипаже которой он был левым загребным, победила на флотских гонках — ему предложили вступить в партию. По левому загребному, кто вдруг не знает, равняется в такт вся шестерка гребцов; тут нужна сила, резкость и чувство ритма. А насчет кандидата в партию он подумывал после тех шестидесяти суток.
Журфак
Он ушел в запас главстаршиной, ушитая суконка в значках и широкая лычка поперек погона. И поступил на журналистику Университета. На заочный. Потому что надо было где-то работать, чтобы кормиться.
На работу его взяли в газету не Северного уже, где он служил, а Балтийского флота — «Страж Балтики». Он принес пачку вырезок и справку с журфака. Доказал класс за два месяца испытательного срока. И стал младшим корреспондентом. Без высшего образования — восемьдесят рублей ставка. Гонораров там не платили.
Студентом он был не совсем обычным. На заочном не пять курсов, а шесть, обучение растянуто для людей работающих. Алька окончил шесть курсов за три года — по четыре сессии в год.
Его красный диплом мы обмывали шумно и весело — конец июня, белые ночи, бутылки не умещались на столе. В деканате он взял большую выписку — ведомость всех экзаменов за все годы — и прилепил на стену. А так. На нее брызгали водкой из стаканов — обмывали. Там было несколько столбцов пятерок — и ни одной другой отметки.
Редактор
В «Страже Балтики» он стал полноправным корреспондентом, старшим корреспондентом, завотделом, выпускающим редактором и замредактора. И через два года ушел, умоляемый остаться и сопровожденный небесной характеристикой. И такое бывало.
А стал он, молодой член партии, из рабочих, служил на флоте, образование неоконченное высшее журналистское университетское, русский, женатый уже к тому времени, — младшим редактором издательства «Лениздат». Историко-партийной редакции.
Сейчас уже не поймут, какое это было серьезное место, идеологическое, политическое. Партийные и военные мемуары тут просеивали, редактировали и издавали. И анкеты редакторов должны были соответствовать серьезности требований. Поэтому все анкеты были отличные, а большинство редакторов были полное дерьмо, ибо ни от кого нельзя ждать совершенства.
Так что пришелся им даже еще не двадцатипятилетний, юный, можно сказать, Олег Стрижак с анкетой чище горного снега ну исключительно ко двору. Работоспособен, энергичен, исполнителен, землю роет и план подготовки рукописей перевыполняет.
И тут он оказался для авторов Олег Всеволодович. И впервые ощутил уважение к себе не только подчиненных и корешей. Его книги отмечались как хорошо оформленные и в срок сданные, а на вручении издательству переходящего знамени он нес и держал его как мужчина со строевой выправкой.
Потом он стал просто редактором, потом старшим редактором, а на столе у него стоял вымпел «Лучший редактор», и ему все еще не было тридцати. И контрастировал он всегда в коллективе свежестью и отглаженностью, выбритый до сияния, и стол его был чист от бумаг, перед отходом он протирал его влажной тряпкой, плеснув из графина; и никогда я больше не видел, чтобы так же протирали телефонную трубку. «Она же сальная от ушей и рук, к ней прикасаться противно», — удивлялся он.
 Редакция газеты "Смена". Голодовка редакции газеты "Смена" против нарушения закона о печати и отказа регистрации газеты "Смена" как независимого издания. Виктория Морозова (в центре) и Олег Стрижак (справа). Павел Маркин/Интерпресс
Редакция газеты "Смена". Голодовка редакции газеты "Смена" против нарушения закона о печати и отказа регистрации газеты "Смена" как независимого издания. Виктория Морозова (в центре) и Олег Стрижак (справа). Павел Маркин/Интерпресс
Драматург
Он писал стихи, а потом принялся сочинять короткие пьесы. Одноактные. И носить их по театрам. Завлиты пьесы заворачивали, но автор шел вновь на таран. И ему насоветовали семинар молодых драматургов-одноактников при Ленинградском союзе писателей. Он с ненавистью слушал комплименты звонким от глупости стильным дамам, читавшим свой бред про картофельные бурты и раскаленные заготовки: они познавали жизнь в домах творчества.
А потом был Всесоюзный семинар молодых драматургов, который решили устроить на Соловках. Характерный географический подтекст. И в первый день, представляя сонм юных дарований обществу, маститый и знаменитый тогда Игнатий Дворецкий возвещал:
— Это Андрюша Треполев. Автор прекрасной пьесы «Дикий табун». Это Эльвира Крутикова, очень перспективный наш молодой автор ряда чудесных произведений. Это Павел Венгеров, у него готовится к постановке водевиль в Театре комедии. Это Олег Стрижак... — Дворецкий положил коротенькую ручку на плечо сидящему в ряду прочих Стрижаку и на миг задумался. — Он бывший матрос.
Стрижак побледнел от унижения. Кто-то тихо хмыкнул.
Общий ужин после открытия состоялся в зале Соловецкого монастыря, и самым интересным в ужине был десерт. Употребив на десерт литр водки, в стороне от общей беседы, Стрижак задрал свитер, вытянул из брюк флотский ремень и намотал на кулак. Встал, посек воздух бляхой и сказал молодым драматургам все, что о них думает. Сказал он чистую правду, и не было в той правде ни одного печатного слова.
Самый крупный драматург мужского пола возразил. Его Стрижак погнал по монастырскому коридору первым. Коридор был длинный, а выход один и узкий, такая монастырская архитектура. Драматург бежал в конец и обратно, народ возмутился, и через два челночных пробега Стрижак гонял ремнем вдоль коридора уже весь семинар. Дворецкий вспомнил молодость и решил пресечь безобразие.
— Ну что, враг народа недодавленный, чмо лагерное, объяснить тебе разницу между матросом и главстаршиной? – процедил Стрижак ему в глазенки, но бить не стал. Бестактное напоминание о несчастьях молодости ошеломило Дворецкого.
Сосед по камере, то есть келье, в смысле комнате, тихий рассудительный эстонец, увел уставшего погромщика отдыхать.
— Теперь надо отдохнуть, — справедливо рассудил он. Обнял за плечи и увел.
Семинар отдышался и стал громко негодовать.
А в комнате хозяйственный и аккуратный сосед-эстонец достал кофеварку, бутылку «Вана Таллина», налил кофе в чашечки, а ликер в рюмочки, и они выпили за здоровье. Закурили, он спросил, хочет ли Стрижак еще рюмочку, и выпили по второй.
«Третья рюмочка не предлагается!» — с ненавистью вспоминал Стрижак. Закрытая бутылка постояла на столе и вернулась в тумбочку.
А назавтра началось обсуждение пьес. Автор читал вслух свою рукопись. Остальные слушали. После вчерашнего банкета глаза у них закатывались и тела кренились со стульев. Там была длинная история с особым приемом. Муж, жена, взрослые дети и сослуживцы спорили, выясняли в квартире отношения, смысл жизни и будущее страны. А за стенкой, в соседней комнате, умирал человек, приезжали врачи — контрапунктом, изредка вставной кадр. В конце конфликт разрешился, и все стало хорошо. А вот неизвестный сосед умер. Такая неоднозначность жизни философская.
— Ну, кто хочет высказаться, товарищи? — очнулся от летаргии Дворецкий. Под глазом у него оказался синяк.
Стрижак встал и посмотрел на автора с мрачным вдохновением.
— Отличная пьеса, — сказал он. — Но можно еще лучше, и даже проще. Представьте: сцена. Посередине, под лампой — кровать. И на ней два часа умирает человек, вы понимаете — умирает он, это же трагедия! А за стеной два часа — вот вся эта мутотень!..
Больше его ни на какие драматургические сборища не приглашали.
Навигация: четыре темы
Так называлась его первая книга. О флоте, на котором он служил, о корабле, о друзьях-старшинах одного призыва, о шлюпочных гонках на праздновании Дня флота, об учебке в Лазаревских казармах Севастополя и холодном океане Севера.
На дворе стояла середина семидесятых, и куря как-то на скамейке Банковского садика, мы сказали друг другу:
— Мрачное эн-летие уже наступило…
До нас начинало доходить. Гайки были уже закручены. Пути перекрыты. Старики боролись за свое место у корыта. Молодых душили на корню. Все эти «Съезды молодых писателей» были боковым каналом, из которого стареющих молодых отводили от редакций и издательств и сливали потом в никуда.
Первую повесть из четырех, составляющих книгу, ему удалось напечатать в коллективном ежегодном сборнике «Молодой Ленинград». Пусть не целиком, но большой кусок. Места не хватало, желающие плакали и жаловались. Притом что Стрижак сам был редактором Лениздата, свой!
А потом книгу приняли и поставили в план, и она выходила меньше трех лет — это было очень быстро, это было прекрасно, классики типа Гранина ждали выхода два года — то был генеральский уровень! И по семь лет выходили ведь книги, таково было плановое советское издательство.
А потом ему был назначен редактор. И прозвучала сакральная фраза, за которую их всех хотелось бить и гнать гнить пожизненно на осенние поля: «Ну, давайте работать над книгой!» Тупая, никчемная, усредненная во всем тварь среднего пола самоутверждалась.
Первым делом она категорически похерила название: мол, непонятно, неверно, четыре темы — это только в музыке. И просто слово «навигация» тоже нельзя, это же не книга по морскому делу, должен быть эпитет, определение.
Человек, который пишет: «Барабанная дробь дрожала в ясных стеклах» — умеет писать. Текст был шлифован, стиль щеголеват. И мотать ему нервы, правя и требуя не «попьет водички из кранов» — о шатающемся ночью в тревожной бессоннице матросе, а из «крана»: «Олег! Ну при чем здесь множественное число? Это же неправильно!» — ей что, про устройство корабля и расположение умывальников рассказывать и сколько времени та бессонница продолжалась и шатания?
А право у советского писателя пред лицом редактора было только одно: забрать рукопись и уйти вон. Больше никаких прав не было. А редактору на автора было глубоко плевать, если только не начальство литературное. Прибежит, родимый, куда он денется, в затылок очередь жаждущих дышит.
И все-таки книга вышла. И был Стрижаку в те поры всего тридцать один год. Для семидесятых — мальчишка, выскочка, самородок.
И когда ему говорили друзья: «Алька, ну все-таки оченно она у тебя эта вся книжка советская, и главный герой твой Шурка этот Дунай такой вообще отличник боевой и политической подготовки!» — он отвечал, светло улыбаясь:
— Дураки, верхом на Шурке Дунае я въеду в большую литературу, как на белом коне!
И добавлял:
— Не читали вы книг о современном флоте, не тонули в розовых соплях. Замполита на вас хорошего не было.
КГБ
Ты мог не интересоваться КГБ, зато он всегда интересовался тобой.
Историко-партийная редакция Лениздата — объект очень идеологический. Там проходит и сортируется поток неоднозначной информации.
Ветераны войны с нездоровым умом и вывихнутой памятью несли мемуары и за стаканом редакционного чая перевирали государственные тайны. Что в сорок первом году иногда сдавались целыми полками, строем и с развернутым знаменем. Что разведгруппа могла в полном составе уползти к немцам и сдаться. Что в сорок пятом в Восточной Пруссии могли танком проехать по колонне беженцев, а немок насиловали только так. Что СМЕРШ пытал и расстреливал невинных — а по тупости, по инструкции или для примера — чтоб боялись. Валили это все из доверия, как своим, не для печати.
Так что редакторы, люди проверенные и советско-правильные, невольно проникались через излишнюю информацию некоторой излишней широтой взглядов. И начинали подумывать что не надо и почитывать чего не велено. Наживали профессиональное двуличие.
Вот так Алька получил на прочтение «Зияющие высоты» Зиновьева, которые мы вместе читали у него на кухне и ржали от наслаждения. От него я получил на сутки «Лолиту» издательства YMKA-Press и «Архипелаг ГУЛАГ» на ночь.
Вскоре его и пригласили на Литейный побеседовать. Кто что говорит в редакции, да не носит ли кто книжечки антисоветские, да может кто из авторов придерживается в душе взглядов не наших? То есть стук был, но конкретики не предъявили.
Мы с его женой ждали дома. Он приехал сероватый и влажноватый, выпил стакан «Столичной» залпом, закурил и сказал:
— Ну что, — сказал он. — Все мы, конечно, здоровые ребята со стальными нервами, но когда доходит до дела, что я скажу... И улыбчивый такой парень сидит, ненамного меня старше. И все знают, суки! Такое ощущение, что стучат у нас все. Выпил я графин воды, выкурил пачку «Беломора», перебрал все варианты, что я буду делать, когда откинусь с зоны (больше пятерки за хранение и разговоры вряд ли дадут), и вышел через два часа в мокром пиджаке. Уж больно было неохота опять со дна подниматься. Даже бутылку взять сразу не сообразил, домой поехал.
Он выпил второй стакан, закурил и сказал:
— Так что я, герр лагерфюрер, и после второй не закусываю. Аппетита нет.
И только тогда мы начали ржать.
Союз писателей
Сейчас союзов писателей много, и ни один на фиг никому не нужен. А при советской власти это было ого-го. Ало-вишневые корочки с золотым гербом хранятся у меня на память, там подпись генерал-майора КГБ Юрия Верченко — второго, рабочего секретаря Союза писателей СССР.
Член Союза имел право нигде не работать, а стаж шел: он был официальный творческий деятель. Его рукописи лучше принимались в редакциях: официальный писатель, а не «самотек» с улицы, который отпинывали. Для него было издательство «Советский писатель» с отделениями в республиках и некоторых облцентрах. Прочие издательства тоже предпочитали исключительно их. У них были выше и гонорары. И таких членов было в Союзе 11 000 человек.
Элита их — верхние две сотни в Москве, два десятка в Ленинграде и по полста в национальных республиках — процветала. Их переиздавали и оплачивали высшей ставкой не за качество книг, а согласно рангу. Они ездили за границу, жили в дачах-коттеджах, все это за казенный счет. И получали деньги за элитность: участие в разных комиссиях, членство в редакциях, поездки на совещания и прочую всевозможную хренотень.
Но главное — статус. Реноме. Престиж. Социальный уровень. Член Союза писателей — это был уровень генерала, профессора, директора, секретаря райкома партии. Не считая маститых — которые шли по уровню маршалов, министров и членов ЦК, типа Шолохова или Сергея Михалкова.
В 1934 году по приказу товарища Сталина этот Союз, фактическое министерство литературы, создали — и приняли туда кучу народу. Потом были отстрелы и лагеря, война, алкоголизм и болезни старости, кто дожил до старости. И к ХХ Съезду Партии, к хрущевской оттепели, письменников осталось на раз-два — а где молодежь? Благодарная Никите за хорошую правильную жизнь?.. И с 56-го по 65-й гребли частым гребнем, по одной книге, да что книге — по двум рассказам принимали в Союз, бывало; случалось и по рукописи!
А в 70-е сработал «закон трамвая»: уже тесно, куда прете, закрывайте двери! Первая книга — к тридцати пяти, прием в Союз — к сорока.
С неописуемой наглостью автор первой и единственной книги Олег Стрижак — русский, коммунист, из рабочих, редактор с грамотами и благодарностями, журналист, образование высшее — университет, семейный, — подал заявление о приеме. Ему едва исполнился тридцать один год! Рано, товарищи! Анкета — это еще не все. Пусть поработает, проявит себя, выйдет вторая книга, тогда посмотрим. Поспешный успех может погубить молодой талант.
Но к тридцати одному году пообтершийся в жизни и присмотревшийся к писательской среде молодой талант отточился в деле цинично и зло. Уважаемых коллег он в грош не ставил, и мнения их в гробу видал. Книги нужных людей оказались продвигаемы в Лениздате быстрее очереди. С нужными людьми было пито. Нужным людям была вылита цистерна лести — правильной, грубой, в глаза. Связей и покровителей у него не было — одиночка, выскочка, гордец.
Со второго раза его через год приняли. И на всех совещаниях ставили это себе в заслугу: вот как мы работаем с молодыми, товарищи, растим юные дарования, продвигаем перспективных юношей.
Еще долго он был самым молодым в этом клубе старперов. Не считая одного секретарского сына.
Рейс к свободе
Вступив в Союз, он занялся вступлением в Литфонд, а это не автоматически. Потому что Литфонд распределял конкретные блага — поездки, воспоможествования, дачи, а главное — писательские квартиры: это была площадка беспощадной внутривидовой борьбы. И вступив, стал выбивать квартиру.
С женой он расстался тяжело, все ее осуждали, дом держался на Альке, все делал он, статный сероглазый блондин с характером и талантом должен был жениться на кинозвезде; видимо, ему на всю жизнь не хватило материнской ласки в детстве.
Он скитался по углам и писал роман. И в конце концов выбил однокомнатную квартиру на Васинском, в Гавани.
И тогда он огляделся и перевел дух.
У него было собственное жилье — впервые в жизни. У него была книга и публикации в периодике. Удобная престижная работа. Он был член Союза писателей и Литфонда. Имел отличный послужной список и массу связей. И был он молод, здоров, распираем энергией и хорош собой. А на полке стояла рукопись романа. Она была собрана в десяток толстенных папок, а конец еще не виделся.
Он был аккуратен, к водке относился ровно и привычки сорить деньгами не мог иметь по жизни. На сберкнижке были деньги, а в редакции регулярные платные рецензии.
И он ушел с работы. Уволился. Имел право.
Хорошая жизнь
Впервые в жизни он проснулся утром — и ему не надо было ни о чем заботиться и никуда идти. У него был свой дом. И деньги на жизнь. И положение в этой жизни. И возможность делать все, что угодно.
Кончался май, и он пошел на пляж. Дремал и жарился на солнце, пока не сгорел. Дома заварил чай и сел вечером за письменный стол. И с наслаждением работал до утра, и лег спать утром, не заботясь о том, что днем идти на работу и по делам.
У него все было. Впервые в жизни. Все свое. Заслуженное и заработанное. И каждый день можно ничего не делать. И завтра. И через месяц. Никаких обязательств ни перед кем.
Это ошеломляло.
Роман
Роман назывался «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках». Был он легок, текуч, бесконечно извилист и прозрачен (так и хочется сказать: «как ледяной родник», но ведь банально будет) — но и одновременно глубок, нагружен, увесисто мощен в своей глубине; ну, в общем, вы поняли, что я пытаюсь сказать. Кто не верит — легко заглянуть в Сеть.
Уже гремела перестройка, приблизился конец Союза, взлетели миллионные тиражи, издателей интересовало белогвардейское, антисоветское, лагерное, а также модернистское и жестко демократическое. Стрижаковский роман никто не брал.
В журнале «Радуга» (я жил тогда в Таллине) я напечатал три отрывка из него. Больше не позволял наш крошечный объем.
…Книгу выпустил Лениздат, и только в 1993 году — году раздрызганном, голодном, жутком и растерянном. И ее заметили, отметили, оценили высоко, и с колес перевели на французский, и она получила премию Литературного салона Бордо и второе место на Международном конкурсе Медичи; и приглашенный во Францию автор пожал свой урожай лавров, признания, похвал.
Это была лишь первая книга романа из задуманных и организованных шести. И было Олегу сорок два года, и стоял он на вершине; путь был открыт, ход набран, и сил было много.
Конец
Ему было сорок два — акме, возраст вершины, встреча еще молодой энергии с уже зрелой мудростью.
И у него было все. И венцом этого всего — возможность не делать ничего. И жить, и быть собой: наработанное положение, имя и статус были как шатер с флажком на куполе. Или призрачная сфера.
И тогда в нем — неожиданно и неощутимо — оказалась сломана пружина. Вялая, бессильная, отсутствующая... И перестал работать взрыватель; не вспыхивал порох; туго сжатый пар не толкал поршни.
Веселая, неукротимая, жадная, злая жажда жизни — постепенно и тихо перестала быть. Словно вышел воздух, и медленно тускнел и гас в нем былой огонь. Он вдруг стал толстеть, тучнеть, грубеть, тяжелеть. И год за годом веселье оставляло его, он мрачнел, его независимость переходила в нелюдимость.
Обнаружились болезни и стали одолевать, невроз разрушал все планы, одолевала бессонница, приходилось лечить сердце, усугублял все болячки диабет.
Изнуряла бедность. Он, всегда умевший заработать и гордившийся этим, любивший зарабатывать деньги и готовый к любому труду — стал жаловаться на вечное безденежье.
Членство в распавшемся Союзе писателей и погоревшем Литфонде перестало что-либо значить, оплаты рецензий не хватало на батон, анкетные данные стали пустым местом. Инфляция съела не деньги, а все ценности жизни, ее победы и смысл. Хозяевами мира были бандиты и бизнесмены, русскими книгами издатели не интересовались.
Его путь наверх был покорением горы, на которую не взойдешь дважды. И вот на этой вершине свобода оказалась пустырем при разбитом корыте.
О, в мутной воде девяностых он мог сделать состояние, создать свое издательство и разбогатеть, раскрутить любой бизнес и подняться в любой карьере. Ему хватало умения, характера, уверенности в себе, хватки. Но силы кончились. Он прошел всю дистанцию в высоком темпе и выиграл забег — но начать новый уже не мог. Отпущенный ему заряд энергии и стойкости жизнь уже съела.
Конечно, психоневропатолог классифицирует это как депрессию и назначит лечение: медикаментозная схема, режим, спорт и оптимистические развлечения. И будет прав. Ибо депрессивное состояние есть болезнь.
Но есть одна вещь, мешающая избавиться от депрессии. Синдром достигнутой цели в сочетании с разрушением жизненной ориентации. То есть ты получил в этом мире все, чего хотел, но этот мир рухнул, и твоя жизнь больше никому не нужна, а ты уже израсходовался. Возраст, энергия, нервы, здоровье — уже не те. И цена успеху не та. И тебе не та цена. И сам уже не тот.
Один мой знакомый сказал гораздо проще: «Надорвался».
Я часто вспоминаю рассказ Джека Лондона «Отступник». Про мальчика из бедной семьи, тяжко и старательно трудившегося на заводе с раннего детства, кормильца братьев-сестер и опору матери. В шестнадцать лет, изнуренный и изуродованный трудом, потеряв все чувства от отупляющей усталости, он ушел в бродяги. Он мечтал о сказочном счастье ничего не делать и отдыхать сколько хочешь. «Поезд тронулся. Джонни лежал в темноте и улыбался».
Что потом
Он уже не имел сил и напора продолжать и закончить роман. И любые попытки помочь, пристроить, издать отметал с большим раздражением, разговоры эти были ему неприятны. Обреченно возражая, что все равно ничего не будет, что никому ничего не нужно, что пустые это все разговоры, и он просит их прекратить, зря не травить ему душу.
…Так прошло двадцать пять лет. За эти четверть века он выпустил брошюру о Балтийском подплаве, статью об организации Октябрьского переворота царскими генералами и два очень тонких сборника стихов.
Он хлопотал о пенсии, у него не было компьютера, не было приличной одежды, он категорически отвергал любую помощь, подолгу не выходил из дома, не хотел видеть даже друзей по кадетке.
Он умер в шестьдесят семь неполных лет. Время спустя был найден в пустой квартире. И похоронен на Серафимовском кладбище.
Я помню
Я помню, как он свистит под моим окном во дворе на улице Желябова и поднимается по лестнице — в отутюженных бежевых брюках, снежно-белой гипюровой рубашке, в темных очках, с бутылкой в редакторском портфеле. Как мы курим на скамейке в Летнем саду и знакомимся с девчонками. Как в четвертом часу ночи, допив энную бутылку, он извлекает из парфюмерного набора жены модный одеколон сезона «Горная лаванда», я разливаю его в две чашки, сую в свою палец и душусь, и этот мерзавец сует свой палец в мою же чашку, и мы ржем и допиваем этот дижестив. У нас была хорошая совместимость — никогда не пьянели, если пили вместе.
Как он шлепает на стол «Молодой Ленинград» и гордо предъявляет сто девяносто рублей гонорара. Как приезжает к нему в гости из Краснодара сослуживец Ваня, здоровенный бугай, и уважительно говорит: «Алька у нас на шлюпке левым загребным был» — чего я раньше и не знал.
И «Беломор», и коричневое пальто с меховым воротником, и как 9 Мая мы встаем и он говорит: «Ну, за наших отцов».
О времени, месте и поколении
В молодости видишь только детали, а с возрастом они все больше собираются в пазл. Жизнь он называется. Или даже история.
Мы оба с ним принадлежали к поколению, о котором я тридцать лет назад, на излете Советского Союза, написал «Дети победителей». Мы оба вошли в жизнь в начале семидесятых — как мордой в дверь.
В Ленинграде была своя литературно-андеграундная тусовка, из которой помнят сейчас Наймана, Рейна, Довлатова, Лену Шварц. Юру Гальперина забыли, Витю Кривулина помнит только литературный круг, Монастырский был человек специфический, Боря Дышленко исчез с горизонтов. Ну, Сайгон — это отдельная летопись.
Вот всех групп и Алька, и я чуждались. Не то главное, что из всей культуры там воспринимался исключительно Серебряный век и гонимые советской властью. Групповой код-ограничитель. Но было там нечто морально ущербное. Там (имманентно, сказал бы я в философическом анализе) присутствовала некая непомытость, непостиранность, неопрятность, некрасивость в пьянке и убранстве, впечатанная второсортность в дружбе и сексе. Там не могло быть подвигов во имя любви красавицы, и красавицы быть не могло, и заступиться в мужской драке там тоже быть не могло. Там бездарно спивались, бездарно трахались и говорили друг другу, что они гении. Неинтересно. Не ярко. Без куража. Не было этого: «С весельем и отвагой!»
Мы оба полагали: хочешь писать — пиши. А когда печататься настолько трудно, а в литературе уже было столько гениев — писать имеет смысл только предельно хорошо, на грани, на износ, любой ценой. А богемная неопрятность и бессмысленная атрибутика — это для комплексующих неполноценностью. Достоинство профессионала — отсутствие внешних указателей. На понтах только дешевка. Будь обычен с виду.
И никогда не ной! Не жалуйся ни по какому поводу. Никто не смеет тебе сочувствовать. Никто, никогда, ни в каких условиях не может сделать тебя несчастным. Не озлобит, не сломает, не сделает жалким.
Ты нищ? Но на людях должен распространять небрежное благополучие. Тебя прижало? Всем должно быть видно — все тебе по фигу.
Такими мы и были в те семидесятые ленинградские годы. Чем озлобляли ревнивых коллег.
У меня в голове иногда звучат сами собой старые детские стихи: «Чайки кружились у них за кормой. Чайки вернулись домой. Но не вернулись домой корабли — те, что на север ушли. Только один мореход уцелел. Был он отважен и смел. Шхуну доверив движению льдин, цели достиг он один. Он и донес, тот отважный пловец, весть до родных своих мест: повесть про сказочный остров Удрест, пристань отважных сердец».
Мы не вернемся в дом нашей юности — семидесятые годы, но и не уйдем из него. Он был прекрасен, потому что юность и его красота были внутри нас самих. И он был жестоко туп, стремление жить в нем походило на тот самый заплыв в серной кислоте. Это он съел и убил Высоцкого и Трифонова, вышвырнул Солженицына и Аксенова, замуровал страну гипсом. Ну и нам перепало.
Противостоять ему было так трудно, ребята, так трудно. Вот андеграунд и пил, и опускался в депрессии, и умирал раньше срока — а все-таки работал! А все-таки зад не лизали, и гимны коммунизму не писали, и делали свое всей силой, отпущенной Богом. Многие — с переломленным хребтом, не вынесшим давления эпохи.
А есть другой вариант держаться и делать свое. Никому не показывая слабость и боль. Смеясь и процветая назло судьбе, начальству и политическому строю. Но спину держать прямой! Вот только под непереносимыми нагрузками в спине этой крошится и непоправимо разрушается позвоночник. И предел наступает сразу, непоправимо, со стороны неожиданно. Спина еще пряма — а нести уже нет мочи даже тяжесть куска хлеба. Собственной головы.
И по завершении земного пути судьба друга моего яснеет, как судьба времени, эпохи, страны, поколения. Судьба борца, таланта, романтика, гордеца и человека, который сам себя сделал. Судьба советского писателя послевоенного поколения, ленинградца, не вписавшегося в постсоветскую Россию. Слишком яркого и самолюбивого, чтобы вливаться в любую стаю. Но воздух для него был тот же, и груз тот же, и причины судьбы те же.
Да, высказывалось мнение, что под конец жизни он впал в андеграунд — только одинокий, нищий и непримиримый ко всему. Необычная очередность этапов жизни.
Мраморный памятник на его могиле простой — лежащая книга.
Михаил Веллер


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"




















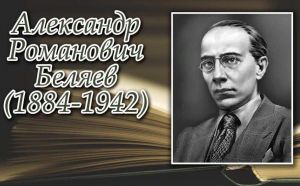



























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Виталий Даренский
Виталий Даренский