Этот Коробейников, он приходил на дачу из соседнего санатория. Его там оперировали по поводу язвы. Так врачи всегда говорят: по поводу язвы. Ведь просто так, за здорово живешь, человека не разрежешь, хотя, я знаю, многим интересно, чтобы их разрезали и посмотрели на всякий случай: что у них внутри. Но так же нельзя, без повода. Поэтому режут по поводу: скажем, по поводу язвы, а уж там как бог пошлет, умирать гражданин будет совсем по другому поводу, и врачи тут совершенно ни при чем.
Так вот, он приходил на дачу из своего санатория. Прогулка хорошая, нетрудная, километра два среди холмов, по березовому лесочку. Август, птички уже не поют, но все равно благодать. Сухо, лист желтеет и валится, кое-где гриб торчит. Коробейников срывал этот гриб и приносил на дачу.
Из одного гриба ничего не сваришь, но все-таки подарок. Приношение в дом. Ольга Михайловна стояла на крыльце, смотрела, как он выходит из-за частокола белых стволов, говорила: «Вот Коробейников идет, гриб несет». И от этих ее слов всем хорошо становилось, спокойно, как в детстве: тихо светит солнце, тихо скользят времена года, тихо, без крика и паники, подступает осень. Идет милый человек, несет кусочек природы. Симпатично.
Чего он повадился к ним ходить, почему привязался – кто его знает. Ну, они были рады. Дачные гости – это не то, что городские. Какая-то приятная необязательность. В городе гость просто так не заглянет, сначала позвонит по телефону: хочу, мол, вас навестить. Хозяйка быстро оглядит пол – много ли пыли, сообразит, не всклокочена ли с утра постель, пробежит нервной мыслью по полкам холодильника, – в общем, это напряжение. Стресс. А на даче это все равно: и на что сесть, и что пить, и из каких чашек. И даже ничего страшного, если гостя оставить на пять минут одного – в городе это смертный грех, а тут нет. Тут это разновидность гостеприимства. Сидит гость в плетеном кресле, курит себе или так молчит, смотрит сквозь окна вдаль, на небо, а там закат играет всеми цветами, то красную полосу пустит, то лиловую, потом золотая корочка загорится на туче, или все морозной зеленью подернется, лимоном, блеснет звезда… Лучше телевизора.
Тут хозяйка возвращается, несет чайник под ватным колпаком, режет кекс, включает свет. Ночные бабочки летят из сада, шуршат. Разговоры, ля-ля, ля-ля, посмеются, поспорят, так посидят, повздыхают. Коробейникову курить не стоило бы, с его-то язвой, но он курит, заводит беседы о таинственном. Он верит в пришельцев, в зеленых человечков, его волнуют гигантские пауки и треугольники пустыни Наска. Он читал в газете «Труд», что над Свердловском висела летающая тарелочка, что под Ленинградом небо светилось, почему – неизвестно. Его это волнует. Ольгу Михайловну это тоже волнует, она давно хочет познакомиться с зелеными человечками, у нее на них свои планы. Коробейников говорит, что в Южной Америке одну женщину, Долорес, человечки взяли с собой на свою тарелочку, покатали, показали ей землю с птичьего полета, потом спустили назад посреди города Бостона. Долорес, простая крестьянка, страшно растерялась – языка не знает, куда идти – не понимает. у нее дома шестнадцать детишек ревмя ревут, есть просят, а она мечется как курица посреди города Бостона, в то время как ее муж, Хосе, простой крестьянин, тоже там у себя ничего не понимает, точит в ярости свой нож-наваху и грозит расправиться с неверной женой, пусть только она переступит порог дома. Ольга Михайловна и верит, и не верит, но страшно досадует: она бы отлично разобралась там, в городе Бостоне, она, со своим здравым смыслом и ясным разумом, сразу бы сориентировалась, вечно эти человечки берут не того, кого надо. Все смеются, дают Ольге Михайловне поручения, что везти из города Бостона, если с ней приключатся такие дела, муж Ольги Михайловны говорит: пусть она только попробует, он тоже наточит свой нож-наваху, он никаких таких человечков не потерпит; кто-то говорит, что в Бостон пришельцы возят только из Южной Америки, а из Подмосковья, должно быть, переправляют куда-нибудь в Тюмень или на Маточкин Шар, вот что будет Ольга Михайловна делать в таком случае? Муж Ольги Михайловны говорит, что все это чушь собачья, тоже мне авторитет – газета «Труд», и что никаких пришельцев нет, а это все болиды. Какие болиды? Ну, он не может точно сказать, он не астроном, но это болиды. Вот вечно муж Ольги Михайловны со своим дешевым материализмом, вечно он сводит мечту всего прогрессивного человечества к какой-нибудь какашке. Один остряк тут же придумывает: «У кого что болид, тот о том и говорид». Что у кого болид, товарищи? У Коробейникова болид язва. Но ему тут хорошо, на этой даче, так все непринужденно, что он про свои боли как-то забывает. Один час общения с приятными людьми, один вечерний час стоит всех лекарств, которыми его пичкают в санатории.
Коробейников с удовольствием курит прощальную папиросу, – постукивает ею об стол, сминает мундштук, зажигает спичку; бледное пламя освещает его желтоватое лицо, толстые стекла очков, выпуклый лоб с прядями густых черных волос. Удивительные волосы у Коробейникова: человеку под шестьдесят – и вдруг такие патлы. У всех остальных уже плеши разнообразных фасонов, кроме молодежи, конечно. Муж Ольги Михайловны, поглядев на Коробейникова, с огорчением проводит по своей оголяющейся голове. Ну, каждому свое. Зато у него язвы нет.
Но вот стемнело за окном, – в августе рано темнеет, – Коробейникову пора, его ждут к ужину в санатории; его кусок творожной запеканки с нищенской лужицей сметаны уже остыл, и титан с чаем остыл, и огни пригашены, он посидит в полупустой санаторской столовой, задумчиво смахивая крошки со скатерти, поглядывая в черные стекла на свое лохматое отражение, прислушиваясь к горчичной боли где-то внутри, к боли, что просыпается с темнотой и гудит, гудит, как далекий трансформатор.
Долорес, то бишь Ольга Михайловна, проводит Коробейникова до крыльца, остальные тоже привстанут, кивая головами, пожимая руку: не холодно вам? может быть, пиджак возьмете? нет? – а то смотрите, – он осторожно сойдет с крыльца, блеснув очками, зажжет карманный фонарик, светлый круг запляшет под ногами, выхватывая еще зеленую траву, колья забора, вытоптанную дорожку, белые испуганные стволы деревьев. Коробейников направляет луч в небеса, но слабый свет рассеивается, и небеса остаются такими же темными, как и были, разве только верхние веточки да вороньи гнезда освещаются на миг; балуясь, он направляет фонарь к крыльцу, и тогда ничего уж не видно в ночи, только белая звезда на том месте, где стоял Коробейников.
Тут как-то Ольга Михайловна узнаёт, что Дмитрий Ильич тоже снял дачку в их поселке, – Дмитрий Ильич, с которым они в городе были слегка знакомы, встречались в общих гостях и даже испытывали какую-то взаимную симпатию. Ольга Михайловна считает, что это естественно – испытывать к ней симпатию, она числится хорошенькой и, с точки зрения Дмитрия Ильича, еще совсем молодой. Дмитрий Ильич тоже человек интересный, он скульптор и знает кучу всяких историй и казусов, вроде того, как открыли памятник, а он без головы, ну и так далее. Дмитрий Ильич прихрамывает, ходит с палочкой, и это ему идет. Он говорит: «Нет, я не Байрон, я другой», и как бы получается, что он все-таки отчасти Байрон – и хромает, и стишки пописывает, и в Греции был полтора дня во время круиза. Он видел Европу, и это невольно вызывает уважение, он говорит: «Италия – тьфу, а Греция – это да», и хотя все понимают, что Италия, наверное, все-таки не совсем тьфу, но он там был, а они нет, поэтому спорить трудно. Ну, много еще чего он говорит, много с ним было в жизни приключений, он был капельку на фронте, и в лагере, – присел на два года, как он выражается, ни за что ни про что, естественно, – но зла ни на кого не держит, верит в судьбу и ко всему относится с юмором. Так что, встретив его в поселке, Ольга Михайловна говорит: «Захаживайте к нам вечерком», и он благодарит и говорит: «Непременно приковыляю». Вообще он роскошный мужчина – играет, конечно, в богему, ну и пусть, – волосы до плеч, с проседью, глаза ястребиные, желтые, лицо рябоватое, носит блузу. Он говорит Ольге Михайловне: «Я должен вас лепить».
Так что он действительно приходит к ним как-то вечером, и они режут кекс и ставят чайник на плиту. Дмитрий Ильич рассказывает про свой круиз и про то, как один пенсионер из их группы спустил всю валюту в первый же день, а когда они уже возвращались домой через Турцию, он вдруг спохватился, что ничего своей жене не везет, и тогда он быстренько сбегал на турецкий рынок и сменял свой слуховой аппарат, выдав его за радиоприемник, на монисто. И повез своей бабульке монисто. Все хохочут, муж Ольги Михайловны тоже хохочет, а Ольга Михайловна выглядывает в окно и говорит: «Вот Коробейников идет, гриб несет. Ой, он такой чудный, у него такие истории забавные, про Долорес и вообще!»
Дмитрий Ильич говорит: «Коробейников?! Какой Коробейников? Это уж не тот ли самый Коробейников?» А что он имеет в виду, он не объясняет. Ольга Михайловна, конечно, заинтригована и вертит головой, тут входит Коробейников со своим грибом и со своими рассказами, как всегда, милый и приветливый, – хорошо ему тут, и день хороший, и воздух хороший, и роща, и люди, и уезжать совсем не хочется.
Гостей знакомят друг с другом, пьется чай, начинаются вечерние тары-бары. Коробейников, прямо скажем, в ударе, Ольга Михайловна просто в восторге, но Дмитрий Ильич смотрит как-то пристально, и в его желтых глазах мелькает какая-то мысль. Ольга Михайловна умирает от любопытства узнать, что он имел в виду; глаза у нее блестят, и всем она, как и всегда, впрочем, нравится.
«Н-да. Ничего себе, – говорит Дмитрий Ильич после того, как язвенник, играя фонариком, скрывается в роще. – Кто бы мог подумать?» – «Ну что? Что такое?» – «Нет, кто бы мог подумать?» – И барабанит пальцами по столу. И выкладывает все, что он про этого Коробейникова знает. Они вместе учились, между прочим. На разных курсах. Тот-то, конечно, забыл Дмитрия Ильича, ну, сорок лет прошло, это естественно. А Дмитрий Ильич не забыл, не забыл, потому что этот Коробейников ему в свое время такую подлянку устроил! Дмитрий Ильич в молодости писал стихи, он и сейчас этим грешит. Ну, стихи слабые, он и сам это знает, никуда с ними не суется, – так, для себя, для души упражняется в изящной словесности. Не в том дело. А в свое время, когда с Дмитрием Ильичом случился этот юридический казус и он присел на два года, рукописи его незрелых стишков попали к этому Коробеиникову. И тот их издал под своим именем. Вот такие дела. Судьба, конечно, все расставила по своим местам. Дмитрий Ильич даже рад, что у этих стихов ложный автор, сейчас он такой хлам постыдился бы своей собаке показать, не надо ему такой славы. Да и Коробеиникову счастья это не принесло, ни хулы, ни хвалы не воспоследовало, так все и кануло. И художника из Коробейникова не вышло, он сменил профессию и сейчас, кажется, какой-то технарь. Вот такие пироги.
«Ничего себе», – говорит Ольга Михайловна. «Ничего себе, – говорит муж Ольги Михайловны. – Сволочь какая». – «Ну, я бы не сказал, что сволочь, – смягчает Дмитрий Ильич, – тогда иначе на это смотрели. Кто мог знать, что я вернусь, а так вроде бы скромное творчество мое не погибло, увидело свет. Может быть, им даже благородные побуждения двигали». – «Но он мог бы после вашего возвращения извиниться перед вами, – говорит Ольга Михайловна. – Я бы, во всяком случае, так и сделала». – «Другие времена, дитя мое», – снисходительно объясняет Дмитрий Ильич. Ольге Михайловне приятно, что ее называют дитя. В сорок лет это приятно. «Другие времена. Да и откуда он знал, что я вернулся? Я ему не докладывал. Да мы толком и знакомы не были. Бог простит, а я простил. Вот прямо сейчас и простил».
Вот опять наступает вечер, из лесу идет гнусный Коробейников, несет свой поганый гриб. Все уже знают о его предательстве, о каиновой печати. Ольга Михайловна стоит на крыльце. «Надо прощать», – говорил Дмитрий Ильич, но ей прощать не хочется. «Не судите, да не судимы будете», – говорил Дмитрий Ильич. Но пусть, пусть она будет судима, но зато осудит сама. Она любит правду, тут уж ничего не поделаешь, ее организм так устроен. Она не станет, конечно, травить Коробейникова, у него все-таки язва, но внутри себя, в чистом доме своей души, она вправе сама наводить порядок. И мусорному ведру место на кухне, а не в гостиной.
Вот он сидит в плетеном кресле и плетет свою чушь про чудеса. Вот он хлюпает чаем и чавкает кексом. Вот он разливается соловьем, что, мол, в пирамиде Хеопса нашли какие-то пустоты и что бы это могло означать. «Сам ты пирамида Хеопса», – думает Ольга Михайловна. «У кого что болит», – хмыкает муж Ольги Михайловны. И каждый тоже думает что-нибудь неприязненное. И Коробейников не может этого не почувствовать.
Коробейников смущен, Коробейников бормочет о том, что вот, случай был: над Петрозаводском в один прекрасный ясный вечер исказились небеса и сошел пламень небесный, нестерпимой силы столп, и стало светло как днем, а в небе метались багровые полосы, и все это хозяйство сверкало и трепетало, и что бы это могло значить? Но, зная то, что они знают о Коробейникове, и хозяева и гости, постоянные и случайные, больше уж не ахают, не хохочут, не возмущаются. И Ольга Михайловна вымученно улыбается, хотя улыбнуться ей не легче, чем поднять гирю, и сама клянет себя за эту фальшивую улыбку, за женскую трусость: ей бы как-то дать понять Коробейникову, что всё уже, всё, больше приходить не нужно, достаточно, мы больше не хотим. Мы про вашу подлость знаем. И ваша язва – не оправдание! Ваша язва – пламень небесный, посланный вам в наказание, вот именно! Зла мы вам не желаем, лечитесь себе на здоровье, кушайте витаминчики, пейте кефир в своем санатории, а сюда не ходите. И грибов не носите.
Коробейников чувствует, конечно, что температура на даче отчего-то упала, он нервничает, курит одну папиросу за другой, глаза его за толстыми стеклами смотрят испуганно и беспокойно, ему кажется, что причина неудовольствия – в его рассказах, может быть, он повторяется, может быть, им это неинтересно? Он спешит поведать про филиппинских целителей – не помогает, он вспоминает замечательную историю про бердичевского костоправа, поднимающего на ноги безнадежных паралитиков, – бесполезно, лед остается льдом, они глядят на него пристально, твердыми, как орехи, глазами. Наконец он собирается уходить, и они кивают головами, но не привстают, не выходят на крыльцо, не смотрят вслед, они словно бы отвердели в суставах. Ольга Михайловна, правда, не может не выполнить хозяйский долг, она открывает входную дверь, ждет, пока он спустится с крыльца, зажжет свой фонарик и углубится в березовую рощу, – ровно, задумчиво плывет луч среди строгих белых стволов, не взлетает вверх, не шарит по сторонам, не пляшет в темноте.
Пепельница Коробейникова полна окурков, ишь, сколько накурил, все многозначительно провожают пепельницу глазами, когда муж Ольги Михайловны идет опорожнять ее, эта горка пустых вонючих трубочек – словно мера вины нечистого человека.
Коробейников идет неприютной рощей, стволы берез озябли, и земля холодит сквозь ботинки, впереди тлеют огни санатория, юдоли скорби; кровати там белые, и тумбочки белые, и стены выкрашены белой масляной краской, и белые лампы свисают с потолков, а на лестничной площадке, куда Коробейников ходит покурить, в белом стеклянном шкафу свернулся пожарный шланг. Шланг бурый, плоский, длинный, бесконечно длинный, длиннее жизни, и ночью, когда Коробейников заснет, в палату вплывут, не касаясь пола, безголовые санитары и велят Коробейникову проглотить шланг – так уж полагается перед операцией, – и он будет заглатывать, давясь, эти долгие, долгие метры тупой шершавой ленты.
На другой день Коробейников сидит за скучным обедом, вяло трогает вилкой рыбные кнели, смотрит в просторные санаторские окна, где август горит золотом, зеленью и синевой, – он пойдет на свою обычную прогулку, а потом все-таки зайдет в тот дом, ведь ему просто показалось, он, должно быть, сам был не в настроении, это всего лишь болезнь, это боль, это гул, это ложка огня, проглоченного по ошибке, а люди здесь ни при чем. Он идет через рощу, трогает холодные кусты, он склоняется очками к земле, ищет гриб, но гриба нет, тут многие собирают.
Он сидит на веранде, он пробует шутить и развлекать, но Ольга Михайловна только щурит глаза, а муж Ольги Михайловны, который, как услышит удачную шутку, так и норовит повторить ее снова и снова, спрашивает: «Ну как там ваш болид? Все болит?», хотя, право же, в этом вопросе никакой нужды нет. И разговор вянет, замолкает, жухнет, словно все на свете уже сказано.
Им, должно быть, скучно слушать одно и то же. Как же он об этом не подумал. Вот когда этот желтоглазый скульптор распинается – все они радуются и хохочут. Но старый друг лучше новых двух, смутно думается Коробейникову. Ничего, он его переговорит. Он что-нибудь приготовит к завтрему. О загробной жизни, например. О том, что видит человек, лежа в обмороке, в коме, в клинической смерти. О, тут много захватывающего. Свидетельства совершенно достоверные. Он говорил с одним таким. Там, – говорил этот человек, – все голубое и прозрачное, но воздуха нет, и дышать не нужно, да и не тянет. И такое чувство, знаете, словно ты молодой, или демобилизовался, или сын у тебя родился – хорошее такое чувство. И появляется некто – его не видно, но он появляется и говорит с тобой, но без голоса: «Еще не пора», – говорит. Этот некто к тебе будто бы с уважением или вроде того. И ты уже – раз! – и опять в операционной, все вокруг тебя колготятся, суетятся, а ты лежишь и думаешь: «Да что вы все понимаете!» Да, это хорошая история. Только рассказывать надо с подъемом, пободрее. Расшевелить аудиторию, верно ведь? …Нет, больше я сюда не приду, думает Коробейников, бредя назад, спотыкаясь о корни. Это унизительно, в конце концов! Но если бы не белизна больницы, не тусклый блеск линолеума, не стерильное смертельное ведро для окурков! Если бы не подкрадывался вечерами пожарный шланг, не присасывался члениками, не впивался жвалами в самую сердцевину!..
Желтый Коробейников идет по вечерней тропинке. Дмитрий Ильич обнимает Ольгу Михайловну в березовом лесу.
«Ну что он все к нам таскается», – негодует Ольга Михайловна вослед тощей фигуре. «Да вы не обращайте внимания, дитя мое», – целует ее Дмитрий Ильич. «Как вы его терпите, Дима, вы просто святой!» – «Бросьте, дитя мое, чего там! Он и так плох, пусть доживает спокойно! Ему время тлеть, а вам цвести. Вон у меня и костыль зацвел, глядя на вас». У Ольги Михайловны голова идет кругом, если бы ее никто не видел, она бы подпрыгивала и пританцовывала. Надо же, какой роман затеялся! Дмитрий Ильич причесывается пятерней, сверкает ястребиными глазами, любуется Ольгой Михайловной.
Темнеет. Черный Коробейников волочит ноги из поселка в санаторий, комочек света подпрыгивает на корнях. У Дмитрия Ильича нет тайн от Ольги Михайловны. «Я, между прочим, пошутил, дитя мое, – говорит он, сшибая палочкой листья с куста. – Пошутил, казните меня. Не было этой истории со стихами, и Коробейникова вашего я первый раз в жизни вижу». – «Как же так, Димочка?» – пугается Ольга Михайловна. «Черт попутал. А может, я его к вам приревновал. Что еще за Коробейников, думаю? А похоже вышло, да?» – «Ну-у, Димочка, какой вы нехороший, – дуется Ольга Михайловна. – Что с вами делать, идемте чай пить. А то мой муж, небось, уже свою наваху точит».
За чаем они хихикают, как заговорщики. «Что это вы?» – удивляется муж Ольги Михайловны. Приходится рассказать, как Дмитрий Ильич подшутил над Коробейниковым. Дмитрий Ильич забавно кается, заламывает руки и просит его простить. Он даже хочет встать на колени перед всем обществом, вот только хромая нога ему мешает. «Да бросьте вы!» – кричат все. Нет, он встанет! Хотя бы на одно колено. Он раскаялся, раскаялся! На одно колено, а вторую ногу – пистолетом! Вы как предпочитаете: вперед ногу? Или назад? Все хохочут: до чего артистичный этот Дмитрий Ильич! А Коробейников, хоть он теперь вроде и обелен, все равно зануда. Да и как-то уже привычно думать о нем плохо. Ну его к чертям собачьим! «Пламень небесный»! «Болид»! Поболид и перестанед! «Слышите? – кричит муж Ольги Михайловны. – Поболид и перестанед!» Вообще он столько чепухи и вранья тут нагородил, вы заметили? А завтра он опять притащится! Постыдился бы – видит такое к себе отношение, так и сидел бы в санатории! Да ему плюй в глаза – все божья роса!
На другой день Ольге Михайловне очень неловко. Ну, во-первых, перед мужем, который ни о чем не догадывается, нуда это ладно, а во-вторых, перед Коробейниковым. Лучше бы он не приходил. Неловко же смотреть в глаза человеку, которого мы зазря обгадили, а признаться не можем. Ну, зато он оправдан. И теперь можно избавиться от противного ощущения, что ты принимаешь в своем доме подлеца. Конечно, Дима нехорошо поступил. Но он раскаялся, причем сам, никто его за язык не тянул. А это – поступок, как хотите. Это мужественно.
Но Коробейников, конечно, приходит. И очень старается. Ну чего он старается? Все прошло! И Ольга Михайловна терпит его, загаженного, и заботливо, подчеркнуто заботливо поит чаем и кормит кексом. «Вам, небось, в санатории все протертое дают? Поешьте хоть здесь по-человечески». Коробейников пугается, недоуменно смотрит сквозь толстые очки. Он не понимает: что это было на прошлой неделе? Что это происходит сейчас? Какое-то напряжение висит в воздухе. А кому оно нравится, это напряжение, оно никому не нравится. Тяжело с ним как-то, с Коробейниковым. Он совсем уже желтый. И хорошо бы ему догадаться, что, поскольку конфликт исчерпан и все выяснилось, лучше ему сюда больше не приходить. Потому что с ним тяжело! Тяжело с ним! И когда он всматривается в их лица, пытаясь что-то понять, это тоже тяжело! И всматриваться нечего! Это его, как выяснилось, совершенно не касается. Он оправдан и может идти.
Ольга Михайловна с ненавистью смотрит на Коробейникова. Ее просто бесят эти ежевечерние визиты. И всех остальных в доме они тоже бесят. Мы что – не вправе пожить как люди? Среди своих? Лучше бы он умер, честное слово! Да так, наверно, скоро и будет. Это не язва у него, о нет, это не язва, вон он какой лимонный и постарел прямо на глазах! И эта нечуткость, эта бестактность, это тупое упрямство тоже свидетельствуют о близком конце, когда больному уже на все приличия наплевать и он цепляется за жизнь, за людей, за что попало. Да, она, как честный человек, откровенно признается самой себе: она хочет, чтобы он умер. Вот так. И всем будет спокойнее.
Ночи холодны, она выходит на крыльцо, она предлагает Коробейникову пиджак, зная, что он не возьмет, она ждет, пока он зажжет фонарик, спустится с крыльца, она жадно слушает, как шаркают по опавшей листве его ослабевшие ноги. Она надеется, что верно угадала симптомы. Скоро, уже скоро. Хорошо бы до конца лета. Она долго стоит и смотрит, как бледный огонь фонаря пересчитывает больничные стволы берез, как смыкается световой коридор, как сгущается тьма, как во тьме пламень небесный вслепую нашаривает свою жертву.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

















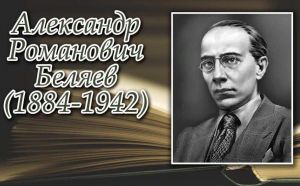








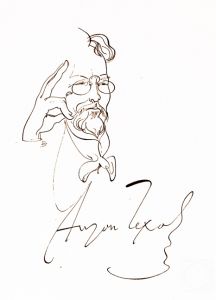





























 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский