Главная » Поэзия
Грядущее. Сергей Бехтеев
Гляжу спокойно в даль веков,
Без сожаленья и боязни —
Что для меня мятеж рабов,
Насилья, стоны, кровь и казни
Чудо-мужик. Игорь Гревцев
Я дни уверенно листаю,
Идя по жизни широко,
Но всё никак не перестану
Дивиться с русских мужиков…
Входите все. Александр Блок
Входите все. Во внутренних покоях
Завета нет, хоть тайна здесь лежит.
Старинных книг на древних аналоях
Смущает вас оцепеневший вид.
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА. Алексей Никитин
Храни, Господь, всех тех, кто дорог мне!
Кого, не ожидая поцелуя,
Так нежно и так трепетно люблю я,
О ком молюсь в полночной тишине.
Городская свалка. Игорь Гревцев
Если душа моя пухнет от голода,
В дни, когда совесть уснёт,
Я пробираюсь на свалку за городом,
Где меня ждёт вороньё.
Клеветникам искусства. Николай Клюев
Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита
ГАЗЕТА "РУССКИЙ ВЕСТНИК": СВЯТОЙ РУСИ СТИХАМИ ПОМОГАЯ.
Литературно-исторический вечер «Воскресающая Русь» состоялся в Москве
ПОБЕДА
Уже на стенах Вавилона
Проявлены письмена
И в ритмах людского стона
Гремит на полях Война.
ГЕНЕРАЛУ ВРАНГЕЛЮ. Князь Николай Кудашев
По всей России «сарынь на кичку»,
В разгуле бунта, толпа ревела.
Нас было мало на перекличке,
Когда собрались под стягом белым.
БИБЛИЯ. Анатолий Евсеенко
Среди мертворождённых книг
И пагубного знания
Вдруг материк Любви возник
Священного Писания.
Помолись обо мне. Игорь Гревцев
Я устал от всего, дорогая:
От того, что мне в душу плюют,
От того, что за дело лягают,
От того, что без дела клюют.
На мне стоит клеймо поэта. Николай Мельников
На мне стоит клеймо поэта,
А у поэта на Руси —
Так довелось — недолги лета.
Мне тридцать. Господи, спаси!
Одно служение. Игорь Гревцев
Ты научила меня любить
Не только себя – весь мир,
А без тебя этот мир мог быть
Безвиден и наг, и сир.
ДАЛЬ. Сергей Рассказов
Манит даль меня по-свойски:
По-отцовски крылья крепит.
Манит подвигом геройским,
Средь вопросов безответных.
Поэтический конкурс «Воскресающая Русь» 2023 г. Послесловие.
25 февраля в день празднования Иверской иконы Божьей Матери в Москве на территории храмового комплекса церкви Воскресения Христова в Кадашах ("Нижний музей") состоялся поэтический вечер, подводящий итоги прошедшего конкурса.
Не надо звуков. Дмитрий Мережковский
Дух Божий веет над землею.
Недвижен пруд, безмолвен лес;
Учись великому покою
У вечереющих небес.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"


















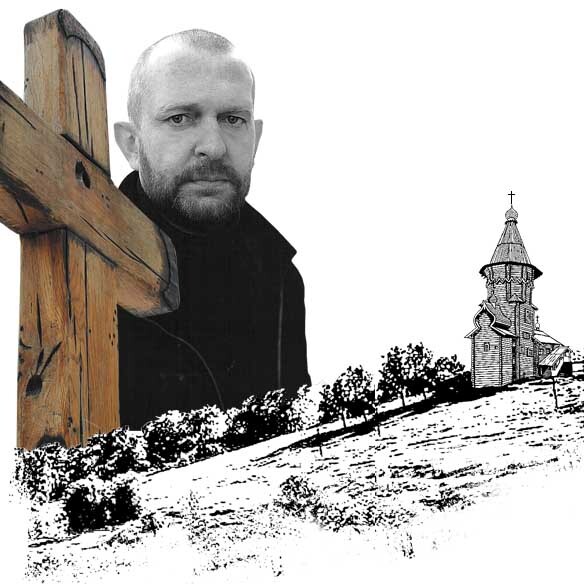

































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов