«Тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и немногие находят их».
(От Матф. 7;14)
ПРОЛОГ
В те еще времена по Руси бродили благочестивые странички, в городах подвизались блаженные и юродивые, а в дремучих ласах и в почти недоступных теснинах гор молились инокини и иноки, многие из которых становились со временем преподобными, мучениками, святыми…
Теперь, к сожалению, всё не тако…
Странички превратились в сытых столичных квартиро-сдатчиков, которые жизнь напролет паломничают по всевозможным святым местам; монастыри ютятся как можно ближе к спонсорским замкам тех, кто, расторговывая Россию, стал называться её элитой; а блаженные и юродивые, если ещё и водятся, то исключительно на правах презренных всем миром «лузеров» или, читай, - бомжей. И вот об одном из таких бомжей я и хотел бы вам рассказать в этой правдивой были.
Родился герой моего рассказа в далеком Чувашском городе Алатырь (в переводе на русский – Алтарь). И хотя тогда ещё были живы оба его родителя, - мать – модистка Мария Степановна и отец – местный киномеханик Яков, - его, только что новорожденного Витеньку, вместе с двойняшкой Лидой прямо из родильного - перевезли в детдом. Дело в том, что к моменту рождения этой двойни мать героя моей истории на свою крошечную зарплату скромной швеи-надомницы уже воспитывала в то время троих старших братьев Витька и Лиды, - Генку, Николая и Левушку. А её непутевый муж, двадцатипятилетний киномеханик Яков, нарожав целый выводок крепких светских отпрысков, братков Крыловых, по словам горемычной супруги жизни, «кадровал» в романтичном сумраке кинобудки, что называется, налево и направо. Так что денег на воспитание четверки законных сынов и дочери ему, естественно, не хватало. (Сколько же было у Якова Александровича во время киносеансов незаконно зачатых отпрысков, никто никогда того не подсчитывал, поэтому и моя история об этом факте теперь умалчивает). Был человек плодовит, и – всё тут. Плодовит и до ужаса не романтичен. Вот он и не заботился о последствиях своей бурной интимной жизни. Работа киномеханика научила житейскому монтажу: все светлое – в жизне-кадр, а все темное и сомнительное – в корзину.
В результате киношного отношения отца героя моего рассказа к жизни, за первые восемь лет своей сиротской судьбинушки будущий «Князь» сменил пять спецприемников с патронатами: три в Чебоксарах и по одному – в Цивильске и в Чурачики. В один из них как-то раз забрела красочно разодетая, с красными бусами на плохо вымытой дряблой шее, грудастая цыганка. И, взяв руку Витеньки в свои шершавые обветрившиеся ладони, вдруг ни с того ни с сего присвистнула и, глядя на грязненькую крошечную ладошку, с искренним восхищением предрекла:
- Какая маленькая ручка. Прямо, как у князя. Быть тебе большим человеком, парень. Не сойти мне с этого места!
Настороженно наблюдавшие за цыганкой воспитанники детдома, естественно, рассмеялись. И, тыча детскими пальчиками в товарища по группе, принялись дружно дразнить его:
- Князь! Князь! Князь!
Так и пристала к Виктору эта дурацкая кличка «Князь». С тех пор, куда бы он не пошел, и в какие бы передряги не забрасывала его потом столь щедрая на внезапные перемены и звонкие зуботычины судьба-индейка, везде на шаг впереди Крылова шагало именно это, с детства ещё прилипшее к нему погоняло: «Князь».
Вначале мозаика жизни Виктора складывалась довольно скудно. Как и всякого воспитанника детдома ждало его на выходе банальное ПТУ. В далекой казахской степи, в течение трех сезонов, обучили Князя пахать на тракторе; так что уже к совершеннолетию, в пышущем жаром июльском мареве, он, как бывалый матерый механизатор, убирал урожай хлебов на советских ещё комбайнах СК-3 и СК-4.
В восемнадцать, как и положено, Витю призвали на службу в армию (служил он в Алма-Ате). А ровно через полгода перевели его в город Ташкент, в «учебку». Оттуда, уже в чине сержанта царицы полей - пехоты, Князь снова вернулся в Алма-Ату, где бойко, на старомодном разбитом газике, возил в гарнизон продукты, крутил, как и должно, «солнышко» на стареньком турнике, а вечерами, под воскресенья, тайком убегал из казармы в соседнее общежитие местного хлопчатобумажного комбината потанцевать с девчатами.
Одним словом, ничего из ряда вон выходящего, судьба Виктору не сулила. Все, как у всех, только кличка «Князь», да глухое отчаянное сиротство при обоих живых родителях. Причем ни мать, ни отец героя судьбой сына ни мало не интересовались: вырос он и профессию получил исключительно за счет родимой Советской власти, на государственный кошт, после чего, естественно, занялся поисками супруги.
Собственно говоря, по этому нехитрому житейскому распорядку сложилась жизнь у Викторовой сестры-близняшки. Лида окончила ПТУ, обучилась швейному мастерству при местной сельхозартели, вышла замуж за агронома, родила ему пятерых симпатичных вертлявых мальчиков, да так и осталась воспитывать их в Чувашии, где вот уже скоро, как сорок лет живет и работает в Алатыре, швеёй-мотористкой на местной швейной фабрике.
……………………………………………………………………………….
Князь же выломался из ниши среднестатистического детдомовца. И помогла ему в этом прорыве в иную жизнь, как ни странно, множество раз проклинавшаяся при случае миллионами постсоветских граждан Горбачевская «Перестройка».
Глава №1: НАЧАЛО…
Возвратившись из армии на истоки, в тихий чувашский город с совсем не советским названием Алатырь, - (в переводе с чувашского – алтарь), Виктор устроился на местный мясокомбинат, разнорабочим. И, будучи от рождения крепким, кряжистым парнем, с детдома привитой любовью к спорту, дважды в качестве капитана местной футбольной команды «Витязь» выигрывал чемпионат города по минифутболу, а однажды так даже стал чемпионом общества «Спартак» по настольному теннису. По совокупности спортивных побед и трезвому образу жизни он вскорости получил и столь желанную для любого детдомовца прописку с отдельной комнаткой в малосемейном общежитии «Прометей». И вот, когда, казалось бы, необходимый житейский минимум был уже им достигнут; и Виктору, по-хорошему, пришла пора присмотреть себе будущую подругу жизни, он взял, да и зашел поглазеть на диковинку той эпохи: только-только тогда открывшийся местный женский монастырь.
В полуразрушенном храме, среди расписанных на фанерных щитах икон, небольшая группка молоденьких послушниц в черных апостольниках на головах и в длинных, до щиколоток, подрясниках мягко скользила в вечерних сумерках. Все они, даже самые несимпатичные и нескладные, почему-то показались Виктору более интересными, чем самые красивые и разбитные из окружавших его до этого спортсменок и разнорабочих. Плавная неторопливость иноческих движений, простота и спокойствие, с которыми будущие монахини поправляли свечи в подсвечниках или зажигали возле икон лампады, привлекли внимание Виктора невиданной им до этого строгой степенностью и таинственностью, будто в сказку он погрузился, что ли? К тому же, седобородый и краснощекий батюшка, громким речитативом вычитывавший от алтаря молитвы, чем-то уж больно напоминал завсегдатая детских Новогодних утренников, детдомовского деда Мороза. И ещё эта гулкая тишина, мир на душе, спокойствие! Внешне – явная неустроенность: только до середины выбеленные стены, брезентовые заплаты на нависающем над лесами куполе, порхание множества голубей в предкупольном барабане, ещё не везде затянутые клеенкой окна, а вот внутри, будто чаю с вареньем выпил. Одним словом, когда сразу же после всенощного бдения пожилая дородная монахиня в черном подряснике, игуменья монастыря, мать Агния, восседая на поскрипывающем стуле, с отдышкою объявила:
- Люди добрые, кто может, пожалуйста, помогите нам восстанавливать монастырь, - Виктор воспринял её слова, как обращенные непосредственно к нему лично. И уже на следующее утро, даже не рассчитавшись с работы на мясокомбинате, бодрым спортивным шагом завернул за разбитые чугунные монастырские ворота.
В первые десять дней, пока Виктор рубил дрова и подвозил на подслеповатой лошадке Ромашка продукты и стройматериалы из местного рынка на монастырский двор, некоторые из его товарищей по работе явно симпатизировали «герою» и даже сами подумывали над тем, как бы им в выходные дни потрудиться «во славу Божью». Так, бывший бригадир Виктора по разделочному цеху, крепкий кряжистый мужик Калинкович, встретившись с Князем посреди улицы, - Виктор вёз на телеге мешки с цементом, - с улыбкой остановил детдомовца и, обменявшись с ним крепким рукопожатием, многозначительно подчеркнул:
- А, что, молодчина, Князь! Уважаю. Духовность и вера – главное! Восстановим мораль и веру – все трудности одолеем.
Правда, через неделю, когда на мясокомбинат подвезли большую партию предназначенных под забой коров, он же первый и выслал за Виктором своего зама, Володьку Харченко, который, передавая слова начальника, строго и недвусмысленно заявил:
- Ладно, помог немного, пора, Витек, и за дело браться. Через пятнадцать минут, чтобы был в разделочном. Калинкович приказал.
Перепачканный пятнами белой извести, Князь посмотрел на Володьку Харченко с высоких, слегка раскачивающихся лесов и радостно улыбнулся:
- Не могу, брат. Извести нагасили на восемь часов работы, - и после секундного размышления, неожиданно для себя добавил: - Да я ведь больше на мясокомбинате и не работаю.
- Как так? – сквозь частокол лесов снизу вверх удивленно взглянул на него Володька.
- Да так, - свесившись над лесами, лениво ответил Князь. – Меня здесь кормят. Одежды валом. Келья опять же светлая, с окнами на звонницу. Служба. Чего ещё?
- Князь, не дури! – сурово отвесил Володька Харченко. - Там у тебя зарплата. И комната в общежитии, - попробовал образумить он сбрендившего товарища. - А тут всё - «во славу Божью». Ну, а закончишь ты им ремонт? Кышнут, и улетишь. Монастырь-то ведь – ЖЕНСКИЙ, Витя! Короче, либо ты сей момент возвращаешься на работу, и тогда мы закроем глаза на твои прогулы. И даже зарплату тебе не срежем. Либо… плакала твоя комната в общежитии.
- Не понял? – привстал над ведерком с известью Князь.
- Так она ж на тебя еще полностью не оформлена, - прояснил ситуацию Володька Харченко. - Так что, если ты не одумаешься и не вернешься к разделочному столу, мы тебя, брат, отчислим по тридцать третей. А это автоматически повлечет за собой и потерю тобой жилплощади.
Подумал, подумал Князь, вспомнил прочитанную им накануне книжицу о тех еще, дореволюционных, русских юродивых и блаженных, которые бегали по морозу едва ли не в голом виде, дополнил недостающее проповедью о. Василия о всеблагом и любящем нас Христе, призывающем всех и каждого на узкий тернистый путь к Спасению, да и сам еще толком не понимая, что это с ним творится, задумчиво заключил:
- На всё воля Божья.
Володька Харченко смачно сплюнул и, уходя из храма, в сердцах погрозил строптивцу поднятым вверх перстом:
- Смотри, Витя, одумаешься, да поздно будет! Ладно уж, так и быть: учитывая твою спортивность: даю тебе три дня сроку на размышление. А через трое суток – и зарплата твоя, и комната в общежитии будут пожизненно аннулированы! Ты меня понял, Князь?
- Понял, понял, - тихо ответил Князь и, мокнув кисточку в ведро с известью, продолжил штукатурить стену.
Так вот, - практически неожиданно для самого себя! – и потерял наш Князь уже заработанные им ранее зарплату и комнату в общежитии. И с этого солнечного августовского дня жизнь его резко переменилась, навсегда уводя незадачливого детдомовца от заранее уготованного ему судьбой простого житейского трафарета.
Глава № 2: ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ. УХОД ИЗ ЖЕНСКИХ ОБИТЕЛЕЙ.
Оштукатурив храм в Киево-Никольском Новодевичьем женском монастыре и с грехом пополам подлечив там руки, - они были изъязвлены до костей работою без резиновых перчаток с гашеной известью, - Князь уже на следующее лето с благословения матушки Агнии перебрался на новое поприще своей около монастырской жизни. Им оказался опять-таки женский, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Там Князь опять же во славу Божью: исключительно за еду и кров, - принялся восстанавливать разрушенное хозяйство.
Будучи по натуре человеком довольно легким, веселым и говорливым, он быстро сдружился на новом месте почти со всеми монахинями и инокинями. Пожилые монахини без труда разглядели в Викторе безобидного добродушного балагура, любящего потренькать о том, о сем, особо же, - о духовном. Тогда, как одна молоденькая веснушчатая послушница, благословенная вместе с Князем ездить на лошади за продуктами, как-то раз, заслушавшись россказнями возницы, вдруг предложила ему свернуть с разогретой на солнцепеке пыльной проселочной однопутки к журчащему в зарослях осоки ручью:
- Что-то уж больно душно. Давай-ка, мы окунемся, что ли?
И только тогда, впервые встретившись взглядом той, которую он в простоте сердечной искренне называл сестрой, Князь внезапно сообразил, что в женских монастырях, оказывается, тоже живут не бесполые существа, как ему год назад показалось, но самые что ни на есть обычные, из плоти и крови, живые женщины. И, - вовремя поняв это, он тотчас же просопел, потупившись:
- Так уже половина третьего. Мы и так с тобой на обед опаздываем. Давай-ка в следующий раз как-нибудь окунемся.
И Князь, подстегнув вожжами сонную лошаденку, направил её не в кусты, к ручью, но по дуге и в гору, к белеющим вдалеке приземистым монастырским стенам.
Тем же вечером, под покровом влажных июльских сумерек, собрав все свое ничего в старенький выцветший брезентовый рюкзачок, Князь ушел из Дивеева на Рязанщину, где вскоре и прилепился уже к мужскому, Спасо-Преображенскому Муромскому монастырю.
Глава № 3: СГОРЕВШИЙ ПАСПОРТ. ПОЛНАЯ КНЯЖЬЯ ВОЛЯ.
В те годы по всей стране стремительно открывались монастыри и храмы. Возрождать приходилось их практически с нуля. Заросшие бурьяном руины, отдававшиеся народу бывшими комсомольцами, стремительно перестроившимися в «новых русских момонолюбцев», нуждались в притоке крепких, не поведшихся на рыночные посулы бессеребренников-романтиков. И они, как ни странно, не взирая на семидесятипятилетнюю прополку всего живого, думающего и верующего, пусть и не в очень большом количестве, но всё-таки находились. В основном это были выходцы из сытых интеллигентских страт: сыновья и дочери до мозга костей изолгавшегося совдеповского начальства; чуткие к переменам, вездесущие еврейские «вечные бунтари», которых папы и мамы всегда готовы принять обратно и снова пристроить в среде «своих». Ну и, на фоне этой советско-еврейской фронды, иногда попадались редкие выходцы из простого, не имеющего тылов народа. Князь был одним из них.
С радостью приняв Князя в небольшую команду трудников, - людей, работающих за так или «во славу Божию», - отец-настоятель Спасо-Преображенского Муромского мужского монастыря участливо предложил паломнику спрятать свои документы в огромный железный сейф, вмурованный в стену отдела кадров.
- А то к нам, знаешь, всякие люди сюда слетаются, - философски отметил он. – Иной к Богу идет, спасается. А иной - из мест не столь отдаленных - от власти да от дружков хоронится. Вытащит паспорт и даже не поперхнется. Иди потом, доказывай, что это не ты, а кто-то там под твоим ФИО каинских дел наделал.
Одним словом, вынул Князь из потайного карманчика пиджачка свой молоткасто-серпастый паспорт и отдал его седому, добродушному старцу на сохранение. А уже через день-другой, пася стадо коров на берегу Оки, он вдруг разбужен был громким протяжным криком, донесшимся до него откуда-то с высоты холма:
- Беда, Князь! Беда! Украли!
Быстро вскочив на ноги, Князь с тревогою огляделся.
Со стороны вершины поросшего бурьяном холма, от краснокирпичных стен с возвышающимся над ними храмом, витою тропинкой вниз к Князю спешил худой долговязый парень в драном спортивном трико, в футболке и в грязной бейсболке на голове. Смешно и нелепо размахивая руками, он спрыгнул с холма в высокую, колышущуюся траву. И, потерявшись в ней, вскоре возник обратно, но уже значительно ближе, в метре-другом от Князя, где и, замедлив шаг, повинно, с горечью, сообщил:
- В отделе кадров сейф этой ночью вскрыли. И все документы выгребли. Подчистую.
Так, вслед за комнатой и пропиской, Князь лишился ещё и паспорта.
Это известие, как ни странно, не очень расстроило неофита. Странная цепь событий, - жизнь сироты при живых родителях, потеря жилья и паспорта, - явно складывались в какую-то, свыше предначертанную картину. Логичней всего, казалось, остаться в монастыре и посвятить свою жизнь монашеству. О чем, кстати сказать, при первой же встрече с ним, и намекнул паломнику отец-игумен монастыря:
- Ну, что, Князь, чувствуешь промысел Божий-то о себе? Сам Господь велит тебе оставаться с нами. Попасешь с месячишко-другой коровок, обучишься читать по церковно-славянски, а там, глядишь, где-нибудь на Покров, мы тебя, с Божьей помощью, и в иноки пострижем.
На что Князь, ни секунды не размышляя, брякнул:
- Глуп я, наивен больно.
А про себя решил:
Ну, и на фик мне эта армия: службы, простите, благословите? Вот, если бы стать юродивым, да жить где-нибудь под лестницей, как Алексий – Человек-то Божий! И пусть бы меня тогда унижали, и голодно пусть, и зябко…. Зато бы я с ангелами общался…. И слышал бы пение их небесное! Ну, а надеть подрясник? Да мало ли иноков-то кругом. Одним больше, одним меньше. Мне не интересно.
Так горделиво, а с виду – благостно, промышлял про себя наш Князь, да и нацелился на подвижничество, явственно не подъемное для вчерашнего атеиста. Благо, в те времена, - а случилась у Князя пропажа паспорта в самый в разгар, так называемых, «лихих девяностых», когда «умные люди» по всей стране Россию как раз дербанили: прихватизировали заводы, недра, колхозы, воздух, - ну и, естественно, всем оставшимся до поры до времени разрешили пожить, как им вздумается, - на воле. Одним словом, оставшись без документов, Князь особенно не расстроился: он лишь вздохнул с досады, слегка почесал залысину, да и продолжил свои труды в вящую славу Божью.
Глава № 4: СТРАННИК
Вскоре в Спасо-Преображенский Муромский монастырь завернул сухопарый, в очочках, странник. Бывший школьный учитель истории, вместе со всей страной разочаровавшийся в коммунизме, этот худосочный тридцатипятилетний сибиряк с рыжеватой бородкой клинышком, «бросив свой партбилет на стол», из идейного атеиста-ленинца превратился в один присест в кондового православного. Причем он не просто стал рядовым кающимся христианином, каких появилось в те годы множество; с решительностью бывшего партработника он решил преобразить себя в величайшего подвижником благочестия.
Для достижения этой высокой цели он бросил работу провинциального школьного педагога, оставил семью и дом, и по дореволюционной, распечатанной на ротапринте книжице «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» принялся заниматься Иисусовой молитвой. Более, чем полгода он бубнил про себя на даче по пять тысяч молитв за день, но так ничего особо духовного с его сердцем не происходило: ни видения ангелов, ни особой внутрисердечной разгоряченности он, к сожалению, не сподобился, - то он с тем же максимализмом бывшего неподкупного профработника, взвалив на плечо рюкзак, пошел пешком по дорогом рухнувшего СССР настоящего Старца Божьего искать. Ведь должен же был остаться какой-нибудь Серафим, который поможет ему, томимому духовной жаждой, спустить его просвещенный холодный ум в одеревеневшее от бесконечных молитвословий сердце?
Долго искал он по всей стране достойного «исихаста», у которого можно было бы подучиться этому непростому «умному деланию». И вот, наконец, неподалеку от Мурома, в сельце Постниково, в Ивано-Вознесенском мужском монастыре он отыскал такого. Им оказался недавно вернувшийся из Афона, духоносный игумен Авель. Только тот, как ни странно, на нижайшую просьбу странника подучить его «высшей духовной мудрости», ответил как-то уж слишком уклончиво:
- А ты зачем это бросил семью и школу? Ступай-ка ты, брат, домой, да обучи для начала свою жену и трех мал-мала меньше погодок-деток азам христианской жизни. А если и после этого тебе захочется стать монахом, то приходи, пострижем тебя, хоть перед смертью, в инока.
- Вот я и возвращаюсь теперь домой, - жуя монастырские хлеб да кашу, закончил с досадой странник, - видно, придется мне с годика полтора помиссионерствовать среди своих неверов. И только потом уже, когда старец почувствует, наконец, всю серьёзность моих намерений, вернусь к вам обратно, в Постниково.
Сквозь прищур наблюдая за стадом коров, пасущимся у реки, Князь молча дослушал странника. И пока тот, сидя в густой траве, на разостланной около пня попоне, вымакал хлебным мякишем остатки молочной каши, прилипшие к днищу чашки, Князь сам про себя решил: а пойду-ка я к старцу Авелю, да научусь молиться. Семьей я не обзавелся, детишек не заводил, авось наловчусь спускать ум свой сквозь шею в сердце?
Одним словом, на следующее же утро, благословясь у отца-настоятеля Муромского мужского Спасо-Преображенского монастыря, Князь на попутном молоковозе переехал на жительство в сельце Постниково, в Иоанно-Богословский мужской монастырь, под крылышко к духоносному игумену-старцу Авелю.
Глава 5: ДУХОНОСНЫЙ ИГУМЕН АВЕЛЬ
Как ни странно, с игуменом Авелем Князь подружился сразу, после первой же исповеди у батюшки. Сухопарый седой игумен, с интересом выслушав дерзновенные княжьи фантазии на тему будущего юродства, с ласковой улыбкой сказал ему:
- А что, и попробуй. Не сразу, конечно. А поживи у нас тут хотя бы с годик, присмотрись, походи каждый день на службочку. И попытайся стать для начала обычным сельским дурачком. Заметишь где кривизну какую, режь правду-матку в глаза пекатору: лежебок призывай к труду, пьянчужек и наркоманов – к трезвости. А если тебя побьют или там, скажем, матерно обругают – прими это как награду Свыше: помолись за обидчиков и терпи. Вот и посмотрим, долго ли ты протянешь в звании обычного сельского Иванушки-дурачка? Но если по ходу дела тебя эта жизнь устроит, можно будет подумать и об усугублении подвига.
………………………………………………………………………………...
После такого благословения Князь не стал дожидаться случая, чтобы броситься в бой с неправдой. В тот же погожий июльский вечер, вернувшись с пастушьего послушания, он хмуро взглянул с порога на всех своих семерых соседей по длинному, как кишка, бараку.
Удобно расположившись в кружок на нарах, бывшие зеки, а ныне – трудники, как и всегда, тасовали карты.
Опасливо покосившись на вошедшего к ним келейника, они не сказали ему ни слова и, тихо переговариваясь, продолжили резаться в подкидного.
И если раньше, при виде их, Князь только вздыхал с досады, да, покосившись на сокелейников, молча укладывался в углу, подальше от стойкого духаря чифиря и перегара, то теперь он, перекрестившись, прямо с порога брякнул:
- Ох, как нехорошо! В монастыре – вечерня! Люди к Богу спешат, спасаются! А мы бессмертные свои души дьяволу в карты скидываем.
- Чего?! – недоуменно взглянул на Князя коренастый крепыш в тельняшке и в адидасовских, с лампасами, шароварах.
- Не обращай внимания, - отмахнулся высокий парень с кривым рваным шрамом во всю правую щеку и с огромной татуировкой Богородицы на плече. - У Князя сегодня не лучший день. Пока он дремал на выпасе, беременная кобылка Настя ему на лысину помочилась. Вот он и выкобенивается.
- Что, правда?! – повеселел крепыш и, принюхавшись к замершему вдали, у входа в барак, «сокамернику», тотчас скривил свой опухший серогубый рот в гримасе брезгливости и отвращения: - Фу, какой душман! А ну-ка, вали отсюда, обоссанец!
И все семеро сокелейников, морщась, как будто они и впрямь учуяли запах конской мочи от Князя, дружно на него зашикали. Кто-то бросил в лицо «юроду» разодранною подушкой, кто-то швырнул в него пакетом из-под кефира; парень со шрамом вскочил с матраца, затопал на Князя и зашипел: - Кыш отсюда! Пшел вон, вонючка!
Одним словом, через минуту все семеро бывших зеков, лениво игравших до этого в подкидного, дружно вскочили с нар и, налетев на Князя, вытолкали его из барака в шею:
- Вали, обоссанец!! Кыш!!!
Оставляя Князя в холодных сумерках длинного грязного коридора, они пригрозили ему от двери в барак:
- Смотри, только сунься, цадик! Тут же уроем, ясно?! Подмойся, да лысинку отмочи, а потом уже и учи.
Пришлось Князю смириться с явной людскою несправедливостью. Но, проведя ту сырую холодную ночь в конюшне, на кишащем блохами сеновале, он всё же не излечился от желания стать юродивым. Уже на следующее же утро он сделал ещё одно замечание, и на этот раз ни кому-нибудь, но самому старшему монастырскому повару, добродушному толстячку Поликарпычу. Нос к носу столкнувшись с ним, выносящим огромную сумку с продуктами из поварни, Князь тихо, наедине, как и предписано то в Евангелии, обличил заговорчески подмигнувшего ему кашевара:
- Святой Серафим Саровский, между прочим, предупреждал: кто хоть нитку из монастыря вынесет, тот с этой ниткой и в ад пойдёт. А ты, брат, целую сумку прешь?! Это же на какие муки ты сам себя обрекаешь!
Добродушный, всегда приветливый и радостный Поликарпыч, с полуночи провозившийся над приготовлением праздничной трапезы для десятка монахов и двадцати двух трудников, от неожиданной наглости подобного заявления буквально остолбенел. Толстые губы его затряслись, запрыгали. И он, брызжа слюной на Князя, пронзительно завизжал:
- Да ты кому это говоришь, сморчок?! Да я тут четвертый год уже, с самого открытия обители – подвизаюсь! Всю душу свою – в монастырь вложил! А ты – кто такой?! Бродяжка! Без роду, без племени перекати-поле! И ты смеешь - мне, такое?! Да я тебя в порошок сотру!
- То, что ты тут четвертый год кашу для братии варишь, безусловно, тебе зачтется, - философски отметил Князь. – Да только ведь воровство – всё едино – грех! Тем паче, грех - смертный! И никакие подвиги на поварне его, брат, не перекроют.
От этого новой княжьей дерзости Поликарпыча буквально перекосило.
- Так это же детям продукты эти! – потрясал он своей неподъемной сумкой. – Безотцовщине, как и ты! Бомжам при живых родителях! После того, как совхозы у нас прикрыли, многие тут спиваются. А дети у них – бесхозные. Вот и приходится их подкармливать. Мне это «воровство» сам отец Авель благословил! Ах ты, пестун паршивый! Вора он обличил?! Да ты разберись вначале, и только потом лечи!
После такой справедливой отповеди Князь, естественно, стушевался. И отступив от повара, с позором ретировался.
А через час-другой, столкнувшись на пасеке с отцом Авелем, он даже хотел было сделать вид, что не заметил батюшку. Однако согбенный, в худом подряснике, благообразный схимник сам улыбнулся Князю. И, подступив к нему, с легкой улыбкой поинтересовался:
- Ну, что, всех обличил, юрод?
И после короткой паузы уже серьёзнее заключил:
- Я ж тебя, братец, предупредил: ты присмотрись вначале. И в первый черед – к самому себе. Люди в других замечают обычно лишь те плоды, какие сами в себе взрастили. Пьяница видит вокруг лишь пьяниц, блудник – блудников, казнокрад – мздоимцев. Поэтому, чтобы увидеть правду о каком-нибудь человеке, нужно бы для начала самому эту правду взрастить в себе. А без помощи Божией да молитвы это попросту не возможно. Осмотри под углом Евангелия все свои навыки да привычки, узри в них сокрытый грех. Да попробуй-ка одолеть его. И вот когда ты, в конце концов, сумеешь стяжать хоть какие-то добродетели, тогда и других учи, как им в себя прийти. А так, одни обличения, да угрозы - мало кому помогут. В лучшем разе – отматерят тебя. А в худшем – ещё и прибьют маненько. И правы, между прочим, будут. Людей незаметно быстрей исправишь. Личным примером. Лаской. Помощью хоть какой-то. А тыкать им в нос грехами, да ещё в таком, как ты можешь, тоне, – значит, просто обидеть их, обозлить: да только глубже во грех вогнать. Недаром же в Евангелии говорится: врач, исцелись-ка вначале сам: разберешься с Божией помощью, как вытащить бревно из своего духовного ока, сможешь и сучец из глаза ближнего своего достать.
- Ну, с Поликарпычем, я согласен, - буркнул в отместку Князь. - Тут явно промашка вышла. Ну а с картежниками? Я же прав! Причем – на все сто процентов!
- Как сказать, - призадумался отец Авель, перебирая четки. – Карты, конечно, грех. Да только ребята-то, в основном, всё из семей проблемных. И родились-то они в ту пору, когда никто ничему хорошему научить их уже не мог и даже не попытался. Вот и ушли они прямо со школьной скамьи на зону. А там – одно развлечение – в подкидного. Душа, конечно, у каждого – христианка: радости, правды жаждет. Да только радость-то вся у Бога. А кто их, на зоне этой - молитве, беседе с Господом, - обучил? Вот и томятся парни, скучая и унывая. Вроде б и в монастыре живут, а на душе – потемки. Так ты бы им для начала про Бога б и рассказал. Да не лекциею с облечением, а личным своим примером путь бы им к духовной радости указал. Пусть бы они увидели благодатного человека. Они бы и призадумались. И. может быть, сами б к тебе пришли: за утешением и советом. А так, - только души им растравил, да ещё сам себя перед ними святошей выставил. За что они, как умели, так тебя и проучили. Вот и все твои «сто процентов».
Совсем приуныл наш Князь. Опечалился не на шутку. Да только благостный отец Авель, как поставил его на место, так тут же с улыбкой и ободрил:
- Бывает. Особенно попервах. Как говаривал Серафим Саровский: «Учить других – это тоже самое, что с высокой колокольни бросать камешки вниз, на землю. А вот самому добродетели-то стяжать - это то же самое, что те же самые камешки на колокольню вверх по одному втаскивать». Не стяжавший же добродетелей, ничему доброму и других научить не может. Так что начни-ка, дружок, с самого себя. Честно трудись, не криви душою, чаще ходи на службу, стань, кому сможешь, помощником и слугой, и вот тогда-то, без обличений, видя перед собой такой благодатный пример для подражания, кое-кто обязательно чему-то доброму у тебя и обучится.
- Благословите, - сложил Князь руки в лодочку для благословения.
Благословляя Князя, о. Авель сказал ему напоследок:
- Больше молись, сынок. И не стремись обличать других. Старайся помочь им в горе. А о себе - забудь. Тогда и Господь, видя твоё усердие в стяжании добродетелей, в конце концов, обязательно прославит тебя за это.
- Так разве ж я ради славы?!.. – побагровев от смущения, отпрянул от старца Князь.
На что батюшка, замахав на него ладошками, с лукавинкой подтвердил:
- Ну, конечно, ты ради Бога! И ради правды Его стараешься! Беспримесно. Ты - святой!
- Ну, не святой… - потупился, остывая, Князь.
- То-то же! – постучал его указательным пальцем по лбу священник. - А раз не святой пока, то и сомкни уста, и ступай себе молча, с Богом. А что-то станет опять не ясно, заходи, попробуем разобраться.
Так и ушел наш Князь, явно впервые в жизни до глубины души уязвленный горячим чувством изначальной своей греховности, лживости и неправды. После стольких-то лет услаждения себя мечтами о святости и юродстве, он вдруг ощутил себя глупым, испорченным байстрюком, застигнутым добрым пастырем на стыдном и непотребном. И с этим горячим чувством разбитого в прах героя, славо- и сластолюбца, не достойного жизни среди простых людей, он и вошел тогда в свой барак. Молча прошел он мимо гурьбы серолицых, попивающих чифирь бывших зеков, как обычно, игравших на нарах, в карты. И, прилегши в дальнем углу барака, смежив глаза, затих.
При появлении столь подавленного вчерашнего обличителя бывалые сокелейники сделали вид, что его не видят. Они, как резались в подкидного, громко выкрикивая при этом: - А мы её дамочкой! Валетик! Туз, - так и продолжили шлепать картами по разложенной на тюфяке газете. И только один из них, добродушный толстяк Григорий с вечно припухшим разбитым ртом, вразвалочку подойдя к лежащему в дальнем углу нар Князю, остановившись над ним, сказал:
- Ну, что, сдал нас Авелю, с потрохами? Думаешь, наградят?! В одиночную келью переведут? Или зарплату, как лучшему дятлу, выпишут?
С трудом приоткрыв глаза, Князь молча взглянул на беззубого обличителя, с ленивою беззаботностью раскачивавшегося над нарами, и после короткой паузы отвернулся лицом к стене.
Тогда от толпы келейников, по-прежнему, в отдаленье играющих в подкидного, к Григорию обратился уже Паренек со шрамом. Слегка приподнявшись на матраце, он тихо, но веско сказал товарищу:
- Гриша, не кипишуй. Дай пацанчику отдышаться. Не видишь разве, как он припух. И понял, что он не прав.
- Ну, если так… - усмехнулся Григорий и отступил от Князя обратно, к игравшим в карты.
Князь, между тем, продолжил молча лежать на нарах. Когда же он, належавшись, встал, наконец-то, с лежбища и, подхватив по пути парашу, стоявшую у выхода из барака, выскользнул в коридор, парень со шрамом, тасуя карты, на мгновение призадумался. И, сунув Григорию засаленную колоду, лениво зевнул:
- Надо отлить, держи.
После чего, с ленцою спрыгнув с нар, двинулся вслед за Князем.
В гулкой ночной тиши было слышно, как с шумом шлепают о железный поддон помои. Вылив содержимое параши в контейнер с мусором, Князь повернулся, чтобы вернуться назад, в барак.
В темноте, освещенный сбоку тусклой электролампочкой, на длинном витом шнуре свисающей с козырька крыльца, облокотившись на широко распахнутую дверь барака, стоял парень со шрамом и не спеша курил.
Ополоснув парашу струйкой воды со шланга, князь подступил к нему. И тогда парень, приветливо улыбнувшись, бодро сказал:
- Погодка какая, а? Звезды, как нарисованные! А никто их не замечает. Монахи по кельям дрыхнут. Наши в картишки режутся. Курнешь? – вдруг протянул он Князю туго набитую беломорину.
Взглянув на папиросу в руке у парня, Князь, направляясь за дверь, сказал:
- Не курю.
А, прошагав уже в сумрачный коридор, едва освещенный всё той же тусклой, висящей над входом лампочкой, прохрипел изнутри подъезда:
- И тебе не советую. Наркотики убивают.
Парень со шрамом насмешливо усмехнулся и, холодно покосившись вдогонку Князю, сжал в кулаке косяк.
Глава № 6: ПЕРЕВОРОТ. НА РОДИНЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
С того памятного вечернего разговора со старцем Авелем, Князя как подменили. Он никого уже больше не обличил. И попытался, как мог, смиряться перед чужой неправдой. Так, чтобы лишний раз особо не раздражаться по поводу недостатков ближних, Князь стал напрашиваться на самые презренные послушания: убирал туалеты, вычищал выгребную яму, вывозил на тощей кобылке Насте зловонные мусорные контейнеры и поддерживал чистоту на конюшне, в птичнике и в коровнике.
По воскресеньям и по великим церковным праздникам, сразу же после службы, он полюбил бродить в одиночестве по окрестным лугам и нивам. Там, опустившись, порой, в густую, колышущуюся траву, под веселенькое чириканье порхающих воробьев, он часами мог любоваться, как тают в глубокой небесной сини всегда на что-то похожие, белые облака.
Иногда же, с утра пораньше, он выходил за последний тын окружавшего монастырь села и по крутому окскому косогору, по пояс, а то и выше погружаясь в молочную белизну зависшего над рекой тумана, долго упорно шагал вперед, поджидая восхода солнца.
Когда же оно, наконец, всходило; и туман над рекой рассеивался, перед Князем вдруг проступало огромное, будто пузо роженицы, пространство заокских далей. От широкой и полноводной в этих местах Оки, вплоть до дуги далекого синего горизонта, открывался волшебный вид на холмистый подол долины с множеством разноцветных заплат полей, лугов, лесополос и огородов, изрезанных тут и там сотнями змеевидных, поблескивающих речушек. Перед видом такой красы Князь, естественно, останавливался и с крутизны высокого окского косогора долго и вдумчиво созерцал былинную ширь России.
Вдоволь налюбовавшись панорамой своей отчизны, он деловито сворачивал вверх и вправо. И, поднявшись по уступам холма к вершине, к белокаменной церкви под золоченым куполом, не торопливо шагал вдоль длинного, поросшего крапивой забора, к небольшой, ведущей на храмовый двор калитке.
У входа в пропахшую прелой вишней, небольшую приземистую церквушку, - в ней когда-то крестили поэта номер один России, Сергея Александровича Есенина, - Князь с важностью останавливался. И, осенив себя ставшим привычным уже крестом, солидно входил в притвор.
Купив у свечного ящика парочку самых дешевых свечек, Князь ставил их на подсвечник, перед одной из множества взирающих на него икон. И, с той же солидною обстоятельностью, с которой он накануне, перед тем, как войти в притвор, чинно перекрестился, вновь осенял себя едва ли не поясным крестом.
Затем он задумчиво выходил из храма и уже в следующее мгновенье, сворачивая за церковь, к узкой асфальтовой однорядке, за которою желтел витой, покрытый лачком плетень с темно-бревенчатою избушкой, крытой, как в старину, соломой, Князь вновь превращался в довольно бойкого и разбитного парня.
Войдя за порожек избы-музея, он тотчас же замечал какой-нибудь недочет в убранстве есенинского жилища и, поправляя прялку или вязаную накидку на кованом рундуке, начинал нарочито не зло браниться, чем вызывал ответную радостную улыбку у пожилой и немного осоловевшей смотрительницы музея.
При виде знакомого паренька в брюках и в синей, навыпуск, тенниске, смотрительница устало вставала с поскрипывающего стула и направлялась навстречу к Князю:
- О, Князь! Что-то давненько тебя не видела? Не заболел ли, случаем?
- Дела, - сдержанно улыбался Князь и, быстро накинув на плечи черный служительский спец.халат, брал в руки совок и веник, принимаясь тщательно подметать и без того чисто выметенную светелку или порожек избы-музея.
Пыля по поветям веником, он мгновенно преображался в «крутого» экскурсовода. И, будучи по натуре, как я уже отметил, человеком довольно шумным, сходчивым и общительным, начинал отвечать на бесчисленные вопросы, с которыми обращались к нему паломники, сновавшие по музею. Эти всегда спонтанные, неожиданные экскурсии, сопровождавшиеся, как водится, то декламацией четверостиший, то пением песен на стихи Сергея Есенина, на час-другой облегчали жизнь настоящей даме-экскурсоводу.
Глава № 7: ПИСАТЕЛЬ Ю.Н. ЛЕОНОВ
Однажды, холодным августовским вечером, возвращаясь из очередной прогулки к дому-музею любимого им Поэта, Князь заметил в лощине, на берегу Оки, небольшую бревенчатую избушку с торчащими вместо крыши гнилыми полуразобранными стропилами.
Рядом, около стопки шифера, аккуратно сложенной под забором, маячила крупная голова седого, лет, пожалуй, уже за восемьдесят, худосочного старика в спортивном трико и в тенниске. С помощью явно гнилой доски и ржавого куска проволоки он тщетно пробовал залатать зияющую дыру в заборе.
С вершины пологого косогора понаблюдав за его нескладными, беспомощными движениями, Князь решительно просопел и, начиная спускаться вниз, к дому с разобранными стропилами, выкрикнул старику:
- Да брось ты этот забор дурацкий! У тебя дом без крыши! Осень уж на носу, вот-вот дожди пойдут. Срочно крыть крышу надо, и только потом - забор.
Отставляя доску за колонну шифера, чисто бритый хозяин дома спокойно дождался того момента, пока возмущенный донельзя Князь, бойко размахивая руками, спустится с косогора к его фазенде. И только, когда тот остановился сразу же за дырой в заборе, с добродушной улыбкой кивнул ему:
- Правда твоя, сынок. Крыша у дома – главное. Да только мне уже не под силу подобная работенка. Вот и делаю, что могу.
- Что, шифер купил, а на калым шабашникам денег не хватило? – стоя в метре от старика, присмотрелся к гнилым стропилам, торчащим над домом, Князь.
- Что-то вроде того, - вытащив из кармана засаленных шаровар дорогой серебряный портсигар, старик ловко открыл его и протянул сигареты Князю.
- Не курю, - отмахнулся Князь и, всё ещё разглядывая прохудившиеся стропила, выдохнул едва слышно: – И Вам не советую. Курение – убивает.
- Наверное, - прикурил старик. – Да что-то уж больно медленно. Восемьдесят шестой разменял в апреле. Давно бы, кажись, к праотцам пора, а я всё – живу, живу, да курево только порчу.
Оставив замечание собеседника без ответа, Князь перевел разговор на другую тему:
- А что ж ты, батя, не имея денег на перекрытие, старую крышу-то разобрал? Хоть какая-то, да была! Всё лучше, чем никакой.
- Глубоко, - пыхнул дымком старик. – Даже не знаю, что тебе и ответить…
- Или тебе кто-то крышу начал перекрывать, да потом передумал, что ли? – высказал догадку Князь.
- А ты, случайно, не следователем работаешь? – улыбнулся в ответ старик. - Прямо комиссар Катанья. Аж страшновато с тобой становится.
После секундного замешательства Князь скромнее уже спросил:
– Картошки нажарить сможешь?
- Смогу, - подтвердил старик.
- А огурец моченый, кус хлеба, чаек у тебя найдутся?
- И даже колбаска докторская, - в тон ему подтвердил старик. - Пара яиц, молоко, сметанка. И водочки пошукаем…
- А гвозди там, рубероид?
- Это всё – без проблем.
- Ну, что ж, тогда завтра, с утра пораньше, жди меня с жареною картошкой. Стропил я в коровнике наберу, - кивнул Князь на рухнувшие развалины из бревен и красного кирпича, топорщившиеся из зарослей сухого борщевика, шуршавшего в метрах пятидесяти от них. – Меня Князем зовут, – протянул он вдруг руку хозяину усадьбы.
- А меня – Юрием Николаевичем, - обменялся с ним крепким рукопожатием радостно улыбающийся старик.
Так вот и познакомились мало кому известный современный русский писатель Юрий Николаевич Леонов с героем нашей правдивой повести, чьё прозвище, как мы знаем, Князь.
Сразу же после этой, как потом оказалось, судьбоносной встречи Князь в последний раз возвратился в крошечное селенье Постниково, в Иоанно-Богословский мужской общежительный монастырь, где и поставил в известность своего непосредственного начальника, пятидесятидвухлетнего сторожа Кузьмича: так, мол, и так; дядь Коля, с завтрашнего утра я ненадолго уйду на хутор, здесь рядом, под Константиново, помогу там одному местному старику покрыть крышей его хибарку.
Выслушав Князя, сторож Кузьмич сказал:
- На хутор, говоришь? Понятно: надоело за так колпачить? Правильно рассуждаешь: ты еще молодой, не пьющий, можешь и в люди выбиться. Только учти, родной, осень уж на носу. А с первыми холодами сюда столько бомжей навалит, что я даже не знаю, сможем ли мы тебя взять на постой обратно?
- Спасибо на добром слове, - насмешливо хмыкнул Князь и двинулся было в барак, чтобы в последний раз провести там ночь и подсобрать узелок с вещичками.
- А то, лучше прямо сейчас бы шел, - вдогон ему выдал сторож. – Чего до утра тянуть? Только казенные нары зорить.
- И то так, - ответил Князь и тем же холодным дождливым вечером, даже не попрощавшись с духовником обители, со всегда к нему добрым и вдумчивым о. Авелем, отправился ночевать к Леонову.
Переночевав у Юрия Николаевича на полатях наспех протопленной русской печи, на утро следующего дня Князь приступил к ремонту.
В течение двух часов он разобрал стропила с заброшенного коровника и, перетащив их оттуда во двор усадьбы, поднял их одно за другим на дом. Там он снова собрал стропила и, покрыв их новеньким рубероидом, настелил помаленьку шифер. Когда же крыша у развалюхи, наконец-то, была покрыта, Князь перешел к ремонту внутренностей избы: сорвал со стен старые, выцветшие обои и подготовил бревна к проклейке фактурных, новых. Всё это время, пока Князь тянул на себе ремонт, хозяин приокского хуторка жарил ему картошку, заваривал крепкий душистый чай и развлекал нечаянного строителя всевозможными анекдотами из жизни русских писателей и поэтов. Так постепенно выяснилось, что Юрий Николаевич вел курс современной прозы в Московском литинституте и только после сдачи весенне-летней сессии переезжал из столицы к себе на дачу, сюда, на Оку, в Есенинские места. Месяц тому назад группа его студентов, приехавшая к учителю пересдавать «хвосты», предложила маститому литератору перекрыть ему заодно и крышу. Леонов «по глупости» согласился. Тогда начинающие писатели бодренько сняли с дома старую, в пятнах мха и источенную жучками щепу, разворотили затем прогнившие во многих местах стропила; а на остаток денег, под прикрытием темноты, даже не разобрав с закрытою сессией зачетки, втихаря сбежали назад, в столицу. Оставили, правда, на кухонном столе записку: так, мол, и так: уехали подсобрать денег для настоящих кровельщиков. Да только уехали, и – с концами. Так и остался маститый мастер дописывать свой роман в стареньком домике на берегу Оки, пусть и без крыши над головой, зато с аккуратно затянутым над письменным столом и койкой, - огромным прозрачным куском клеенки, - почерневшим от копоти потолком.
Благо, то лето выдалось на удивление засушливым, так что до самого прихода Князя потолок так ни разу и не подтек, почему и не обвалился.
- Я ежедневно молился Богу, чтобы свершилось чудо, и Он бы послал мне кровельщик, - завершил свой рассказ Леонов. – И Он, как ты видишь, послал тебя, - неуверенно зыркнул Юрий Николаевич вначале под потолок и только потом - на Князя, тщательно выгребавшего жареную картошку щепоткою хлеба из сковородки.
Сунув щепотку с хлебом в широко распахнутый, поблескивающий от жира рот, Князь откинулся на спинке кострубатого сельского стула и, ковыряя спичкой в зубах, икнул:
- Представляю, чего они там напишут, коли с крышей и то не справились.
- Не понял связи? – удивленно взглянул на него Леонов. – Они ведь писатели, а не кровельщики. С крышей не справились, может, роман хоть какой напишут.
- Вот именно, хоть какой! – поднимаясь со стула, с ленцой потянулся Князь. – Писатель – это Писатель! Взялся, - умри, но сделай! А если ты даже с шифером в штаны навалял и ходу, то какой из тебя писатель?! За бабки любую муру - пожалуйста. А где надо Правду будет!.. Ладно, пойду я, сосну часок. Что-то меня кемарит. Потом потолок докрашу.
Вот так, в разговорах о «самом главном» дача и ремонтировалась. Вначале выровнялись углы, затем отмылись от копоти стены и потолок. И, наконец, засияли новыми светло-коричневыми обоями большая, с русской печью, кухонная половина дома и небольшой, примыкающий к ней, писательский кабинет.
В то лето разыгрывался как раз очередной чемпионат мира по футболу, так что в перерывах между наклейкой обоев и выносом мусора на развалины поросшего борщевиком коровника, Князь и Юрий Николаевич усаживались бок о бок на старый поскрипывающий диван. И, наблюдая за битвами лучших футбольных сборных мира через экран небольшого, еще советского телевизора, громко и от души «болели». Чемпионами мира стали в тот год французы, с легкостью и изяществом одолевшие в финальном матче самих трехкратных обладателей этого титула, грозных для всех бразильцев, причем ни как-нибудь одолели, а разгромили, как кутят: 3-0! То-то тут было радости у двух полоумных русских: у маститого московского писателя-интеллектуала и у помогающего ему с ремонтом, бездомного, скитающегося по Руси бомжа! Болели они, естественно, за слабейшего, - так уж у нас, на Святой Руси, исстари повелось. Поэтому после победы заведомых аутсайдеров, симпатичных и боевых французов, открыто и несказанно радовались: кричали и обнимались так, будто это не сборная Франции победила, а выбились в чемпионы мира российские футболисты.
Выпив же пива на брудершафт и вдоволь повеселившись, Князь и Писатель вышли из дому, на крылечко. И там, охлажденные окским бризом, мягко пахнувшим на них из темени, вдыхая запахи разнотравья, реки и ночного леса, дружно и слаженно вдруг запели:
- «Ямщик, не гони лошадей»…
А чуть погодя, созерцая крупные подмигивающие звезды, затянули на пару:
- «Выхожу один я на дорогу», «Ты жива еще моя старушка?», «Не жалею, не зову, не плачу» ….
Осенью, когда ремонт дома был уже завершен, и дача смотрелась совсем как новенькая, - Князь не только покрасил её снаружи в ослепительно синий цвет, но даже украсил окна вырезанными из старых консервных банок затейливыми узорами, - к вновь сколоченному из длинных жердей забору подрулила подержанная светло-стальная «Шкода».
Осыпаемые мелкой осенней изморосью, из салона машины выбрались высокий худой, чем-то очень похожий на самого хозяина дачи тридцатипятилетний мужчина в кепке, сын Юрия Николаевича, Олег, - и его толстенькая, с отдышкой, семидесятипятилетняя мать, - супруга Леонова, - Ирина Петровна.
Поохав, поахав и вволю налюбовавшись плодами Князевого ремонта, сын и жена писателя принялись собирать хозяина хуторка к заранее запланированному отъезду. Дача – дачей, но жизнь – есть жизнь; и даже в восемьдесят шесть лет в эпоху «шоковой терапии», когда привычный уклад жизни по всей стране ломается, а зарплаты нигде не платят, - мужчина обязан, если, конечно, ещё в силах, зарабатывать деньги на содержание им созданного семейства.
Распихав баулы с черновиками и с писательскими одеждами по багажникам иномарки, семейство Леоновых по традиции решило присесть на минутку перед отъездом. И только теперь, когда переездная суета несколько улеглась, Юрий Николаевич и его супруга, наконец-то, вспомнили о герое нечаянного ремонта.
Взглянув на него, застывшего с удочками подмышкой у выхода из избы, Юрий Николаевич с легкой неловкостью поинтересовался:
- А ты – как же? Теперь – куда? А то, если что, поживи хоть здесь. В марте я снова сюда заеду. Будем с тобой огород копать. К Есенину вместе сходим.
- Зачем же до марта ждать? - ласково улыбнувшись Князю, возразила супругу жена Леонова. – У молодого человека руки, можно сказать, золотые. А в нашей квартире, если ты помнишь, еще со времен Олеговой свадьбы, то есть двенадцатый четвертый год, как ремонта не было. Вот и пускай он к нам в гости едет. По музеям его поводишь, на Красную площадь свозишь, а заодно уж он нам ремонт по старой дружбе сделает. На евро – он не потянет, но хотя бы уж косметический.
- А что?! И - правда! – несказанно обрадовался Леонов. – Вместе будем и дальше жить! Песни тихонечко петь на кухне. На балконе – о вечности размышлять! Я тебя по писательским дачкам, по Переделкино повожу! Патриарха увидишь во время службы. А даже с самим патриаршим духовником, со старцем Кириллом (Павловым), может быть, приведется свидеться? Ну, что, соглашайся, Князь! Едим. Кончай выпендриваться.
И Князь, покобенившись для порядка, в конце концов, с радостью согласился.
Глава № 8: «МОСКВА, МОСКВА…»
Москва встретила Князя ласково и радушно. С первых же дней ремонта, пока подсыхали выровненные под поклейку обоев стены, либо же поджидали подвоза внезапно закончившегося цемента, хозяин писательской трехкомнатной малогабаритки, Юрий Николаевич Леонов, действительно, принялся выводить заезжего Князя «в люди». Не единожды они вместе побывали на всевозможных писательских презентациях, побродили по Красной площади, поглазели на проституток, впервые за годы после советской власти в изобилии появившихся на Тверской. Но с особой торжественностью и с какою-то непонятной для вчерашнего атеиста трепетностью Юрий Николаевич упорно возил «товарища» по православным монастырям и храмам. Так он устроил Князю экскурсии по вновь открывшимся Даниловому, Донскому и Новоспасскому мужским монастырям. На Успение Богородицы они побывали на службе в Троице, к Усекновению главы Иоанна Предтечи Юрий Николаевич с трудом достал пригласительный на Патриаршую службу в Московский Кремль, а уже к концу сентября, на праздник Крестовоздвижения, Леонов свозил своего питомца в патриаршую резиденцию, в Переделкино. Одним словом, за отсутствием достаточного количества денежных средств, бесшабашного ремонтера вдоволь питали пищей духовной, не забывая при этом, вполне естественно, и о пище земной, телесной. Блинчики, борщ, пельмени, докторская колбаска, сыр, молоко, сметанка, а по праздничным и воскресным дням ещё и стаканчик пива, а то и стопарик водочки, естественно, доставались Князю наравне со всеми домочадцами литератора. Все они ели всегда за одним столом, - Писатель, его Жена, Сын, Внучка, три кошки, собака Динка, декоративная крыса Нюшка и приживалец-ремонтник, - Князь. Во время застольного разговора Юрий Николаевич любил посетовать на то, что вот-де, он - старый, маститый мэтр, в условиях победившего рыночного капитализма, под занавес своей длинной, тяжелой жизни вынужден зарабатывать деньги на пропитание, торгуя по самым сомнительным ООО и фирмам купленным оптом чаем.
От этих душещипательных разговоров Князю становилось как-то не по себе. И он просто не мог намекнуть Писателю о том, что у него износились в хлам единственные трусы, а с чужой ноги, адидассовские кроссовки ещё чуть-чуть и совсем развалятся.
Так вот они и жили: вместе с Юрием Николаевичем клеили обои, перестилали паркет в гостиной, обкладывали модным итальянским кафелем ванну и туалет. Когда же пришел конец и этому, уж московскому, «за похлебку и хлеб» ремонту, весьма довольный им и своим новым знакомцем Юрий Николаевич, угощая Князя стаканчиком доброго красного вина, сказал:
- А ну-ка, откушай, Князь! Настоящее грузинское «Киндзмараули»! Только не пей ты залпом! А по чуть-чуть, глоточками. Да придержи во рту, покатай-ка его по нёбу. Ну, как тебе букет, - чувствуешь? Во, винцо-то! Ты такого, брат, отродясь не пробовал!
- Угу, - согласился Князь и, ощущая себя последней, ничего не чувствующей дубиной, с трудом заглотнул сладковато-кислую, перегревшуюся во рту байду.
- Ну, вот, Князь, ремонт и закончен, - поставив фужер на скатерть, перешел Писатель уже к насущному: - Спасибо тебе, родной. Я тут тебе два адреса подобрал. И даже словцо замолвил, чтобы тебя пристроить. Гляди, вот, храм Параскевы Пятницы. Это - в Бутово, здесь, под боком. Но если захочешь поближе к старцу, да к Патриарху Всея Руси, то во тебе телефончик Татьяны Дмитриевны, старосты Патриаршей резиденции в Переделкино. Куда душу твою потянет, туда, брат, и обращайся. Кров и еду тебе обеспечат, а вот насчет зарплаты, - как уж договоришься.
Глава № 9: В ХРАМЕ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ.
В храме Параскевы Пятницы, что в Северном Бутово, Князь проработал совсем недолго. Как им и ожидалось, игуменья женской монашеской сестринской общины, матушка Серафима, почти с первых же слов знакомства, потупившись, сообщила:
- Община наша бедная. На ремонт храма, и то, как видишь, денег не достает. Так что не обессудь: не с чего нам зарплату рабочим своим платить. Вот, если бы ты, к примеру, во славу Божью согласился помочь нам отстроить храм, – тогда бы мы тебя с радостью в вагончике поселили бы: одежонку какую американскую с гуманитарной помощи – обязательно подобрали бы. Да и кормили б как на убой. А вот с деньгами – туго.… Ну, разве разбогатеем, тогда и тебе подкинем…
Выбор у Князя был невелик: либо за трапезу и крышу над головой перезимовать в тепле, да и, к тому же еще, в столице(!), либо в свободный полет бомжа…
Вот он и согласился.
Послушание ему дали вполне посильное: двор подметать, смотреть за порядком во время службы, да грязных, особо наглых бомжей и нищих за калитку храмового забора без лишнего шума и слез спроваживать.
Поселили его в бытовке: нары, скученность, запах смердящих порток и пота. Ну, да Князю не привыкать: с утра, подхватив метлу, пошаркал на улице до обеда. А там, отобедав, чем Бог послал, снова чуток пошаркал. Нищих, бомжей «построил», с послушницей поякшался, сходил вечерком на «службочку», поужинал и ко сну.
В этом нехитром спокойном ритме Князь протрубил всю зиму.
Глава № 10: ЛЮСТРА
На Рождество же игуменье Серафиме какие-то странные благодетели, вместо привычного конвертика с пожертвованием на храм, подарили зачем-то люстру, - огромную, театральную, из чистого хрусталя и стали. Не ведая, что с ней делать, матушка Серафима в сердцах попросила Князя выбросить раритет на храмовую помойку.
Суя люстру в мусорный бак за храмом, Князь вдруг вспомнил о том, что у его приятеля, известного русского литератора - Юрия Николаевича Леонова нет в доме не то, что люстры, но даже приличного абажура для настольной лампы в прихожей. И тогда он впервые со времени их разлуки решил позвонить Писателю.
Леонов обрадовался звонку. Узнав же от Князя еще и об этой роскошной веще, по-приятельски бескорыстно сохраненной ему в подарок, в тот же вечер на пару с сыном подкатил в монастырь на знакомой «Шкоде». И, бережно загружая люстру на заднее сидение иномарки, растроганно улыбнулся Князю:
- Спасибо, Витя. Не пропадай. И если что, звони. Да и заскакивай, не стесняйся. Мы с Ириной Петровной всегда тебя рады видеть.
Прощаясь у выезда со двора, они обменялись с Князем крепким мужским рукопожатием. И серебристая «Шкода-Фабия», осветив светом фар вагончик, за железною дверью которого располагалась ночлежка Князя, навсегда укатила в ночь.
Глава № 11: БЕСНОВАТАЯ. ПЕРВЫЙ «ДУХОВНЫЙ» ПОДВИГ
С первой весенней слякотью, когда Князь раскладывал половую тряпку на порожке двери в притвор, в храм незаметно вошла дородная краснощекая тетка в собачьей шубе и в вязанной красно-бардовой шапочке.
Вечерняя служба была как раз в самом преполовении. Минутою раньше выключили все лампочки, освещавшие помещение, и крепкий дородный батюшка в черном священническом облачении, рыжебородый о. Георгий, едва освещенный спереди одиноко горящей на аналое свечкой, вычитывал у закрытых алтарных врат положенные молитвы.
На игуменском месте, у алтаря, дремала матушка Серафима.
Рядом толпилась стайка молоденьких инокинь и послушниц.
А между ними и дальней дверью, у которой возился Князь, в темной громаде храма, стояли всего лишь две одиноких бабки в длинных, до щиколоток, пальто и в теплых платочках на головах.
Нежданная посетительница, поравнявшись с одной из них, вдруг вынула из-за ворота шубы огромный столовый нож и, глухо, мужиковатым голосом, пробасила:
- Сейчас я вас резать буду! – и двинулась на послушниц.
От неожиданности и страха обе стоявших поблизости от неё старушки даже не шелохнулись.
Стайка же инокинь и послушниц, испуганно оглянувшись на приближающуюся к ним «Даму», только кротко перекрестились и дружно попятились за роскошный дубовый стул с сидящей на нем игуменьей.
Игуменья, в свою очередь, при виде розовощекой тетки, с огромным поблескивающим ножом в руке медленно надвигавшуюся на неё из темени, только то и смогла, что поднять повыше свой серебряный игуменский наперсный крест и, как могла, защитилась им.
В эту секунду всеобщего замешательства только Князь и не растерялся. Замечая одетую в шубу тетку, враскачку, не торопливо, приближавшуюся к монахиням, он решительно отшвырнул в ведро грязную половую тряпку. И, стремительно подскочив к неожиданной посетительнице сбоку, преграждая собою ей путь к игуменье, спокойно остановился.
- Уйди, Князь! – глухими мужиковатым басом зло зарычала краснощекая на Князя и замахнулась на него ножом. – Уйди, а то хуже будет!
Однако Князь даже не шелохнулся. Проявляя завидную хладнокровность, он просто пошел на тетку. И та, наконец, сдалась: всё ещё замахиваясь огромным столовым ножом на Князя, она вдруг попятилась от него. А потом повернулась и, зарычав, бросилась вон из храма.
Князь молча двинулся вслед за теткой.
Выйдя за двери храма, в холодных вечерних сумерках он молча преследовал краснощекую вплоть до храмового забора. И только, когда та, в ужасе покосившись через плечо на Князя, отбросила нож в канаву и выскочила за калитку, Князь резко остановился, постоял на ветру, послушал, как удаляются в темноте шлепки теткиных бот по грязи и, не спеша, пошагал обратно.
Когда он снова вернулся в храм, его тотчас же окружили присутствовавшие на службе старушки, монахини и послушницы. Все они дружно принялись благодарить «героя». Одни – называли его «спасителем», другие - «настоящим мужчиной» и «молодцом». Игуменья же сестричества, грузная мать Серафима, так та и вовсе окрестила его «блаженным».
- Вы слышали, как эта бесноватая назвала его по имени! – возбужденно втолковывала она послушницам. - Откуда ей было знать, как мы его зовем? Бес ей открыл, вражина! А кого знают по имени и пуще чумы боятся бесы! Ясное дело, – святых, блаженных! Выходит, наш Князь - блаженный! Дай-ка я тебя поцелую, милай! – и она, обняв донельзя смущенного «избавителя», троекратно облобызала Князя в слегка обросшие густой однодневной щетиной щеки.
То-то тут началось! Все сестричество, позабыв о том, что они все же монахини, а не просто шальные девки, с трудом оправившиеся от ужаса, начали взапуски целовать «героя». Так что Князь лишь смущенно вздыхал да крякал, подставляя для поцелуя то одну, то другую щеку.
Когда же дошла очередь поцеловать его очередной молодой послушнице, то по жаркости поцелуя и по тому, как будущая монахиня привлекла его голову в свои теплые пухленькие ладошки, Князь понял, что время его работы в очередном женском монастыре подошло к концу. И что пришла пора отыскать Писательскую записку с телефоном Татьяны Дмитриевны - старосты Патриаршей резиденции в Переделкино.
Глава 12: «ПАТРИАРШАЯ ДАМА» - ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА.
Прежде, чем приступить к рассказу о злоключениях Князя в вышеупомянутой резиденции, хотелось бы вкратце сказать ещё пару слов и о его грядущей начальнице, тогдашней грозе всех батюшек и даже архимандритов, «патриаршей даме», - Татьяне Дмитриевне.
Толком о ней никто ничего не знал. Было известно лишь, что появилась она в Москве вместе с вновь избранным Патриархом, Алексием II, переселившимся в Переделкино вскоре после патриаршей интронизации из Санкт-Петербурга. Досужие языки как-то сразу распространили, что была-де Татьяна Дмитриевна в Ленинграде простой актрисой, родила там внебрачную дочь, Светлану, да и пришла потом к Православию, не известно какими судьбами втеревшись, в конце концов, в ближайшее Патриаршее окружение. Причем настолько плотно она к Патриарху втерлась, что кроме неё, да парочки питерских монахинь, ставших потом Алексиевыми келейницами, в этом «ближнем патриаршем кругу», в общем-то, никого и не было. Кто же она в действительности, да и какое место занимала при Патриархе на самом деле – до сих пор ничего не ясно. Зато власть, которою ей позволили патриарши батюшки захватить, была, что называется, – безграничной.
Так уж у нас, на Руси Великой, ещё исстари повелось, что какой-нибудь золотушный служка, подававший с утра кафтан или ендову рассолу проснувшемуся с похмелья князю, мог заодно уж решить судьбу и целой волости, а то так и всего княжества. Впрочем, должность Постельничих и Кормилиц существовала еще с Шумер, и с помощью этих никому, в общем-то, не известных бабушек-повитух, стряпчего или спальника разрушались порой великие дерзкие начинания и приходили к власти ничтожнейшие из смертных.
Потому-то на должности Ключарей, Постельничих и Кормилиц в «те времена» подбирали самых близких себе и верных. И только, вот, в наши дни, в суетную эпоху рыночной демократии, когда все норовят оказаться сверху и никто никому по большому счету больше не доверяет, на такие высокие и ответственные посты изредка воспаряют люди, чем-то сродни героине следующих трех глав нашего правдивой были, - вышеупомянутой Татьяне Дмитриевне.
Крепкая, симпатичная, очень общительная и хваткая, она появилась в Москве, а, точнее, в Патриаршей резиденции в Переделкино, как я уже сказал, одновременно с вновь избранным Патриархом Алексием II (Ридигером). Всегда улыбающаяся и щедрая, особенно – на посулы, она сразу же привлекла к себе внимание и сердца всех сирых, убогих и обойденных. В их числе, как ни странно, оказались не только дворники, храмовые уборщицы, сторожа, слесари-сантехники, разнорабочие и посудомойки: так сказать, самый низ патриаршей дворни. Но, как со временем потом выяснилось, в когорту людей несчастных и несправедливо обиженных вошли все священники и кассиры, казаки, бухгалтера, повара и даже архимандриты. На многозначительные ужимки и намеки на то, что Татьяна Дмитриевна при встрече с Первосвятителем обязательно им поможет, почему-то сразу отреагировали практически все обитатели резиденции. Так грозный с виду Архимандрит Геврасий тотчас же приказал Гостиничному вселить «патриаршую даму» в лучшую комнату в общежитии; а многоопытный эконом – иеромонах Мефодий, потеснив с должности церковного старосты своего сводного брата Виктора, зачем-то устроил для «старой знакомой» его Святейшества прекрасный плацдарм для её будущих махинаций и злоупотреблений. Одним словом, Новая «Патриаршая Дама» выжала из своего скромного положения попутчицы Патриарха при переезде возможный житейский максимум. И, будучи по натуре несостоявшеюся актрисой, тотчас принялась «делать роль» Первой Церковной Леди. Но так как сценария для этой роли прописано ещё не было, то в каждом своем контакте с окружающими её людьми она по чуть-чуть и поддавливала на всех, чисто интуитивно пытаясь определить границы дозволенного ей ролью.
Так, в разговоре с храмовою уборщицей Татьяна Дмитриевна словно бы ненароком слегка оскорбила ту; а, встретившись в трапезной с неопрятно одетым поваром, немного грубее, чем полагается, отчитала за неопрятность. К заезжему батюшке из провинции отнеслась и того диковиннее: поговорила с ним очень сухо, без должного пиетета. А со своим непосредственным благодетелем, местным архимандритом, позволила себе шутку, явно не допустимую в контакте с лицом духовным.
Одним словом, Татьяна Дмитриевна испытывала судьбу. И так как русские люди при встрече с явным открытым хамством в первый момент пасуют, а в храме и возле храма, в силу потерянности традиций, начинают взасос смиряться; то вскоре «Новая русская патриаршая дама» с удивлением для себя и с радостью обнаружила, что границ-то у её роли практически нет совсем. Так что за пять-шесть лет жизни при Патриархе милая бойкая хохотушка с легкою поволокой в карих, немного раскосых глазках незаметно преобразилась в толстую, необъятных размеров бабищу со всегда недовольным видом лениво слонявшуюся по храму либо ж по садику и по дворикам четырехэтажной, в классическом стиле, сине-каменной резиденции. Храмовые ж уборщицы, слесаря, дворники, сторожа, врачи и посудомойки, кассиры и белые батюшки, повара, плотники, казаки и даже сам архимандрит Геврасий старались держаться как можно дальше от этой вечно брюзжащей, колкой и грубой со всеми тетки. И именно в эту пору окончательно преображения неудавшейся питерской Ии Савиной в конченную «Патриаршую даму» Князь и вспомнил о той записке с номером телефона, которую на прощанье, сразу после ремонта его квартиры, сунул ему в кулак маститый московский мэтр, писатель – Ю.Н. Леонов.
Глава № 13: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ТАТЬЯНОЙ ДМИТРИЕВНОЙ
В ответ на звонок и дальнейшие прояснения, что ему-де записку с номером дал Писатель - Юрий Николаевич Леонов, Князю в ухо задребезжало гнусаво-насмешливое хмыканье, и после довольно громкого, нарочито-разморенного зевка, квакающий ленивый голос, в конце концов, произнес:
- Ладно, писательский холлуин, подъезжай уже, так и быть. Поглядим, какой ты там, в корень, Князь.
Так что, даже не выехав из Москвы, Князь уже понял, что совершил ошибку, и в дальнейшем ни по какой протекции ему больше устраиваться не надо. Всё равно ведь придется вкалывать практически задарма, а дураки, или, по-православному – «рабы Божии» и без протекций везде желанны.
Когда Князь предстал перед ясные очи Татьяны Дмитриевны, та, молча выслушав, что ни паспорта, ни трудовой книжки, ни вообще каких-либо документов при Князе нет, насмешливо ухмыльнулась:
- А как же ты, брат сердешный, с писателем познакомился? Как персонаж его будущего романа о жертвах рыночной демократии? Или возле пивного бара помаленьку сошлись характерами?
И на сбивчивый Князев рассказ о том, как он на самом деле познакомился с известным московским литературным мастером, Татьяна Дмитриевна бесцеремонно оборвала его:
- Ладно. Хватит мне заливать. А то разжалоблюсь и заплачу. Ступай, вон, в бытовку, к дворникам, да пусть тебе по протекции метлу поновее выдадут. Будешь мести за храмом: с семи до двенадцати, там – обед, и с двух до шести, до ужина. А после ужина – вон в ту двухэтажку двигай: там у нас трудники обитают. Скажешь, что от меня. Пусть тебя для начала в келью к таджикам определят. Ну, а если ты и действительно такой у нас «православный», к молдаванам переселю. Ладно, ступай, ступай. Некогда мне с тобою тары-бары тут растабарывать.
Глава № 14: «РАЙ НА ЗЕМЛЕ»
Русская пословица гласит: «Что Бог не дает, всё – к лучшему». И это не просто фраза, но постепенно вызревший плод духовного опыта множества поколений.
Впрочем, судите сами: в который уж раз сбежав от, может быть, только ему и кажущегося соблазна, Князь угодил в компанию к пяти правоверным труженикам-таджикам, снимавшим комнатку у Патриаршей Дамы и ежемесячно выплачивавших ей дань в размере едва ли не половины их месячного оклада. По сравнению с обитанием в столичном прихрамовом вагончике, здесь, на станции Переделкино, в лимитческой двухэтажке, расположенной в двух шагах от вечно грохочущих электричек, в метрах трехстах от храма и белокаменных патриарших стен, Князю стало намного суетней, стесненней и внутренне неуютней. Приходилось все время жить с чужими по духу тебе людьми, слушать их тихие печальные разговоры на непонятном тебе наречии и поневоле участвовать в их ежедневно повторяющихся мусульманских странностях. Скажем, Князю было забавно и довольно смешно наблюдать за тем, как взрослые, в общем-то, мужики в свой рамаданский пост занавешивают халатами от всевидящего Аллаха окна и от захода солнца и до рассвета втихаря насыщают плоть запрещенными им в эти дни Кораном молочно-мясными блюдами; как они моют множество раз на дню ноги перед намазом и как смешно и нелепо молятся, возлежа на коленях в сторону Мекки на специальных молельных ковриках. И, тем не менее, уважая чужие и чуждые ему нравы, Князь наловчился являться в комнату только уже ночь-заполночь, когда таджики, совершив свой последний на дню намаз, уже отходили гурьбой ко сну. А поднимался он с нар задолго до первого их намаза. И, перейдя через площадь, которая замыкалась длинной средневековой белокаменной монастырской стеной с золочеными куполами храмов, высящихся за нею, тотчас же направлялся мимо двух сонных казаков-охранников, круглосуточно дежурящих у ворот. Попав в небольшой, уютный, с несколькими замшелыми могильными камнями под вековыми кленами прихрамовый дворик, - отсюда открывался прекрасный вид на четырехэтажный, в классическом стиле, сине-белый дворцовый комплекс с небольшим палисадником перед входом, - там обитал Патриарх, Алексий II, - Князь сворачивал к себе, в будочку. А вскоре, из этой будочки, - в ней хранились тазы и метлы, - Князь появлялся уже в халате, с огромной, с кривым держаком, метлой и начинал подметать дорожки в палисаднике перед Дворцовым Комплексом - обителью Патриарха.
Под шарканье Княжьей метлы об асфальт двора казаки-охранники умывались и, вскипятив в стакане воду на кипятильнике, принимались пить первый утренний крепко заваренный и запаренный под казачьей папахой чай.
Зачастую они предлагали Князю взбодрить себя парой глоточков чая. И
тот обычно не возражал.
Попивая с утра пораньше чай в каптерке у казаков, Князь искренне улыбался окружавшим его парням в новеньких камуфляжных формах и от преизбытка чувств начинал незаметно творить молитву.
И было ведь отчего возблагодарить Творца!
Перед ним, в лучах восходящего на востоке солнца – вставал дивной красы, сине-бело открашенный, с причудливою лепниною вокруг продолговатых стрельчатых окон, многоэтажный каменный Патриарший Дом. Перед дворцом зеленел газон и круглые небольшие клумбы с самыми разнообразными, сладко пахнущими цветами. Между клумб и аккуратно подрезанных, похожих на изгороди кустов – переплетаясь и расходясь, вились асфальтовые тропинки. В первый же день Княжьего пребывания в резиденции, на одной из них, в белом широкополом хорошо отутюженном холщевом подряснике, вдруг появился Сам Патриарх Алексий II. Среднего роста, крепенький, с крошечным, в старинном кожаном переплете, приоткрытым молитвословом, он тихо бродил себе между кустами роз, и Князь поневоле дрогнул. И, впервые увидев перед собой живого и здравого Патриарха, на мгновение обалдел. Но уже в следующую секунду, отставив метлу под иву, решительною походкой двинул к Его Святейшеству.
- Куда?! – зашипел на него Казак. – Туда нельзя! Вернись!
Да только Князя его шипение все же не удержало. Лишь на какую-то долю мига он в смущенье замедлил шаг, но ноги, казалось, сами несли его к Патриарху; и вот уже, не сказав ни слова, но решительно подошел к замершему возле куста роз Святейшему и, аккуратно сложив мозолистые ладони в лодочку, обратился с улыбкою к Патриарху:
- Благословите, батюшка!
С легкой радостною иронией сверху вниз посмотрев на Князя, Патриарх благодушно его поправил:
- Какой я тебе батюшка? Ваше Святейшество!
- Ну, Ваше Святейшество… - смущенно промямлил Князь: - Простите, благословите.
Степенно и радостно благословляя Князя, Патриарх поинтересовался:
- Новенький?
Князь утвердительно закивал:
- Ага.
- Как зовут?
- Виктор… Виктор Яковлевич. А по-простому – Князь.
- Ничего себе по-простому, - рассмеялся бисером Патриарх. – Если князь, то Ваше Сиятельство. Или всё-таки – Ваша Светлость?
- Да нет, я не князь, а – Князь, - как умел, оправдался Князь, - Ну, просто, прозвище у меня такое.
- Ах, прозвище, - все еще тихо лучась улыбкой, посерьезнел Патриарх. – Ну, тогда – хорошо, ступай. Мне перед службой помолиться надо. Как-нибудь в следующий раз встретимся, посудачим. Ты, я надеюсь, надолго к нам?
- Пока не выгонят, - по-солдатски твердо отчеканил Князь.
- Не выгонят, - успокоил его Алексий II. – Если честно работать будешь. Чаще молись, не пей, вот задержишься здесь надолго. А то так и навсегда. Тебе, как я вижу, у нас понравилось.
- А то! – огляделся в восторге Князь. - Рай на земле, и - только!
- Цветочки – это ещё не рай, - посуровел Алексий II. – Где много роз, там и шипов изрядно. Будь осторожен, Князь. Иначе засмотришься на цветочки, и издерешь всё своё Сиятельство.
Патриарх в задумчивости прищурился, и его бесконечно добрые, лучащиеся глаза блеснули вдруг, будто сталь, мужественностью и холодом.
Затем он, так же неспешно, как подступил к кусту, повернулся спиною к Князю и мягкой величественной походкой прошествовал по дорожке в сторону бело-синего, венчающего палисад дворца.
Когда Князь вернулся назад, к казакам, те взапуски зашикали на него:
- Ты, чего, ошалел, мужик?! Нас же за это уволить могут! Ну, куда ты без спросу лезешь?!
- Так я только… благословился, - потянувшись к метелке, смущенно проблеял Князь.
- Благословился он… - сплюнул в сердцах плечистый пожилой казак. – А у меня, под Керчью, шестеро шеегрызов. И матка – бревном лежит. И куда мне потом прикажешь, если отсюда кышнут? – оголил он вдруг перед Князем деревянный протез на своей руке.
- Я больше не буду. Честно, - потупился, стушевавшись, Князь.
- Сомневаюсь! – не поверил ему пожилой казак: – Кто раз на буфет попер, тот обязательно снова вляпается.
Правда, через секунду, он уже мягче спросил у Князя:
- А про что вы там, с Патриархом, так долго перетирали?
- Да я его батюшкою назвал. А он мне ответил, что к Патриарху надо – «Ваше Святейшество» обращаться. Ну и пошло-поехало. Я сказал, что меня, чтоб проще, «Князем» всю жизнь зовут. Ну, а он у меня и спрашивает, так как к тебе обращаться: «Ваше Сиятельство» или «Ваша Светлость»?
- Ну, и ты ему что на то? – сузил глаза Калека.
- Да, ничего. Прозвище, говорю, мол, такое - Князь. Никакой я не светлость и не сиятельство?! А так – полубомж детдомовский.
- А-а-а, - протянул пожилой казак, после чего сказал: – А мы-то уж, брат, решили, что ты у нас настоящий! Так пятками засверкал, что мы тут едва на попа не сели! Собирались сиятельством тебя звать, а ты, оказывается, детдомовский! – и они вместе с напарником по наряду громко насмешливо рассмеялись.
Так вот впервые в жизни Князь встретился с Патриархом. А потом были сотни подобных встреч, во время которых его Святейшество то ласково и с любовью, а то вдруг серьезно и даже с какой-то тоской в глазах беседовал с новым дворником, а вокруг - шелестели листвой кусты роз и рододендронов, а за ними вставал, замыкая ухоженный палисад, бело-синий дворцовый комплекс.
Глава № 15: ВСЕРОССИЙСКИЙ СТАРЕЦ – КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)
Кроме его Святейшества, за высоким белокаменным забором Патриаршей резиденции, жил ещё один всем известный, достойнейший человека. Это был сухопарый, седой монах практически всегда в сереньком, видавшем виды подряснике, - Патриарший духовник и величайший старец конца двадцатого – начала двадцать первого веков, - Архимандрит Кирилл (Павлов). Двухэтажный каменный особняк, на втором этаже которого находилась его небольшая келья, располагался практически рядом с храмом, в метрах пятидесяти от двери, что выводила из алтаря во двор. Каждое утро отец Кирилл бодро вышагивал из-за двери каменной двухэтажки и, чинно благословляя всех, поджидавших его в небольшом заалтарном дворике, переходил в алтарь. После службы он той же бодрой старческою походкой появлялся из алтаря и, облепленный толпой паломников, поджидавших его за храмом, направлялся в известную двухэтажку. Казалось, приметить кого-то из посторонних, толпившихся во дворе, между храмом и двухэтажкой, было практически не возможно. И, тем не менее, когда вместе с толпой паломников к нему за благословением впервые пробился Князь, старец, неспешно и очень выверено осеняя его крестом, заметил ему с улыбкой:
- Раньше меня встаешь. И заметаешь тщательно. А молишься или нет?
- Стараюсь, - вжал голову в плечи Князь.
- Вот тебе и юродство! – как бы в ответ на былые его мечтанья ответил о. Кирилл. - Юродивый – это тот, кто не для мира сего живет. И не по его законам. А ты, разве, не таков?!
- Я об этом как-то не думал… - слегка растерялся Князь.
- Ну, так и впредь не думай. Просто мети и молись себе. Тем, даст Бог, и спасешься. Какого тебе ещё особенного юродства?
- Да никакого я не хочу… - совсем уж смешался Князь.
- А вот это – не надо! – пригрозил ему пальцем старец. – Просил у Бога, держись теперь: умри, а неси свой крест. Иначе, брат, не спасешься.
С тем старец и обернулся к одной из прилипших к нему старушек. А Князь, оттесненный толпой паломников, задумался на секунду. И только уже через две недели, на исповеди у Старца, продолжил начатый разговор об юродивости и спасении:
- У меня паспорт сгорел в Мордовии. И трудовая книжка. Оно б, конечно, и ничего. Да только я тут вчера, случайно, с теткой с одною встретился. С Алатыря. Соседка моей мамани по коммуналке. Так, вот, она рассказывает, будто при смерти моя мамка, а ухаживать за ней некому. Сестра моя только по вечерам заскакивает. Сразу после работы. Да и то на часок-другой. Семья у неё за городом. Кормить её тоже надо. Так что целыми днями мамка в мокром своём лежит. Вся пролежнями пошла. И смрадными гнойниками. А смерть пока не идет.
Достав из кармана старенького подрясника первый, попавшийся ему под руку, не запечатанный, с пачкой банкнот, конверт, - такие дарят обычно Старцам богатенькие паломники, - о. Кирилл вложил его в руку Князю: - На, вот, съезжай на родину, да проведи свою мамку по-человечески. А заодно уж и паспорт сделай. Он ещё тебе пригодится.
- А как же шестерки там? – в сомнении теребя конверт, зыркнул на Старца Князь. – Вы ж сами нас поучали, чтобы мы по возможности от обмена советского паспорта - на российский, с тремя шестерками, воздержались.
- А у тебя, что, советский есть? – строго взглянул Старец на Князя.
- Но и новый брать всё-таки – как-то стрёмно... – всё ещё теребя конверт с толстенькой пачкой денег, продолжал сомневаться Князь.
- Ничего, для тебя - терпимо, - сжал его руку с конвертом Старец, после чего задумчиво объяснил: – Мать похоронишь, и подъезжай обратно: кайся потом всю жизнь, что не спасительный паспорт взял. В этом и будет твоё спасение.
Так вот, с благословения старца Кирилла (Павлова) и на его же деньги Князь и съездил на родину, в Алатырь.
Глава № 16: НА ИСТОКАХ
Целый месяц, пока ему оформляли паспорт, Князь прожил, - впервые в жизни! – в старенькой коммунальной комнатке, у своей престарелой матери.
Добираться без паспорта от Москвы до Алатыря пришлось Крылову на электричках. На это странствие по России ушло у него не сутки, как было бы, если бы он ехал на прямом пассажирском поезде, а без малого две недели. Зато он доподлинно теперь знал, что развал промышленности и сельского хозяйства – дело общероссийское; точно так же, как и выдача проездных билетов на длинные перегоны по новым внутренним паспортам. Всюду, по всей стране, стояли заброшенные коровники, по городам темнели полуразобранные заводы; и лишь привокзальные обелиски, да кое-где золоченые памятники В.И. Ленину напоминали ещё о том, что это была когда-то могучая коммунистическая империя с однажды похеренною мечтой о построении в отдаленном будущем красного всеземного рая. Теперь, на всех территориях бывшего СССР, «рай» начинался складываться исключительно электронный. И первой приметой будущего Единого Мирового Общества, надвигавшегося на Русь, была выдача проездных билетов на длинные перегоны только по паспортам. Зато на короткие перегоны паспорт пока не требовался. Здесь до времени сохранялась совдеповская свобода. И Князь, аккуратно разменивая банкноты, подаренные ему в конверте Старцем Кириллом (Павловым), с наслаждением проезжал от Москвы до станции Петушки, от станции Петушки до стольного града Средневековой Руси - Владимира, от Владимира до Вязники, от Вязники до Гороховца, от Гороховца до Нижнего, и так, от города к городку и от городка к городу, пока к вечеру одиннадцатого дня не добрался, в конце концов, до конечного пункта своего затянувшегося вояжа – до небольшой, в псевдо-средневековом стиле, станционной постройки города Алатырь.
Прибыв к себе на родину, Князь развернул в руках выдранный от коробки из-под свечей промасленный клочок картона, на котором нечаянная паломница - соседка его мамаши по коммуналке, - большими, почти печатными буквами, записала карандашом незатейливый материнский адрес. Зажавши картонку с адресом в кулаке, Князь отправился пешедралом через весь Алатырь к болотцу, на пустынном, поросшем багульником берегу которого одиноко серел над пустошью пятиэтажный кирпичный дом с двумя дорическими колонами. Это и был бывший Дворец Культуры, со временем перестроенный в рабочую коридорку, на втором этаже которой, в крошечной комнатушке с половиною изразцовой печи, прошитой фанерной перегородкой, лежала прикованная к постели, тощенькая скукоженная старушка. От спертого запаха прелой мочи и кала, а так же от сладковатого духа гниющих пролежней так сильно пощипывало в глазах и так нестерпимо першило в горле, что Князь, только мельком взглянув на тощенькую, сгорбившуюся старушку с жиденькими волосиками над сморщенным, будто сушеная груша, личиком, тотчас прошел к окну. И, распахнув небольшую форточку с прилипшей к её фрамуге пожелтевшей от времени полосой газеты, выставил в зево форточки стриженную под ежик голову.
Волна студеного октябрьского ветерка мягко пахнула Князю в лицо. Холодные брызги осенней измороси тонким шаром усеяли ему лоб и шею, увлажнили его распахнутые в темноту за окном глаза, вспухли, сбираясь в капли, вокруг приоткрытого, как у рыбы, выброшенной на берег, рта.
Смахивая ладонью холодную влажную пелену со лба, Князь чуть приметно сгорбился и впервые за много лет, тихо мыча, заплакал. Если бы кто-нибудь спросил его в ту минуту: и о чем же ты, Княже, плачешь? – то он, пожалуй, и не ответил бы. Скорее всего, он плакал из жалости… к самому себе, к своей одинокой быстротекущей жизни, к неумолимо приближающемуся финалу. Вид поверженной жизнью матери, её беспомощная распластанность в собственных экскрементах, как наждаком, содрали с его чуть раскосых глаз цветастую пелену вечно манящей куда-то жизни. И вот он, столкнувшись с тем, что всех нас, в общем-то, ожидает, вдруг проникся безмерной жалостью вначале лишь к самому себе. И только потом уже, всем нутром ощутив пуповину сущего, к той несчастной, скрючившейся старушке, которая некогда дала ему эту жизнь. На мгновение Князю вспомнилось улыбающееся лицо согнувшейся над его колыбелькой матери, её молодые лучащиеся глаза, пухлые наливные губы. И это воспоминание о навеки ушедшем счастье в сочетании с видом дряхлой, не знакомой ему старушки, подхлестнуло его к простым и незамысловатым действиям.
Не прикрывая форточки, Князь сосредоточенно огляделся. Затем он прошел к бельевому шкафу, нашел там свежевыглаженные простыни, старенькую, хорошо отстиранную фланелевую ночную сорочку матери и её же теплые женские панталоны. Сложив все это на венский стул, одиноко маячивший у кровати, на котором ворочалась в мокром кале его постанывающая родительница, он решительно вышел из комнаты, в коридор. В длинном узком захламленном переходе со множеством выходящих в него дверей и кособоких людских фигур, замерших на порогах комнат, Князь деловито выяснил у соседей, какой из шеренги тазиков, висящих на над желтой ванной, принадлежит непосредственно его матери, где можно взять половую тряпку, а где - железный совок и веник.
Наполнив щербатый тазик теплой водой из крана, Князь вернулся с обмылком простого мыла и с тазиком снова в комнату.
Обрывком старого полотенца он отмыл тело матери от налипших на дряблую кожу влажных и ссохшихся экскрементов. Затем заменил под матерью обгаженную простынь. И, переодев родительницу в свежевыстиранную ночную фланелевую сорочку и в теплые панталоны, принес с общей кухни бутылку с подсолнечным маслом и баночку с детским кремом. Осторожно смазывая на старческом теле матери темные пролежни и небольшие гнойные язвы, Князь приговаривал едва слышно:
- Потерпи, мама, потерпи…
А, закутав старушку в теплое ватное одеяло, он, как большой художник, отступил от матери метра на полтора и, оглядев дело рук своих, удовлетворенно выдохнул:
– Ну, вот и всё. Ты полежи, согрейся, а я постирушки пока устрою. Захочешь поесть, зови. Я манку как раз поставил. Сварится, потрапезничаем.
Выварив в медном тазу белье и отстирав его в общей ванной, Князь вернулся обратно в комнату и развесил наволочки и простыни на протянутой над столом веревке. Тогда, как желтую от мочи ночную сорочку матери, а так же её чулки, панталоны и драный пододеяльник он развесил на спинках стульев да на распахнутых настежь дверцах старенького бельевого шкафа.
Когда комнатка засияла давно забытой здесь чистотой, а повсюду развешенное белье придало ей вид уютности, Князь принес с коммунальной кухни кастрюльку с дымящейся в масле манкой и, разложив её по тарелкам, поставил их остывать на стол.
Пока он с жадностью уплетал горячую кашу с булочным сухарем, -Князь нашел его под столом, на кухне, - мать чуть приметно вздрогнула и приоткрыла красные, воспаленные щели глаз.
- Кто здесь? – простонала она чуть слышно, со страхом и недоверием поглядывая на Князя.
- Это я, мама, - облизывая столовую ложку, поднялся со стула Князь и, широко улыбнувшись матери, добродушно и ласково предложил:
- Ну, что, матушка, потрапезничаем? Кашка как раз остыла. Давай-ка я тебя покормлю. Как ты меня в детстве, с ложечки.
В крепком скуластом парне, с ленивою беззаботностью разгуливавшего у неё по комнатке, мать с превеликим трудом узнала своего меньшего сына, Виктора. А, узнав, едва слышно выдохнула:
- Витя, ты?
- А то, – бойко ответил Князь и, опустившись на венский стул, протянул ко рту матери чайную ложечку с манной кашей: - Ну, что мама, ам-ам, за встречу!
Не успев заглотнуть эту первую ложечку манной каши, мать чуть было не поперхнулась, ибо дверь в их комнату с грохотом распахнулась, и на пороге возникла бойкая крепенькая девица, чем-то весьма похожая на сидящего у изголовья кровати Князя. Одетая в старенькое демисезонное стеганое пальто и в сбитую набок шапочку из мохера, незнакомка, с трудом удерживая в руках две почти неподъемных сумки, щуря и без того раскосые узенькие глаза, подозрительно присмотрелась к Князю. А уже в следующую секунду, признав в нём единоутробного брата-близнеца, сестра Лида, - а это была она, - с грохотом бросила сумки на пол и налетела на Князя с бранью:
- Ах, вы гады! Я тут, как рыба об лёд бьюсь! А вы, пятеро лоботрясов, хоть бы пальцем о палец пошевелили…. Ой, не могу, сволота!
В легком недоумении и растерянности, с бледечком манной каши в руках, Князь медленно приподнялся встал навстречу взбешенной Лиде. Та же, срывая со стриженой головы мохеровую обнову, застучала сжатыми кулачками остолбеневшему братцу в грудь:
- Мать умирает. Грязище, пролежни! У меня своих пятеро шеегрызов! А вы, затаились как тараканы! И ждете там, не дождетесь, когда наследство делить покличут.
Отставляя блюдечко с манной кашей на стол у кровати матери, Князь широко осклабился и, с улыбкой схватив сестру за крепенькие запястья, не без труда удерживая её, шутливо и ласково урезонил:
- Да ладно тебе толкаться! Ыш, какую силищу нарастила! Просто братья тебя боятся, вот глаз и не кажут!
- Ах! Так я же ёще и виновата!? – в последний раз напрягла сестра сжатые Князем руки, да только брат обнял её, крепко-накрепко прижал к себе и, успокаивая, сказал:
- Шучу я! Лидок! Шучу! Ну что ж ты, как елки палки!
Лида тотчас же вся размякла и, утыкаясь Князю обмяклым лицом в плечо, громко, навзрыд заплакала:
- Сволочи! Негодяи! Все в папочку – эгоисты! Только бы жрать, да спать. А как матери пособить – не допросишься, паразиты!
- Ладно, Лидок, прости! Не суди, не судима будешь, - слегка ослабляя хватку, усадил Князь сестру на стул.
- Ага! Хорошо тебе рассуждать! Шатаешься по России, как неприкаянный, монашенок ублажаешь! А тут, когда пятеро на руках, да ещё мать помирает – како?! - успокаивая рыданья, выбила Лида нос в грязненький носовой платочек. – Да разве же вы, мужики, поймете?!
Оседая на корточки, рядом с притихшей на койке матерью, Князь лишь спросил участливо:
- А, что, Славик не помогает?
- Что Славик? Он – агроном! Дни напролет на поле. А осень, вот, наступила: моторы у тракторов да у жаток перебирает. Колхозов-то не каких. Вот и приходится самому думать за всё про всё.
Пока они так беседовали, - Лида – медленно утихая, а Князь – лишь сочувствующе покрякивая, - со стороны постели вдруг послышался тихий голос забытой на время матери:
- Ну, слава Богу! Свиделись! Я теперя такая счастливая, что и умирать не страшно!
Продолжение здесь:
главы 19 - 30
https://likorg.ru/post/knyaz-povest-byl-i-i-zhuk-glavy-19-30
главы 31 - 35 (завершение)


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

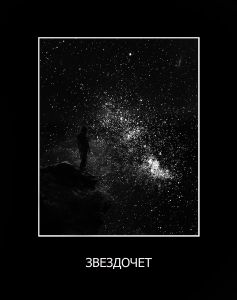


















































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский