На этом таежном полустанке поезда останавливаются довольно редко: всего лишь два раза в сутки. В полночь, да рано утром, когда густой колышущийся туман не успевает ещё рассеяться и затаившиеся во тьме вековечные исполины-сосны выпрастывают из мглы едва-едва покачивающиеся в мутновато-молочном мареве заскорузлые лапы-ветви, в тиши начинает звучать далекий, мерный, чуть слышный стук. Стук этот стремительно нарастает; в темноте зажигаются два изгиба огибающих болотину рельс; и вот уже, на краю разбитой асфальтовой однопутки, притормозив в ошметках клубящегося тумана, останавливается огромный суперсовременный электропоезд. Из его новеньких, едва тронутых пылью дорог вагонов обычно не появляется ни души. Поезд стоит минуту, а иногда и меньше. Едва ли успев открыться, двери вагонов, щелкая, закрываются. И после тихого механического гудка, проскрежетав пружинами автосцепок, так же неторопливо, как он остановился, состав, помалу отчаливает.
Только тогда, доподлинно убедившись, что никого из поезда навстречу к нему не вышло, единственный местный таксист, «зашитый» философ Игорь обычно заводит мотор своего старенького «Фольксвагена» и, с ленцою взглянув на стрелку показателя уровня бензобака, отъезжает от переезда, - к себе в деревню. Благо, она раскинулась сразу же за деревьями, в метрах пятидесяти от таежного полустанка. И там, посреди полуразвалившихся, мало-помалу покинутых односельчанами черно-бревенчатых длинных изб, он ставит свою проржавевшую колымагу во дворе единственного обжитого дома на самом краю оврага. И в летнюю пору берясь за сапку, а в зимнюю - подхватывая колун, принимается коротать медленно протекающее здесь время до следующей поездки к прибытию очередного курьерского поезда: рано утром - «Москва-Владивосток», а где-то в районе полночи - «Владивосток-Москва».
Когда-то, ещё на заре, так называемой, «Перестройки», а, особенно, сразу после неё, сюда, на далекий таежный полустанок, из Москвы, да и из Владивостока прибывало до шестидесяти и больше людей за раз. Былые провинциалы с удовольствием навещали кровных родичей и друзей, остававшихся жить в деревне: жарили шашлыки, ходили на танцы в клубы, горланили под гармошку, а там и под Караоке известные шлягеры да частушки. Правда, довольно быстро, - лет так через пяток, когда всем ходом послесоветской жизни окончательно выяснилось, что никакие экономисты-рыночники вкладывать деньги в развитие ставшего вдруг ненужным, по-ихнему - нерентабельным чуть севернее Москвы сельского хозяйства больше не собираются, поток этот несколько поиссяк. И к поезду потянулся встречный поток таксующих, - навсегда выезжающих из глубинки. Вначале отсюда с радостью устремились скорые на подъем юные пареньки и девушки. Чуть позже, уже поневоле, семьями, к экспрессу «Владивосток-Москва» потянулись взрослые, похлебавшие жизнь сельчане. С галдящей на все лады разнокалиберной детворой они уезжали без радости, но с надеждой на скорое возвращение: тоскливо оглядывались назад, туда, где маячил за косогорами их отчий, кряжистый дом с не заросшим пока бурьяном двором, с дровнями у забора и с разложенным под навесом, на затененном яблонькою крыльце, стареньким, домотканым ковриком. Игорь-философ смотрел на них, сплевывал с нижней губы табак, а про себя решал: спешат земляки, торопятся, за долгие годы советской власти совсем разучились терпеть и ждать. А без упорства да терпежа какой уж ты хлебороб; так, не мужик, колхозник…
Так он провел не одну семью, и на своем «Фольксвагене» вывез на полустанок не одну соседнюю с ним деревню. Лет за десять в его селе расформировали совхозную мехколонну, заколотили досками сельсовет, закрыли библиотеку, школу, медпункт, магазин, буфет. Друзья Игоря помаленьку кто спился от безнадеги, кто - разъехался вместе с семьями поближе к столичным кущам, а кто так и мало-помалу вымер. Казалось, пришла пора подумать о переезде и самому философу; и с опустевшего, заросшего полынью и крапивой сельца с десятком-другим проломленных от снежных наносов крыш перебраться поближе к цивилизации, скажем, куда-нибудь в Большой Город, либо уж, на худой конец, в Кострому или в Ярославль. Однако Игорь не торопился. Напротив, он бросил пить и длинными, зимними вечерами перечитывая помалу стеллажи заброшенной сельской библиотеки, всё размышлял о том, что когда-то же этот Исход с провинции должен же завершиться? Ведь если по всей стране, почитай, уже тридцать лет все поля не паханы и не сеяны, то должен же, наконец, поток отъезжающих в Большой Город смениться обратной людской волной лишних голодных ртов вновь на истоки, к себе, в деревню? Ну, не могут же миллионы вечно жить без жнивья, без пашни, без ягод, грибов, убоины, рыбы, пичужек разных? И так вот, прикидывая размеры будущего Оттока, он и вскапывал по весне небольшой приусадебный огородик, засаживал его луком, репой, капустой, картошкою, огурцами. И, пропалывая все лето съестные припасы на зиму, смиренно и сладостно поджидал: вот потянутся-де земляки обратно, а я их картошечкой угощу, с огурчиком да с грибочками! - то-то радости будет! При этом Игорь не забывал и про своё таксиство. Картошечка с огурцами, естественно, хорошо: но и портки нужны, валенки, одежонка разная. Поэтому часто-густо он выходил с ведром лесной земляники или с лукошком груздьев на обочину некогда асфальтированной, а ныне разбитой огромными лесовозами, в колдобинах и в бурве, дороги и, присев на опушке леса, в тени рухнувшей в топь сосенки, поджидал там и час, и два один из вздымающих пыль КАМАЗов и обменивал у водителя плоды одиноких своих трудов на канистру бензина или бутылку масла для своего «Фольксвагена». Рано же поутру, а там и поближе к полночи он выезжал на стоянку, к поезду. И, освещая фарами темный пологий склон железнодорожной насыпи, поджидал там какого-нибудь шального залетного пассажира.
Когда таковой случался, Игорь с улыбкой встречал его и, принимая возле машины сумку или рюкзак, с удовольствием доставлял земляка-(землячку) в какую-нибудь соседнюю полузаброшенную деревню.
В последние годы таких залетных, нечаянных пассажиров становилось, увы, всё меньше. Порою уже по месяцу, а зимою - так и по два с подножки новенького пульмановского вагона на черную гальку насыпи не спрыгивал ни один залетный владивостокчанин или москвич. А если изредка и сходил, то Игорь больше не улыбался, потому что до встречи с ним, наверняка уже был уверен, что это к ним на побывку заехал очередной земляк похоронить своего очередного умершего родителя.
В то раннее зимнее утро Игорь уже собрался отъехать от переезда, когда от дернувшегося состава, на черную гальку насыпи, вдруг спрыгнули две ноги, и в просвете между отъезжающими вагонами на миг промелькнула сгорбленная фигура в нерешительности озирающегося мужчины с небольшим увесистым рюкзачком за широкими, немного обвисшими вниз плечами.
Не выключая фар, Игорь нажал на тормоз. И как только последний вагон состава прогрохотал, отлетая в ночь, а в свете зажженных фар появился довольно грузный, сгорбленный незнакомец, таксист с удовлетворением отметил, что подходит к нему земляк уже решительно и спокойно, с видом вполне уверенного в себе, степенного человека.
Приоткрыв на два пальца дверцу, Игорь кивнул Незнакомцу на снятый с плеча рюкзак:
- Брось на заднее сиденье.
Незнакомец, - а на вид ему было под пятьдесят, - угрюмо кивнул в ответ и, оставляя рюкзак на заднем сидении иномарки, сел на - переднем, рядом с водителем, после чего, стащив с головы черную вязаную шапочку, угрюмо и односложно выдохнул:
- В Антушково.
- В Антушково не получится, - разворачивая машину, спокойно ответил Игорь. – Там давно никто уже не живет. Лет десять, поди, как дорогу туда не чистили. Могу, если хочешь, на трассе остановиться. Скажем, напротив храма?
- На трассе, так на трасе, - равнодушно выдохнул Незнакомец и, откинувшись на сиденье, устало прикрыл глаза.
На ровной, покрытой ледком развилке Игорь уверенно развернулся и, освещая дорогу перед машиной светом зажженных фар, помчался вдоль частокола мелькающих мимо сосен и словно бы отдельных от них лохматых, покрытых снежком ветвей, раскачивавшихся перед передним стеклом «фольксвагена» наподобие новогодних, развешенных над шоссе гирлянд.
- Дорога туда хреновенькая. Меньше, чем за две штуки, не повезу, - с ленцою отметил Игорь.
Незнакомец лениво открыл глаза и, вытащив из кармана потертой курточки старый потрепанный кошелек, достал из него хрустящую, пятитысячную купюру.
- Вернешься за мною завтра, - протянул он её водителю. - Часикам к четырем.
Игорь кивнул в ответ и, пряча банкноту в карман бушлата, свернул со сравнительно ровной трассы на значительно более узкую и извилистую проселочную дорогу.
Вглядываясь сквозь темень и освещенные светом фар летящие на машину заснеженные гирлянды лапника, он поинтересовался:
- Ну, как там Москва? Стоит!?
Вздернув лохматой бровью, Пассажир лишь пожал плечами и, всем своим грузным видом давая понять таксисту, что разговор окончен, снова прикрыл глаза. Зарождавшаяся улыбка, с которой Игорь намеревался поговорить с мужчиной, сползла с его чисто выбритого, в тонкой сетке морщин, лица. И он, тут же уйдя в себя, поневоле припомнил солнечный летний полдень, до половины сжатую полосу пшеницы, и такого же угрюмого неразговорчивого комбайнера дядю Валю, застывшего в двух шагах от старенького комбайна «Енисей».
К нему, от замершей на дороге «Нивы», деловито приблизился толстенький, в серой рубашке с галстуком и в пиджаке мужчинка лет сорока пяти. Протянув трактористу пухленькую, но крепенькую ладошку, он спросил, заглядывая в глаза дядь Вале:
- Ну, как, дядя Валя, надумал трактор у колхоза приобрести?
- Что, так и развалим всё? - угрюмо, по-простому спросил дядя Валя. – Ведь потом, когда эта техника поломается, вряд ли сможем такой урожай собрать.
- Ну, что ты заладил: потом, потом… - раздраженно ответил мужчинка в галстуке. – Потом… – видно будет. А пока – такая, знать, разнарядка: распродать всю наличествующую у колхоза технику индивидуальным предпринимателям. Пусть они теперь народ кормят. Почему я тебе твой трактор так упорно и предлагаю: чтобы хоть что-то «потом» собрали. Ну, не Васильчикову же, на металлолом, мне живой «Енисей» отдать?
- Хорошо, - угрюмо кивнул дядя Валя. – За сколько продашь?
- Да хоть за так бери, - оживленно шепнул ему мужичонка в галстуке и настороженно огляделся по сторонам. – Мне лишь бы хоть что-то потом пахало. Иначе ведь – голод рядом! Нельзя, чтобы эти модернизаторы всю Россию на металлолом спустили.
И тогда ещё молодой, хорошо загорелый Игорь, - он отдыхал в тени, за комбайном, - сразу же вслед за мужичонкой в галстуке с напряжением огляделся в чистом безлюдном поле….
По мере того, как Игорева машина бойко неслась сквозь темень, туманная даль за окнами начала помаленечку проясняться. Вначале, из полумрака, проступили искрящиеся ряды проносящихся мимо сосен. Потом, по правую и по левую стороны от «Фольксвагена», в просветах между деревьями, проявились заснеженные поля, поросшие тут и там, где – молодыми, хилыми, а где уже и довольно крепкими, раскидистыми березками. Изредка былые поля и пастбища прерывались заброшенными деревнями: утопающими в снегу бревенчатыми строениями, в большинстве своем с проломанными под тяжестью снежных наметов крышами, полуобвалившимися заборами, заброшенными коровниками. Но проходило совсем немного времени, и на фоне серого предрассветного небосклона вновь начинали мелькать заснеженные, в жиденьком самосаде березняка, пространства: былые поля и пастбища. Дорога виляла то вверх, то вниз, то вправо, к поросшему чахлыми деревцами, заболоченному оврагу; то влево, к мусорным терриконам сразу за ржавой будкой заброшенной остановки. Наконец, уже при утреннем сером свете, отделенный от автострады широкою полосой заснеженного обочья, слева от иномарки показался дремучий сосновый бор, в самом центре которого, за строем кряжистых, в шапках снега, деревьев, ало блеснул на солнце огромный краснокирпичный храм. Оцинкованное железо почти со всего его каплеобразного купола облетело. И теперь он стоял, будто выросший из-под снега, древне-сказочный исполин, увенчанный сверху дощатой маковкой с накренившимся вбок крестом.
Останавливаясь прямо напротив храма, Игорь громко, как на вокзале, сообщил:
- Антушково! – и мягко, сочувствующе добавил: - Только учти, родной, десять лет для наших краев, это как вечность для Подмосковья. Крыши всех изб, скорее всего, под тяжестью снега рухнули. Печи от сырости развалились. Так что, может, не стоит туда тащиться? А сразу махнем ко мне? Чайком угощу. Грибками. Грузди в этом году отличные уродились. А под водочку, да с картошечкой. Хорошо! Так, вот, и переждем до ближайшего полуночного.
Незнакомец, до этого молчаливо смотревший за лобовое стекло машины, наконец-то пришел в себя. И, застегнув под самое горло змейку, натянув на уши черную шерстяную шапочку, выбрался из салона. И, лишь потянувшись уже за своим увесистым стареньким рюкзачком, ещё раз настойчиво уточнил:
- Завтра в шестнадцать. На этом месте.
Игорь согласно кивнул в ответ. И под ровный, чуть слышный рокот работающего мотора с легкой усмешкой пронаблюдал за тем, как незнакомец, шагнув к обочине, застыл на краю кювета и сквозь девственно-белую полосу за ним вгляделся в далекий сосновый бор с увязшим в деревьях храмом.
Над храмом, в иссине-сером, низко нависшем небе, кружила воронья стая. С тихим, чуть слышным карканьем, она сделала круг над маковкой и дружно нырнула вниз, тотчас же потерявшись в вершинах столетних сосен. А через миг-другой затихло и отдаленное, сухое, как кашель, воронье карканье.
Тогда Незнакомец надел перчатки, вздохнул и шагнул в кювет.
С тихим, шуршащим хрустом наст под ногой у него осел, и незнакомец увяз в снегу едва ли не по колено. По инерции сделав ещё один шаг вперед, он утонул в снегу уже по саму ширинку.
Смущенно остановившись, он поневоле взглянул назад. Но, встретившись с испытующим взглядом Игоря, - тот сидел, барабаня мочками пальцам по покрытому кожей рулю «Фольксвагена», - Незнакомец решительно отвернулся и вновь устремился сквозь девственно-белую полосу обочья, к маячившему за нею храму.
На этот раз, с тихим шорохом, он провалился под снег по пояс. Но оборачиваться не стал. А упорно, с настырностью человека, решившего либо полечь в снегу, либо дойти до цели, разгребая руками рыхлый, рассыпающийся под кожей перчаток наст, уже не пошел, не двинул, но стал настойчиво продираться сквозь слежавшееся снеговое моховище, по несколько сантиметров за каждый бросок вперед отвоевывая пространство между собой и храмом.
Пронаблюдав за сражением незнакомца с безучастной к нему снеговой пустыней, Игорь отжал педаль и, развернув «Фольксваген», медленно покатил по пустой дороге, оставляя упрямца наедине с широкой полосой обочья и с темнеющею за нею стеной бора, в котором, поди ещё, отыщи вросшую в лес избушку.
II
Минут за сорок до заранее оговоренного момента встречи старенький, много раз перекрашенный, зеленовато-стальной «Фольксваген» с сухопарым, чуть сгорбленным Игорем за рулём показался на горизонте. Медленно продвигаясь по заснеженному участку полого-холмистой местности, он подкатил помалу к тому самому месту напротив храма, где ровно за день до этого Незнакомец сошел с такси.
Тот уже дожидался Игоря: сидел у бордюра, сгорбившись, на стареньком подранном коленкоровом чемодане, а рядом, возле его сапог, лежал опустевший уже рюкзак. И здесь же, на фоне извилистой, протоптанной в снежной нови тропинки, - она уводила к храму, - валялись две детских лыжи с простыми матерчатыми креплениями, да торчали, застыв на краю кювета, две короткие лыжные палки.
Остановив машину напротив сидящего Незнакомца, Игорь с ленивой неспешностью выбрался из салона и, кивком головы указав на старый, с железными ржавыми уголками, ещё дедовский чемодан, на котором сидел земляк, добродушно спросил его:
- Клад?
- Клад, - поднялся с чемодана насупленный незнакомец и, поравнявшись с багажником иномарки, через плечо обратился к Игорю:
- Открой-ка.
Игорь открыл багажник и, рассовав по углам колеса, раздвинув домкрат и тросы, с легкой ирониею спросил:
- «Мерседес» мне не запылит?
- Расплатимся, если что, - уложив чемодан в багажник, ответствовал Незнакомец и с вязким протяжным скрипом резко захлопнул крышку.
Потом они ехали восвояси, по всё той же укатанной лесовозами, поблескивающей ледком дороге, а за окнами иномарки по-прежнему проносились то покрытые снегом сосны, то заросшие чахлыми заснеженными березками заброшенные поля и пастбища.
- Ну, и куда теперь? – проезжая мимо чащобы борщевика, спросил Незнакомца Игорь.
- Ты же меня, кажись, на рыжики приглашал? – в тон ему съерничал Незнакомец. – Под водочку. Да с картошечкой. Хорошо!
Чутко скосив глаза на откинувшегося на спинку сиденья Пассажира, Игорь сдержанно уточнил:
- На грузди я приглашал. Рыжики в наших краях не водятся.
- На грузди, так на грузди! – барственно расправляя руки едва ль не в длину всей спинки, усмехнулся Незнакомец: - Я особо не переборчивый! Лишь бы водочка не паленая. Да картошка не мерзлая. А так – посидим, потренькаем: за милую душу! До поезда прорва времени! Успеем и груздями угоститься, и баньку, если захочется, протопить! Ты только вези, возило! Я за постой плачу!
- Меня Игорь зовут, - отрезвил незнакомца Игорь.
- Ну, а меня – Степан! – уже сдержаннее и суше ответствовал Незнакомец и протянул водителю свою довольно увесистую, хотя и несколько вялую, в свежих водянках, руку.
Выдерживая давление вдвое большей руки Степана, Игорь сказал ему:
- Ты только остынь, земляк. Я ведь тебе не враг. Да и деньги мне твои не нужны. Так, по-дружески приглашаю, как земляк земляка. Ферштейн?
Резко ослабив хватку, Степан снова откинулся на сидении и расслабленно поднял руки:
- Яволь. Гитлер капут?
- Капут, капут, - сухо ответил Игорь и, разминаясь с огромным, груженым бревнами самосвалом, предельно сосредоточился на дороге.
Через сени с поленницами дров, аккуратно сложенными вдоль прохода, и с целою кипой тазов и ведер, развешанных на гвоздях, над дровнями, Игорь провел Степана к крепкой дубовой двери, ведущей на жилую половину дома. И только уже на пороге горницы смущенно остановился:
- Знаешь…. Я…. погоди… Секундочку…
И он, проскочив за дверь, хотел прикрыть её за собой, да Степан пошагал вдогонку:
- Да ладно тебе кобениться! Вижу, что не женатик… - но, оказавшись внутри светлицы, вдруг, на пороге, замер.
Единственная жилая комната, как и везде, на севере, не доходящей до потолка фанерной перегородкой разделялась на две почти равные половины. В левом углу гостиной – располагалась кухня: едва ли не треть её занимала огромная русская печь с лежанкой. А сразу за печью с прилегающим рукомойником лепился длинный кухонный стол. В красном углу – иконы. Между ж иконостасом и фанерной перегородкой, на фоне двух небольших, занавешенных белыми шторками окон, стоял крепкий дубовый стол, крытый довольно старой, но тоже чистенькою клеенкой, и четыре таких же крепких, с высокими спинками, дедовских ещё стула. От русской печи, поперек всей гостиной, тянулась под потолком железная, аккуратно обметенная труба. Прямо противоположным концом своим она уходила в спаленку и проникала там в верхнюю часть голландки, - другой, небольшой печи, с лежащими близ неё березовыми поленьями. Слева от этой печи, вдоль всей фанерной перегородки, лепились топчан, этажерка с книгами и небольшой современный столик с ноутбуком и с кипой листов бумаги, аккуратно разложенных на столешнице. И как же все это крепкое, чисто убранное пространство Игоревого жилища не вязалось с огромнейшей кучей мусора, сваленной в дальнем правом простенке спаленки, прямехонько под иконой «Спас - Ярое Око» с теплящейся под ней лампадкой.
Именно туда, к этой загадочной куче мусора, пытаясь прикрыть её от постороннего взора гостя высокой передвижной трехстворчатой фанерной перегородкой, и устремился Игорь.
Да только Степан, увы, был уже тут как тут. И тоже заметив кучу, метра на полтора вздымавшуюся над полом, даже присвистнул от удивления. И, направляясь следом за Игорем, нахраписто «попросил»:
- Ну-ка, ну-ка. Не заставляй!
Поняв, что незаметно прикрыть ему гору мусора не удастся, Игорь только вздохнул с досадой и принялся поджидать, пока к нему подойдет Степан.
Тот же, неторопливо пройдя через всю гостиную, остановился в шагу от Игоря и с минуту, а то и две молча рассматривал кучу мусора.
Чего же здесь только и не было! От пола, уступами и ступенями, едва ль не доходя до груди мужчинам, здесь вздымались как цепи от бензопил, так и погнутые, с выгнутыми в разные стороны спицами, небольшие детские велосипедные колеса. Потекший, в хлопьях застывшей пены, автомобильный аккумулятор соседствовал с рваными матерчатыми детскими куклами, а обрывки общих тетрадей и книг плавно перетекали в горку битого кирпича и глины. Огромный сосновый пень лежал рядом с дырявыми ночвами с окаменевшим на дне цементом; а пустые бутылки из-под вина были прикрыты толстенным слоем сухих полевых цветов. Консервные банки, ведра, газовые ключи, разобранные будильники, и тут же – обломок китайской вазы с торчащею из неё сухой новогодней елкой в блесках зелено-алого слюдяного дождика и нескольких небольших стеклянных стареньких новогодних игрушек.
- Ну, и на кой всё это? - спокойно спросил Степан.
На что Игорь, наконец-то заставив кучу раздвижной фанерной перегородкой, досадливо отмахнулся:
- Да, всё руки никак не доходят выбросить.
Степан лишь пожал плечами и, ставя свой чемодан у изножья топчана, лениво зевнув, спросил:
– А курточку куда кинуть?
- Да вон, у печи повесь, - указал ему Игорь на ржавый гвоздик, вбитый вначале фанерной перегородки, прямо у перехода со спальной половины комнаты на - кухонную. - Пусть маленько протряхнет. А сам - на топчан садись. Здесь оно поудобней будет. Если малость переберешь, разу на боковую можно. А из-за стола свалишься, поди, дотащи тебя.
- Продумчивый, - с ехидцею отметил гость и, повесив на гвоздик курточку, присел на край топчана, спиной к фанере перегородки.
Продвинув к ногам Степана легкий дощатый ящик из-под пивных бутылок и покрыв его чистым куском клеенки, Игорь выставил на «столешницу» бутылку с коричневато-алым настоем самогона на калгане и два граненых пустых стакана.
В сковородке громко скворчала, поджариваясь, картошка, когда Степан, наполнив граненый стакан калкановкой, предложил хозяину дома:
- Ну, что, Игорек, за знакомство?
- Нет, нет. Я не пью, - посыпая картошку солью, повернулся к Степану Игорь. – Двенадцатый год уже. А вот других угостить: люблю.
- Цирроз? – сочувствующе предположил Степан. – Или чужие тайны любишь у пьяных лохов выуживать? Ладно: твои дела. Я в чужой огород не лезу. Промерз, вот, до охренения. Так что, прости, родной. Твоё, Игорек, здоровье, - и он, запрокинув повыше стакан с калгановкой, влил её прямо в горло.
Вываливая из сковородки жаренную картошку в миски, Игорь внимательно проследил за тем, как правильно и достойно пьет его гость, Степан; как он, даже не покривившись, с ловкостью жителя здешних мест, накалывает на вилку скользкий и юркий груздь, как начинает степенно, с важностью, пережевывать надкушенное.
Доливая в стакан остатки самогонки на калгане, Степан, между тем, спросил:
- Ну, а чего ж ты меня не спрашиваешь, с каких это я шишей ночью, среди зимы, в Антушково прикатил?
Неторопливо накалывая картофельный чипс на вилку, Игорь, с ленцой, ответствовал:
- Так и я ж по чужим баштанам с лопатой не промышляю. Надо будет, сам расскажешь.
- И не надо б, а расскажу, - вдруг глухо сказал Степан и, добивая остатки жидкости, темневшей на дне стакана, с брезгливостью сплюнул на пол мелкую стружку калганного корешка: – Жена от меня слиняла. С лепшим дружком на пару. Двадцать три года я на неё колпачил: прописку московскую отрабатывал. А тут, вдруг, к двадцать четвертой зиме, откинулся. Любой на моем бы месте от радости б ошалел. А я, как прочел от неё записку, так сразу вдруг почему-то скис. По юности, в Перестройку, когда наш совхоз прикрыли, всё легче было себя ломать. Любишь – не любишь, а без зарплаты - какая уж там любовь? Вот мы и порешили с тогдашней моей невестой, Веркою её звали, реально смотреть на вещи. На пару в Москву не въедешь. Да и в Палкино – не получится. Подъемных никто не даст. А за свои шиши,… сам понимаешь, местный… Короче, простились мы с моей Веркой, и каждый своей дорожкой счастья пошел искать. Я на Москву подался, женился там на одной кикиморе. А Верка в Питере прижилась, завскладом при «новом русском». Вот, так мы и перестроились. А тут вдруг стою с запиской, что моя благоверная с дуру мне настрочила, и не могу включиться. Любви не было никакой. Чтоб не шибко сташнивало от крали, «капусту» насобачился шинковать. С земелями из Антушково. И почти всех их потом по очереди на терках с местными положил. Ну, вот оно всё и кончилось. Радуйся, отсидент! Скажи спасибо дружку-приятелю, что дуру твою «отбил». Нет же, практически две недели я, как дурак лежал, да только курил-покуривал. Ни пить не хотел, ни есть, ни встретиться хоть бы с кем-то. И вдруг, как кайлом по темечку: в Антушково надо ехать. Понятное дело, я не больной: знаю, что нет тут давным-давно ни сродственников моих, ни Верки, ни односельцев, ни даже слепого Шарика: лайки моей любимой. Вымерли все, разъехались, спились, сгорели, сдохли: а в голове одно: в Антушково надо ехать! Будто кувалдой бухает. И так вот с утра до вечера. Вот я махнул рукой, сел на ближайший поезд и прикатил сюдои: в Антушково – так в Антушково. Впервые за столько лет, я – Степка-фарт, который каждый свой шаг просчитывал, и все лишь на бабки мерил, вдруг поступил, как последний лох. И оказался… с прикупом. Нет, не клад я нашел в Антушково. Тут лишь одно старье! – отщелкнул он защелки на чемодане и вывалил из него, прямо перед сидящим на стуле Игорем: связку ключей, рулетку, ржавый столовый нож, детскую погремушку, окаменевший кусок смолы, автоматную гильзу времен войны, старый стальной будильник без стеклышка и без стрелок, ну и венец коллекции, - небольшую рогатку с прогнившим куском резинки и с кожаным кожетком.
Вывалив «клад», Степан искоса посмотрел на Игоря; но так как хозяин дома никак не отреагировал на случившееся, - он лишь сидел на стуле, да похрустывал жареною картошкой, - то гость, запихав все вещи обратно, внутрь чемодана, щелкнул проржавленными защелками и отставил свой «клад» за ногу:
– Короче, в Антушково, Игорек, я с Веркой своею встретился. Только не с той, какою стала она теперь: вечно больная и вечно злющая стриженная лахудра; а с той, какою она была двадцать три года тому назад, когда мы с ней сговорились врозь пробиваться к земному счастью: уступчивая, с понятием, молодая…
III
Сквозь поросший густым кустарником, припорошенный снегом сосновый бор, постоянно проваливаясь в сугробы по пояс, а то и глубже, Степан упорно и молчаливо продирался к отчему пепелищу. Сравнительно небольшая бревенчатая изба, состоявшая, как и все на севере, из двух почти равных долей: двора и жилой половины дома, - располагалась на самом краю села, практически возле храма. Их разделяли лишь метров сорок поросшего соснами огорода, да точно такой же, в кустах и в соснах, бывший церковный двор. С храмового крыльца, - а к нему-то Степан и вышел спервоначалу; ибо туда вела меньше всего заросшая сосняком, ещё не вконец разрушенная асфальтовая дорога, - он увидел, что крыша отцовского пепелища, в котором он собирался провести теперь больше суток, ближе к центру всерьез просела; и из-под толстого шара снега, каким был покрыт весь дом, именно в этом месте топорщились во все стороны обломки прогнивших балок.
Понимая, что ночь ему предстоит серьезная, Степан вытер ладонью пот, выступивший на лбу, и через поросший соснами и терновником огород принялся пробираться к родному дому. С трудом разгребая сцепки лапника и колючек, то и дело проваливаясь в сугробы по пояс, а то и глубже, Степан выбрался, наконец, к узенькому пролету деревянного покосившегося забора, за которым темнели стены вросшего, вплоть по окна, в снежную наметь дома.
Отодрав от забора кусок доски, Степан подобрался к двери веранды и, разметав снеговой намет, прикрывавший собою двери, потянул на себя железную, с небольшою щеколдой, дверную ручку.
Не успела входная дверь как следует приоткрыться, как прямо к ногам Степана, в совсем небольшую щель между дверным косяком и дверью, выскользнула лисица. Небольшая, с потертой горбатой спинкой и с длинным, практически лысым хвостиком, она, изогнувшись, как рыжий уж, прошмыгнула меж ног Степана. И, сделав пару больших прыжков в траншее оставленных им следов, улизнула за угол дома.
Степан удивленно взглянул ей вслед. И не успел подумать: с чего бы это лисице выбегать ему прямо под ноги? - как от палево-рыжей гостьи, как говорится, и след простыл.
Тогда Степан повернулся и молча прошел за дверь.
Внутри дощатой клети веранды, судя по тусклому освещению, с трудом просачивавшемуся сквозь окна, Степан, наконец-то, понял, что уже серьезно повечерело. И потому на лестницу, а там и за двери, в сени, прошел быстро, по-деловому, особо не озираясь по заснеженным, в корке льда, углам.
Правда, уже в сенях, у занесенной высоким сугробом снега, приоткрытой двери во двор, он поневоле остановился. И, по косому конусу тусклого рассеянного свечения, освещавшего часть поленницы в сумрачной глубине двора, по огромным отвалам снега, ступенчато, вместе с лестницей, по дуге уходившим вниз, понял, что крыша его избы рухнула именно здесь, вначале нежилой половины дома, и оттого, немного приободрившись, тут же свернул в – жилую.
В рассеянном полумраке едва освещенной от зашторенных окон горницы Степан ободрился ещё сильнее. Дом его детства, не считая рухнувшей русской печи, - её огромные, как морские валуны обломки, торчали из-под растрощенных половиц, слева от входа в горницу, - сохранился практически неизменным, точно таким же, каким он его и бросил, уезжая «счастья искать», - в Москву. Та же немного пошедшая уже волнами, на ладонь не доходящая до потолка фанерная перегородка посредине комнаты, та же громоздкая и приземистая ещё советская мебель. В левой, кухонной половине горницы, - огромный, квадратный стол, крытый тяжелою, с бахромою, скатертью, четыре знакомых массивных стула. Сразу же за столом - застекленный посудный шкаф. А справа от шкафа, у самой перегородки, выпуклый кверху большой сундук с покоящимся на нём ламповым телевизором, и рядом, поближе к проходу в спаленку – огромное неуклюжее ещё дедовское трюмо с покрытым толстым налетом пыли, надтреснутым сбоку зеркалом.
В правой же части комнаты, там, где располагалась спаленка, вдоль длинной фанерной перегородки стояли, сдвинутые спинками друг к другу, две двуспальные, аккуратно застеленные кровати с пирамидами подушек у изголовий. Напротив кроватей, между двух едва-едва выделяющихся на фоне темной стены окошек - чернел куб бельевого шкафа. И здесь же, но только поближе к выходу, располагалась приземистая голландка со свисающим в сторону русской печи длинным, с кулак в диаметре, обломившимся рукавом трубы.
Деловито стащив рюкзак и отбросив его на койку, Степан устремился в сени, и по занесенным снегом ступеням лестницы спустился к полуобрушившейся поленнице.
Набрав там охапку дров, он вернулся обратно, в горницу. И, сбросив дрова на пол, прямо под топкою у голландки, развернул торчавший из печи рукав трубы оборванной частью к ближайшему от неё окну таким образом, чтобы, высадив локтем форточку, можно было в образовавшуюся дыру хоть и не без усилий запихнуть проржавленный, черный от сажи, конец трубы. Проделав всё это и сняв с подушечной пирамиды самую верхнюю из подушек, он запихнул её в зиявшую рядом с трубой дыру. После чего, сев на корточки, перед голландской печью, принялся разжигать огонь.
Огонь разгорелся довольно быстро, но так как печь много лет до этого простояла никем не топленной, а комната очень сильно, до появления черной плесени, проступившей над печью и на стене, отсырела, то долго, едва ли не до полуночи, теплее в гостиной не становилось. Напротив, казалось, что из подвала, куда провалилась русская печь, задувало таким леденящим холодом, что Степану всерьез уже начало мерещиться, что он никогда теперь не согреется. Множество раз в непроглядной темени, освещая дорогу перед собой куцым лучом фонарика, он спускался во двор, к поленнице, и, прихватив охапку оледеневших дров, возвращался назад, к голландке, где с упорством несостоявшегося крестьянина всё подкладывал и подкладывал березовые поленья в топку, однако комната почему-то не нагревалась, а остывала. И только уже к полночи, когда Степан окончательно разуверился в том, что он сможет здесь отогреться и, закутавшись в одеяло, приготовился ночевать, сидя на ящике, у печи, в гостиной довольно резко и значительно потеплело.
С ощущением возвращающегося уюта вернулся и позабытый от напряжения аппетит. Степан вынул из рюкзака кусок сервелата, полбулки хлеба, пару свежих, в пупырышках, огурцов, непочатую чекушку водки и, разложив всё это вместе с ножом и с вилкой на дедовской скатерти, на столе, закрепил на конце свисающего с потолка шнура, рядом с электролампочкой, небольшой карманный фонарик, и тотчас включил его.
В тусклом конусе света, падавшем от фонарика на столешницу, Степан сытно и с удовольствием отобедал. Потом выкурил сигарету и, даже не сняв с себя ни влажных от талого снега джинс, ни такой же сырой и промокшей курточки, завалился, лениво стащив с себя сапоги, на отцовских перинах дрыхнуть.
Уставший, промокший, слегка подвыпивший, с головою укутавшись в одеяло, он ещё даже не задремал, когда дверь за его спиной с мягким, чуть слышным скрипом приотворилась, и чьи-то легкие уверенные шлепки босых ног по доскам пола неспешно к нему приблизились.
Разомлевший от теплоты и выпитого Степан с трудом приоткрыл глаза и, слегка отведя от лица тяжелое лоскутное одеяло, увидел перед собой, освещенный сзади тусклым светом висящего над столом фонарика, силуэт одиноко застывшей женщины. Крупная, налитая, в одной только длинной ночной сорочке, с длинными, распущенными по округлым плечам светло-русыми волосами, женщина подступила вплотную к койке, на которой лежал Степан, и, присев на краю её, выдохнула чуть слышно:
- Подвинься…
- Верка! – пораженный внезапной встречей, привстал на локте Степан.
- Не смотри на меня, - смущенно сказала женщина; и как только Степан с безропотностью телка, отвернулся лицом к стене, женщина, проскальзывая теплой ногою под одеяло, недовольно, с досадой, заключила:
- Ну, ты и обалдуй. Даже штаны поленился снять. Ну, кто же в мокром в постель ложится? А завтра в чем бы ты легковушку ждал? А там и ночного, скорого? У нас тут частенько они запаздывают. Бывает, на час, а то так и много больше. Ладно, снимай штаны. А курточку, так и быть, я и сама тебе подсоблю стащить…
И женщина, дав возможность Степану стащить с себя волглые, в колючках и в хвое, джинсы, действительно помогла ему снять курточку и рубашку. Затем, развесив мокрые вещи на спинке кровати, у изголовья, она повалила Степана навзничь и, уткнувшись ему подмышку, натянула на голову одеяло:
- Ладно. Спим. Холод собачий. Волгло.
- Так сколько же лет, поди, постелью никто не пользовался, - попробовал оправдать свою лежку кулем Степан. – Поневоле в курточке спать уляжешься.
- А просушиться – нэ? Умишко не позволяет! – резче сказала женщина и, забиваясь Степану под руку, заметила примирительно: - Ладно, молчи уже, горе луковое! Крепче бы обнял, что ли?
Степан снова повиновался. И, одной рукой обнимая женщину за теплое и податливое плечо, другой – чуть пониже талии, вдруг ощутил, как она подрагивает, но явно не от сырости и от холода, и даже не от прилива страсти, но от чего-то значительно более мощного, нутряного.
- Ты, что, плачешь? – растерянно заглянул Степан под лоскутное одеяло.
- Дождешься! – зло прошипела оттуда женщина и, укусив Степана за сосок левой, ближней к себе, груди, вдруг резко отпрянула от мужчины, отбросила одеяло и, сгорбленная, дрожащая, заслоняя лицо ладонями, в одной влажной, ночной сорочке, прилипшей к крутым и ядреным бедрам, умчалась к выходу из гостиной.
- Верка, куда? Вернись! Простудишься, дура рыжая! - только и смог, что выкрикнуть ей вдогонку приподнявшийся на локтях Степан.
А, между тем, промелькнув большою сгорбленной тенью по раскрасневшимся кирпичам голландки, женщина с тихим стуком закрыла входную дверь, и шлепки её босых ног по полу сразу же резко стихли.
Так, вот, и не решившись ни метнуться за женщиною вдогонку, ни сказать ей хоть что-то властное, Степан и остался сидеть на пустой постели и, с плохо скрываемою досадой потирая прокушенный сосок груди, прошипел в тишину гостиной:
- Ну, и катись…. Надоели!
После чего, безвольно падая навзничь, на ещё не остывшую от женского запаха и тепла подушку, он зло и рассерженно прошипел:
- Прибежишь. Никуда не денешься. Холод – не тетка. И не таких смирял.
IV
- Я прождал её до утра, - вновь оказавшись на топчане, в полуметре от замершего на стуле Игоря, выдохнул в нос Степан. – Но она так и не появилась. Полночи я пробродил по дому, все сени с фонариком обглядел, всю веранду и двор обшарил, и даже дважды, в пролом, на чердак слазил, но никаких Веркиных следов так и не обнаружил. Зато, вот, на чердаке – на дедовский чемодан наткнулся. А в столярке мамин будильник, да пару сестренкиных погремушек с полочки, у окошка, снял. Во дворе, у отхожего места, рогатку свою надыбал. А Верка, как в воду канула. И что всего хреновее: я опять перед ней виноват. Вчистую.
- Да, сны – это серьезно, - сидя перед Степаном, философски отметил Игорь. - Они как-то с нашей совестью связаны.
- Какие там, на хрен, сны?! – зло прохрипел Степан и, расстегнув две средние пуговицы рубашки, предъявил хозяину комнатушки свежий укус на своем соске; причем, укус явно не комариный, а яйчатый, человеческий, состоящий из двух полукруглых дужек с мысленным центом в районе сердца.
- Ну, так и что же это, по-твоему, было? – мягко поинтересовался Игорь.
- А хрен его маму знает, - застегивая рубашку, с досадой вздохнул Степан. – Сама Верка – теперь старуха.… А эта, что укусила, будто она, да только совсем молоденькая.… И родинка на груди, и прыщик за правым ухом…
- Может, дочка её? – предположил Игорь; на что Степан, раздраженно вскочив с топчана, заходил взад-вперед по комнате и, бурно жестикулируя, прояснил: - Какая там, на хрен, дочка?! Верка – бесплодная, как ялица. Перед тем, как разъехаться по столицам, она от меня аборт неудачный сделала, да так, вот, и опросталась.
С минуту побегав туда-сюда, Степан не присел, но рухнул на то же место на топчане, где он сидел до этого, и, протянув к хозяину горницы граненый пустой стакан, тихо, рассерженно, прохрипел:
- А ну, Игорек, плесни. Что-то меня колотит. Как бы не простудиться.
Игорь угрюмо встал, вынул из-за стола ещё одну поллитровку крепчайшего первача и, наплескав Степану полный, под ободок, граненый стакан калгановки, протянул ему вместе с кусочком хлеба.
Занюхав испитое кулаком и даже не посмотрев на хлеб, Степан завалился плечом в подушку и, повернувшись лицом к стене, проурчал, начиная уже похрапывать:
- Не забудь, разбудить к ночному.… Мне на Москву… кровь из носу.…
Согласно кивнув в ответ, Игорь привстал со стула и, бережно, будто мать, забросив Степановы ноги на одеяло, нежно разул его. Потом он поставил степановы сапоги, носками к печи, сушиться, и не спеша прошел к раздвижной фанерной перегородке, за которою находилась мусорная гора.
Сунув руку в щель между стеною и перегородкой, Игорь, не глядя, достал из горы вещей ободранную середку забрызганной чаем книги. И, присев вместе с нею на старое место, около топчана, перелистнул слипшиеся страницы.
Полумрак Игоревой берлоги осветился вдруг ярким прямоугольником плотно завешанного окна, и молодая строгая двадцатилетняя девушка, Варвара, застыв над лежащим на топчане, лицом к стене, Игорем, сказала:
- Игорек, ну почему ты такой вдруг стал? Что там, в армии, приключилось?
- Ничего, - буркнул в простенок Игорь. – Просто я тебя разлюбил. Бывает же такое, а! – вдруг вскочил он с подушки и, повернувшись небритым, измученным лицом к Варваре, нагло и пьяно пропел:
- Просто я полюбил другую: косую, хромую, глухую…
- Не верю я тебе, Игорь, - парировала Варвара. – Но раз уж ты даже мне не хочешь открыться…. Ладно, живи, спивайся…. Насильно мил не будешь…
- Воть именно! – злобно ответил Игорь и, взрыхлив грязною пятерней слипшиеся заплутавшиеся волосы на голове, добавил: - Уходи, Варя! Найди себе парня. Рожай детей. Я – человек конченный!
- Игорек! Да что же ты с собою-то делаешь! – всхлипывая, метнулась к нему Варвара; однако Игорь, жестко выставив руку перед собой, оттолкнул девушку от себя и сказал уже зло и холодно: - Пошла, дура жалостливая! Ты понятия не имеешь, с каким крысаком связалась! Пшла, говорю! Ну!? Вон!
И Варвара, с участием посмотрев на Игоря, все-таки развернулась и выскочила из горницы.
Застыв у фанерной перегородки, Игорь молча взглянул ей вслед. А как только за убежавшей за двери девушкой с громким хлопком запахнулась дверь, он, усаживая на топчан, натянул себе рубашку на голову и, вновь укладываясь лицом к стене, тихо, по-звериному, промычал:
- Мммм…. Ммммм…. Ммммм…
С тем же не человеческим, но звериным рыком Степан вдруг вскочил с подушки. И, вытаращенными глазами тупо взглянув на Игоря, с развернутым на коленях ошметком книги сидящего перед ним, он, заикаясь и покрываясь потом, в страхе, пролопотал:
- Эта тварь мне только что сердце выела.
Бросив огрызок книги за раздвижную перегородку, на знакомую кучу мусора, Игорь спросил участливо:
- Кто, Верка?
- Какая там, на хрен, Верка! – раздраженно вскочил с топчана Степан. - Лисица! Это она, стерва, Веркою обернулась. И снова ко мне, под рубашку, шусть. А я, как дурак, лежу и даже не шевелюсь. Раз, думаю, виноват, буду терпеть теперя, чего бы она там не отмочила. Лежу, а в тиши - хрусть-хрусть. - О, думаю, Верка-то на сносях, раз забравшись ко мне в постелю, сушку под боком точит. Улыбаюсь, и в одеяло левым глазком кошу. Вижу: а Верка моя – не Верка; а то лисица ко мне пристроилась, та самая, что намедни мне из веранды под ноги шмыгнула: мелкая, лысая, с вострым носиком, я сразу её признал, и махонькими такими, кривыми зубками что-то в груди моей выедает. Я, как вскочу, да рыжую эту стерву рукою за холку хвать; гляжу, а она, проныра, вьется, как угорь, в моей руке, а всё ж таки мое сердце, пока оно тихо ещё так бухкает, хрустя жилками, доедает. Я лисицей об печку хрясь, руку к груди просовываю: а там, где должно быть сердце, дырища в кровавом месиве величиной с кулак, и тянется от оплечья аж до самой моей лопатки.
V
Значительно ближе к полночи, сунув за передвижную перегородку ещё одну пустую поллитровку с прилипшей к донышку стружкой калганного корешка, Игорь сказал Степану:
- А, может, ну его, этот поезд? Поживи пока у меня. Хочешь, на русской печи селись, а хочешь – кровать поставим: на чердаке у меня пылится. Там сетка панцирная просела; так я её подтяну; лучше, чем нулевая станет. Зимой – поохотимся мало-мало, весной – огород отсадим. А летом – грибы пойдут, ягоды, качка меда. Делов тут невпроворот. А соскучишься по «лисицам», съездим на танцы в Палкино. Приглядишь себе кралю по сердцу, подладим тебе твой дом, ну и живи себе, не горюй: с новою зазнобой, на свежем воздухе. И сны твои, как рукою снимет. Знаю, брат, по себе: земля и Господь целят.
Снова всерьез подвыпивший Степан лишь потер с устатку бугристый высокий лоб. И, с досадою отведя глаза, насуплено промычал:
- Да, нет, мне в Москву…. Там дело…
- Слушай! – взяв его за грудки, вдруг притянул к себе гостя Игорь: - Я тоже в Афгане братишку по взводу предал. И он ко мне каждую ночью потом начал во сне являться. Сядет у печки и смотрит, смотрит…. Даже не зло; а жалостливо, как бы с любовью, что ли? Только я от этого его взгляда чуть с умишка тогда не спятил. Запил. По-черному. Полегчало. Ночь пролетит, и ладно: сны прекратили сниться. Зато наяву, с похмелья, вдруг кореш мой приходить ко мне зачастил. И тоже сидит и смотрит. Ну, думаю, всё, приехали. Веревку себе приглядел покрепче. По лесу, бывало, иду и думаю: а этот сук меня выдержит? А, может быть, этот - лучше? Короче, достал меня его взгляд. По самое не могу. И что самое любопытное, почему-то мне показалось, что повешусь, и муки мои закончатся: раз, мол, и – всё исчезнет, будто меня никогда и не было. А при этом ещё заметил, словно кто-то меня изнутри подталкивает: ну, давай уже, Игорек: мужик ты, в конце концов, или дерьмо собачее?
Благо, к тому моменту отец Николай тут как раз осел: палкинский бывший батюшка. Он в тот год на покой ушел, да и решил поближе к станции перебраться. Прыткий такой, глазастый, всё было – шутки шутит, а сам – из-под белых пушистых своих бровей сурово на нас поглядывал. Вот он однажды и подозвал меня, когда я свою картошку рядом с малиной его окучивал, и предложил мне холодненького кваску. Присели мы в теньке сливы, хлебнул я его кваску. И вдруг он меня, как обухом по темечку только тюк: дошел ты, сосед, до ручки: пора тебе, брат, на службу: помолимся, легче станет. А я ему с раздражухи: - Какая там, батя, служба: не верю я в Бога вашего. – А в ад, говорит, при жизни: веруешь али нет? Или ты уже, брат, не веруешь, а прямо в нем обретаешься? Тем более, говорит, коль ад на земле присутствует, значит и рай должен же где-то быть. Во всяком случае, вход в него. Вот ты и приходи: Господь, говорит, Он – милостив, и не таких бедолаг, как ты, из ада за шиворот выводил. Веришь, не веришь, а ты - попробуй. Попытка, она - не пытка. Зато от пытки твоей, возможно, и избавит тебя Господь. И откуда ж он только про мой позор в афганском плену узнал? Я ж никому, кажись, про то ни гу-гу, ни разу, даже в кошмарах своих не баял. Значит, Господь ему как-то там приоткрыл? Или глаз у него наметанный на чужие грехи да беды? Я до сих пор про то ничего не ведаю. Да и не в этом - суть. Главное – свел нас тогда Господь. Вовремя свел, заметь. Как нас, вот, с тобою сводит. Короче, на следующее же утро забрел я тогда на службу. Стал в уголке, томлюсь: ничего, кроме скуки смертной, да тяжести на душе не чувствую. Час стою, два: пустой. Ноги ноют, на сердце - камень, голову с перепою ломит. И ни слова со всех тех ляс, какие отец Николай нам точит, хоть тресни, не догоняю. Как будто он не по-русски, а на китайском каком лопочет. И вдруг, в самый тяжкий момент обедни, когда наши бабки-певчие «Верую» затянули, потом меня прошибло. И сердце так крепко сжало, будто в кулак кто стиснул. Ну, думаю, Игорек, вот он, твой рай, и рядом: отмучился, стало быть. Однако стою себе и вида не подаю: отмучился, так отмучился, без веревки хоть обошлось, и то уже – слава Богу! Но как только я так подумал, отлегло у меня от сердца. И радость такая – блымс: будто шлюзы где прорвало. И легкость, как под наркозом, или когда я в детстве бабкины песни слушал: протяжные, панихидные, но запоет, бывало, а ты только рот откроешь и как будто летишь куда-то сквозь облака и выси. Вот так же и в храме вышло. Стою я, ни жив, ни мертв: и в клиросной старческой катавасии вдруг голос бабки своей расслышал. И это их пение невпопад, этот, вот, дребезг старческий, который меня, признаюсь, всегда раздражал до этого, вдруг показался мне слаще меда, будто то не старухи пели, а ангельский хор с Небеси слетелся и Господа славословит!
Короче, с того самого дня и часа я зачастил на службу. Исповедался. Причастился. И хоть радость и легкость мои прошли, но и афганский братишка мой больше не появлялся. Ни в кошмарах, ни наяву. Ни разу. Так я и исцелился. С пьянками, ясно дело, по молитвам отца Николая, Царство ему Небесное, вскорости завязал. И стал больше в земле копаться. Да вот теперь, когда встречу таких подранков, каким был и сам в ту осень, пробую как-то им подсобить. Выход-то есть, оказывается! Господь да земля целят. Так что, давай, оставайся здесь, пока тебе малость не полегчает!..
- Так, а мне и теперь не плохо, - кривенько усмехнулся в ответ Степан и, выдернув из штанины полу своей рубашки, задрал её левым концом к плечу и предъявил Игорю лишь небольшое красненькое пятно чуть левее и выше сердца. – Клоп, видно, укусил. Или клещ под периною оказался. Они, говорят, живучие. Отогрелся в тепле простынь, вот он меня и тюкнул. А лисица приснилась. Сон.
Затем он уже делово и строго взглянул на циферблат золотых наручных часов и тут же заторопился:
- О, без двадцати двенадцать! Совсем мы с тобою тут заболтались! Давай, Игорек, заводи свою колымагу. А то как бы не опоздать, - и он, подхватив свой старенький коленкоровый чемодан, решительно пошагал с ним к выходу.
Правда, минув голландку, Степан вдруг резко остановился и, хлопнув себя по лбу, с глумливой ухмылочкой прояснил:
- А чемодан-то мой пускай у тебя побудет? - вновь задвинул он чемодан на старое место, у изножья топчана, и сказал уже веско, чинно, с солидностью очень важного, богатого человека: - Приеду в Москву, черкну. Вышлешь потом по почте. А то у меня с утреца стрелка с мэном одним забита. Не могу же я с этой рухлядью в мерин к нему садиться? На, вот, тебе, за сервис и предстоящую пересылку, - сунул он в руку Игорю двухтысячную банкноту и, быстро пройдя к двери, деловито надел у вешалки просохшую уже курточку, натянул немецкие сапоги, да и снова взглянул на Игоря: – Ну, ты чего стоишь? Давай, заводи машину.
Разгладив двухтысячную купюру, Игорь неторопливо поднёс её к теребящему ручку гостю и, протянув ему деньги, заметил тихо:
- Забери свой косарь обратно. Я за постой с проезжих денег не беру.
- Да, ладно тебе, старик, - по-панибратски хотел Степан похлопать Игоря по плечу, да, встретившись с его твердым упрямым взглядом, тотчас посуровел и, сунув двухтысячную купюру в пухленький кожаный кошелек, сказал, уже нервно выхватывая из стопки новеньких пятихаток смятую однотысячную банкноту. – Пожалуйста! Коль мы такие «честные»!
Игорь спрятал тысячную банкноту в карман старенького тулупа и сказал, выходя за дверь:
- Адресок не забудь черкнуть.
- Всенепременно, - язвительно рыкнул в ответ Степан и грузной уверенною походкой отправился вслед за Игорем через заиндевелые скособоченные сенцы, а там и сквозь длинный прямоугольник расчищенного от снежных наметов дворика, к замершей у ворот, старенькой иномарке.
До переезда Игорь домчал Степана без происшествий и точно в срок. Ровно к полуночи, за минуту до остановки длинного, грохочущего состава, он высадил москвича прямо перед тропинкой, пробитой в огромных наметах снега, за которыми начиналась длинная узенькая платформа, освещаемая лишь окнами замерших у неё вагонов.
- Вот тебе – адресок, - сунул Степан водителю сложенный вчетверо лист бумаги и, деловито выбравшись из салона, с тощеньким рюкзачком в заплечье, направился по тропинке к застывшему за сугробами предпоследнему, своему, вагону.
Когда тускло светящиеся в ночи окна вагонов сдвинулись, и гигантский, оледеневший поезд, прогрохотав на сцепках, начал медленно отъезжать от таежного полустанка, Игорь, сидя по-прежнему за рулём, не спеша развернул записку, оставленную ему Степаном. И, увидев лишь чистый лист белой ватмановской бумаги, несколько раз, совершенно непроизвольно, перевернул его. Но уже в следующую секунду, убедившись, что на листе нет ни единой буквы, Игорь выскочил из машины и, размахивая «запиской», ринулся по тропинке к медленно отползающему от полустанка поезду.
Подбежав к предпоследнему из длинной цепи вагонов, Игорь рванул на себя железную ручку двери, за которой исчез Степан. Но так как поблескивающая ручка, как он её не дергал, так и не поддалась, а железный дверной овал даже не шелохнулся, то Игорь метнулся вдоль длинного ряда вагонных окон, медленно уплывающих в непроглядную темень ночи.
За большинством из окон, в тусклой подсветке лампочек-ночничков, спали на полках полураздетые, незнакомые пассажиры. И лишь за одним из них, сидя на краешке нижней полки, в компании пьяных полураздетых панков, что-то бойко и беззаботно рассказывал им Степан.
- Э! Адресок забыл! – забарабанил Игорь зажатым в кулак листком по ледяному контуру уползающего в ночь окошка. – Черкни, куда отправлять рогатку-то?!
Злобно взглянув на Игоря, Степан уже в следующую секунду, после какого-то замечания сидящего рядом панка, поднял обе руки к ушам и, радостно осклабившись, всем своим беззаботно-простецким видом показал бегущему за вагоном земляку, что он ничего не слышит.
Через секунду-другую всё было кончено. Поезд стремительно отлетел в пространство, а сделавший пару шагов за ним, а там и остановившийся на самом краю платформы, у снежных наметов, Игорь, с трудом успокаивая дыхание, с досадою проследил за тем, как медленно угасают, теряясь в полночной тьме, последние красные огоньки, горящие в хвостовом вагоне. Когда же и стук колес рассеялся в отдаленье, и в темени вокруг Игоря привычно и монотонно вновь зашуршали ветвями сосны, он скомкал в руке бумажку, оставленную ему Степаном, и, отшвырнув её подальше за гальку насыпи, вернулся по чуть приметной между снежных бугров тропинке к своему старенькому «Фольксвагену».
Дома, подбросив в печь, на едва мерцающие угли, пару сухих поленьев, Игорь наполнил водой из кружки щербатый железный чайник и, опустив его на варочную плиту, принялся собирать к столу.
Выставляя на ящик из-под бутылок чашку и банку с медом, он едва не споткнулся о ржавый угол Степанова чемодана. Подняв его за ручку и с сочувствующей задумчивостью взвесив тяжесть его в руке, Игорь отставил дедовский раритет за раздвижную трехстворчатую перегородку, на самую вершину мусорной горы, вздымавшейся в красном углу его холостяцкой спаленки, под неугасимой теплящейся лампадкой и небольшой иконкой «Спаса – Ярое Око». Затем он, на скорую руку перекусив, вновь подступил к горе и, начиная выдергивать из неё одну за другую вздымавшиеся там вещи, принялся перекладывать их в другую, рядом строящуюся гору, после каждого такого переклада крестясь на иконку «Спаса – Ярое Око» и тихим шепотом обращаясь к Спасителю:
- Господи, спаси и сохрани раба Божия Степана. Раба божия Николая. Спаси, Господи, и сохрани, рабу Божию Веру, Варвару, Сергия….
VI
А, между тем, в вагоне, приснился Степану сон: будто прибыл он скорым поездом «Владивосток-Москва» строго по расписанию, ещё затемно, рано утром, к хорошо выметенным от снега и едва освещенным мутно-белыми шарообразными фонарями пригородным платформам московского Ярославского вокзала. И будто не было в дебаркадере ни привычных толстеньких полицейских, приготовившихся «доить» впервые приехавших на заработки «колхозников» из провинции; ни прилично одетых, немного чопорных, встречающих родичей москвичей. А вместо них, по безлюдному тротуару с длинной прямой шеренгой тускло мерцающих фонарей шмыгали у скамеек крошечные лисички. Постоянно принюхиваясь к чему-то и с опаской поглядывая на поезд, замерший у перрона, они то и дело перебегали безлюдную до поры платформу.
Но вот, первые пассажиры, появляясь из-за дверей практически всех вагонов, с тревогой и с любопытством взглянули на этих юрких и, вроде бы, безобидных хищников. Многие из транзитников явно насторожились. И лишь молодые люди встретили стаи лисов приветливыми улыбками. Трехлетний же мальчик в шубке, так тот и вообще обрадовался. И, вырвав ручонку у матери из руки, первым помчался навстречу тощей, застывшей в шагу от него лисичке и с ласковой безмятежностью попытался её погладить:
- Мама, смотри, лисичка!
Однако, как только мальчик прикоснулся жиденькой лисьей шерстке, лисица без всякой злости, спокойно и хладнокровно цапнула смельчака за пальчик. И как только ребенок взвыл, растерянно озираясь то сидящую перед ним лисичку, то на прокушенный ею пальчик, рыжая с ленивой безмятежностью поднялась с тротуара и протрусила к электровозу. Присев же в тени колес, она лениво и гибко выгнулась и начала вылизывать клочковатую шерсть на холке.
Мама мальчика помрачнела. И, подхватив на руки плачущего ребенка, замахнулась перчаткою на лисицу:
- Ну-ка, пошла отсюда!
Однако лисица лишь покосилась через плечо на женщину, но как сидела, чуть выгнув спину, длинным загнутым языком вылизывая лишай на холке, так и осталась сидеть на месте, и только её небольшие желтые, с вертикальными зрачками, глазки как бы едва заметно, насмешливо улыбнулись.
Тогда мать, раздраженно фыркнув, в бессилии и в досаде набросилась на ребенка:
- А ты зачем убежал от мамы?! Говорилось тебе, стой рядом! Нет же, зачем-то полез к лисичке? Вот тебе и наука: не лазай, куда не следует! А уж, тем более, к хищной твари, которая, может быть, даже бешеная!
Осмотрев небольшую ранку, образовавшуюся на пальчике у ребенка, мать, ища поддержки у окружающих, обратилась к первому же попавшемуся ей на глаза прохожему:
- Безобразие, в общественном месте целый зоопарк развели! И ни единого санитара!
Прохожий, - а им оказался сутулый сухой мужчина в коричневой кожаной куртке с лисьей оторочкой на воротнике, - пронося мимо матери и ребенка два огромных пластиковых чемодана, брякнул:
- Бардак! Ни носильщиков, ни таксистов! Сталина на них нету!
- Причем тут Сталин?.. – поджала надутые губки мамочка, но так как её сынишка рыдал всё громче и безутешней, то она, моментально забыв про Сталина, да и о прошедшем мимо неё мужчине, принялась обдувать ребенку прокушенный лисом пальчик: - Ну, что ты завелся, Васенька?! Здесь ничего нет! А ты собирался стать Аватаром! Вот и терпи теперь! Ты же у нас – звереныш!
А, между тем, по покрытой ледком платформе, поскрипывая колесиками импортных чемоданов, побежали вдоль длинной кишки вагонов самые деловые из прибывших пассажиров. Кто - в одиночку, кто – дружно, семьями, а кто и в обнимку, парами, транзитники устремились мимо мамаши с мальчиком. Только парочка человек слегка покосились на всхлипывающего ребенка; и только один подросток, пробегая мимо лисицы, шикнул на рыжую:
- Пшла отсюда!
Скосив глаза на подростка, лисица даже не шелохнулась. И, как уселась на задних лапках, уперевшись в тонкие выпрямленные, передние, так и осталась сидеть на месте, и только её облезлый, довольно короткий хвостик с белым пушистым кончиком то чуть приметно приподнимался, то так же мягко и незаметно опускался на тротуар, с ленивою безмятежностью похлопывая по серому, покрытому льдом асфальту.
Из глубины же мало-помалу заполняющейся людьми платформы, - вдруг разнесся весьма встревоженный, хотя и чуть слышный вскрик:
- Люди добрые, да что же это такое деется?! Прямо средь бела дня!
Оглянувшись на этот окрик, в просвете между людьми, Степан увидел довольно странную и на первый взгляд совершенно немыслимую картину: сгорбленный бритый сухой старик в старомодном демисезонном пальто и в шапке с растопыренными ушами, подняв над головой костыль, замахнулся им на ораву скалящихся на него лисичек. А не успел костыль с тупым, едва слышным треском обрушиться прямо на спину несколько заскорузлому, одноглазому вожаку, как тотчас же вся ватага залегших вокруг старика лисичек стремительно поднялась и с клацаньем мелких кривых зубов набросилась на калеку. Лисы принялись драть несчастного, царапать его, кусать. Одни из них рвали его за серые, в огромных калошах, валенки, другие - за полы длинного, расстегнутого на все пуговицы пальто, а третьи, забравшись калеке на спину, уже хватали его за холку или пытались впиться отбивавшемуся в лицо. Вскоре, огромная лисья стая повалила калеку на тротуар и принялась раздирать несчастного. Тогда, как мало-помалу сгрудившаяся над лисьим клубком толпа только тупо следила за ходом боя и никаких действий не принимала. Одна только толстая, бесформенная старуха в голубой мохеровой шапке и в черном плюшевом жакете по-прежнему жалобно голосила:
– Люди добрые…! Да помогите же кто-нибудь!
Крепкий скуластый мужик в дубленке и в кожаной, на лисьем меху, фуражке двинулся было на помощь деду, но субтильная дама в алой, кожаной курточке с изящным лисьим воротничком, попридержав мужчину за локоток, спросила:
- Серый, а ты куда?! Здесь тебе не Антушково! Раз дерут, значит, есть за что! А то ведь и нас с тобой вслед за ним упакуют. Тебе это надо, а? С твоей-то больной сестрой?! И с матушкой – год до пенсии??!!
Скуластый тотчас же присмирел. И, позволяя даме увести себя из толпы, сгрудившейся вокруг клубка тявкающих животных, оглядываясь назад, проблеял:
- А откуда они тут взялись? Лисицы ж – лесные жители. Зоопарк разбежался, что ли?
- Тебе-то какая разница? – утягивая Скуластого к цветным рекламным щитам, подвешенным у самого выхода из платформы, насмешливо отмахнулась Дама: - Меньше знаешь, крепче спишь.
И Скуластый, безвольно пожав плечами, поплелся вослед за своею спутницей; тогда, как в предутренней сизой дымке, прямо у них по курсу, то вспыхивали, то гасли сотканные из тысяч горящих лампочек броские рекламные текстовки: «Не дай себе засохнуть!», «Бери от жизни всё!», «Ты этого достоин!».
Тем временем, клубок копошащихся у вагона лисов, так же стремительно, как он свился, принялся разбегаться. Жуя и отрыгивая кишками, от клубка отделилась одна лисица, чуть позже, икая, другая, третья. А не успела ещё толпа вспомнить о чемоданах, оставленных без надзора на общественном тротуаре, как самая тощая из лисиц, слизнув с разодранной в клочья шапки окровавленный пук волос с прилипшей к нему пружинкой от аппарата по усилению слуха, таща за собою больную ногу, шмыгнула под вагон. И вот уже на том месте, где только что копошились лисы, остались лежать лишь заляпанный кровью валенок с прокушенной в двух местах старой резиновою калошей, да чуть в стороне от валенка - горстка растрощенных в прах костей, торчащих из алой кашицы раскисшего до асфальта льда.
- Что же это такое деется?.. - тихо, как заведенная, в который уж раз подряд выдохнула Толстуха; но последняя из лисиц перед тем, как прошмыгнуть под тамбур, так пристально и недобро зыркнула на неё, что бабуля тотчас же стушевалась: съежилась, сгорбилась, повернулась и, подняв с платформы свои баулы, двинулась вместе с толпой транзитников к медленно проступающим из темени стенам и крышам большого города.
Несколько раз потом безобидные с виду лисы снова и снова сбивались в стаи и с тихим зловещим визгом набрасывались на редких, чем-то им не понравившихся транзитников. Понять, почему именно раздирался лисицами тот или иной из прибывших пассажиров, было практически не возможно. Растерзанные транзитники порою различались настолько сильно, - и видом, и возрастом, и повадками, - что оставалось только гадать, что же их всех роднит и что же, в конце концов, не устраивало в них с каждой минутой всё пребывавших и все более дерзко поглядывавших на людей зверушек. Может, запах какой особый исходил от заранее обреченных, а, может, ещё чего, да только, сбиваясь в стаи, лисы с тихим зловещим тявканьем набрасывались то на худенького, с ноутбучным портфелем в руке, подростка, то на толстенькую старушку в старомодном пальто с опушкой, то на бледнолицего, в очочках, интеллигента; так что не проходило и полминуты, как от поверженного на тротуар несчастного не оставалось даже крошечного кроваво-алого пятнышка на оттаявшем там асфальте. Лисы тщательно вылизывали после расправ асфальт, и только потом уже, - с изяществом крепких, всё более сытых и всё более уверенных в себе животных, - с достоинством расходились.
Транзитники же, напротив, продолжали идти вперед, вначале лишь делая вид, а потом уже именно так и думая, что ничего особенного на платформе не происходит. Тихие, скукоженные, растерянные, они полностью подчинились установившемуся порядку. Чему, кстати сказать, очень даже способствовали и надписи, постепенно начавшие сменяться на электронно-световых рекламных щитах. Пока люди с трудом просачивались сквозь толщи из всё более сытых и величаво смотревших на них лисиц, над головами у всех сменялось: «Что естественно, то не безобразно!», «Разбуди в себе зверя!», «Только сильным и смелым принадлежит будущее!». Короче, к тому моменту, когда Степан поравнялся со стеклянной дверью, за которою открывался шикарный вид на внутри вокзальное помещение, - только металл, пластик и бесконечные кадушки с вечнозелеными пальмами, - и к нему из когорты лисов, проверяющих паспорта при входе, вихляющею походкой «старой доброй знакомой» подступила именно та, которая в прошлом сне выгрызла ему сердце, он уже полностью был готов к сей судьбоносной встрече.
Не без изящества выгнув лысую, в лишаях и в коросте спинку, рыжая подступила к Степану почти вплотную и, с наглецой заглядывая ему в глаза, мило проворковала:
- О, старый знакомый! Привет.
- Привет, - потупил глаза Степан.
- Не узнаешь? – скосила глаза лисица.
- Почему же? - сухо сказал Степан, заставляя себя взглянуть в желтые, с вертикальными темными зрачками, немного раскосые глаза рыже-палевой собеседницы.
- Согласись, что без сердца – намного лучше?! – с наглецой улыбнулась ему лисица. – Всякая чушь не мучает. Мир стал куда понятней, проще и привлекательней.
- Да: мертвые – не потеют, - насмешливо усмехнулся в ответ Степан.
- Дурачок! – взяв в лапу белый конец своего хвоста, провела им лисица у Степана под подбородком и с наглой ухмылочкой продолжила: – Твоя жизнь теперь только и начинается! Ты – свободный, абсолютно в себе уверенный, полный сил и желаний зверь! Хочешь, пойдем со мной; и я научу тебя жить, играя, на полную катушку.
- Без сердца? – хмыкнул в ответ Степан.
- Именно, дорогой, - шлепнув белым концом хвоста по тонким губам Степана, нахраписто заявила рыжая. – Чем быстрее ты выбросишь из головы всю эту чушь собачью, тем легче ты станешь одним из нас. И у тебя откроется такая прорва возможностей, о которых ты даже и не мечтал, будучи человеком. Сердце мешало тебе мечтать. А человеческая природа полностью сковывала твои мистические возможности. Но теперь, когда ты, пустой, как чушка, ты можешь в момент превратиться в оборотня. Суть же оборотня - это полная и уже ничем не ограниченная свобода!
- Стать таким же красавчиком, как и ты, – это, действительно, очень круто, – насмешливо съязвил Степан.
- Стать зверем. Без страха и без сомнений, - глядя ему в глаза, сухо парировала лисица. – Вы - жалкие, одинокие, вечно во всем сомневающиеся и всего стыдящиеся людишки: а мы – благородные и простые лисы. Нам нечего опасаться и ни перед кем пасовать. Мы знаем, что мы умрем, и что только эта земная жизнь – наша единственная реальность. А все остальное – чушь! Копание в детских шалостях, мучения совести, мрак сомнений – это всё не про нас. Мы рождены, чтобы жить на полную, испытать все сладости жизни и тысячи самых разных преображений, доступных нам в этом мире. И главное: умереть, насытившись всеми лакомыми кусками, которые сможем урвать у жизни. Сравни, и почувствуй разницу: мы – легкие и бесстыжие, бесстрашные и всеядные потрошители Вселенной, и – вы… - давным-давно протухшие и обезверившиеся в себе, а так же в своем слабосильном Боге бывшие христиане! Так стань же дерзким и мужественным, как мы. Взгляни в лицо настоящей Правде! И ты без труда поймешь, что Христос в твоем сердце и не рождался. Он лишь мечта о счастье: жидкий бульон из бабкиных россказней и красивого пения под иконами, из запаха ладана в зимний вечер, да мерцания восковых свечечек в полумраке. Ну, так и мы не против! Хочешь романтики: зайди в храм, постой в полутьме при свечках. Ну, а потом, чтобы радость твоя удвоилась, заверни вечерком в бордель! В этом нет ничего зазорного! Каждый имеет право жить так, как ему захочется. Ибо твои желания – желание Самого Бога! Делай, что хочешь, и ты - живой! А все эти нормы, правила, традиции и привычки, которыми с детских лет пичкали вас родители, - это такая мертвечина! Неужели же не понятно: кто более честен с самим собой: тот, кто живет и стыдится своих желаний, или тот, кто без страха и без сомнения делает всё, что ему захочется? И смело идет к своему естественному трагическому финалу? Тем более, ваши учителя ещё в школе вам не раз и не два уже втолковали, что в этом несовершенном мире всегда побеждает лишь тот подвид или разряд животных, кто целен в своих желаниях и поступках! Твари с двоящимися мыслями обречены на медленное и мучительное вымирание. Вот и сообрази, за кем из нас настоящее, а уж, тем более, Будущее?!
- Но если всё так просто, - сопротивляясь возникающему изнутри желанию, тихо спросил Степан, - то зачем же тогда вы на людей бросаетесь? Вон, на моих глазах ваши парочку человек загрызли! И с таким, брат, остервенением, что я тебе доложу! Может, оно, конечно, мы и вымирающий подвид, но так слабаков не рвут! Так расправляются только с сильными, заклятыми врагами?!
- Ой! – отмахнулась хвостом лисица. – Да просто они нас достали своей тупостью! И в Христа не особо веруют, и в оборотней превращаться не хотят. Вот мы их и пропалываем. Чтобы они не мешали нам превращать вымирающее людское стадо в стаю сильных и смелых лисов!
Не успел Степан толком сообразить, чтобы ещё ему возразить будоражащей его плоть лисице, как мало-помалу его лицо вытянулись вперед, глаза стали маленькими и желтенькими, наподобие двух зажженных, мягко мерцающих угольков, а на щеках, морщинистом лбу и шее начала прорастать обильная рыжая лисья шерсть. И не успел Степан осознать ещё разницу от произошедшей с ним перемены, как уши его, ставшие вдруг необычайно чуткими, вплоть до чтения чужих мыслей, поднялись вверх и вытянулись; а всё тело его налилось вдруг дикой и необузданною энергией. И вот уже, загребая лёдовый наст ставшими сразу безумно крепкими, с острыми загнутыми когтями, лапами, он рванулся вослед за той, чей запах в одно мгновенье свел его, теряющего контроль над собой, с ума.
Когда солнце взошло над Городом, на улицах, скверах и площадях столицы, мало-помалу сбиваясь в стаи, кружили чем-то весьма встревоженные и взбудораженные лисицы. Точнее, каждый мужчина-лис, устремляясь на запах самки, мчался за поднятым вверх хвостом сладко-пахучей важенки; тогда, как лисица-самка, в упоении загребая лапами подтаявший рыхлый наст, тоже неслась вперед, туда, куда влекло её естество, - Природа. В результате такого гона, все сотни тысяч и миллионы взбудораженных течкой лисов, сами о том не ведая, мало-помалу стекались в один громадный, мчащийся вдаль поток.
И только один Степан, раздвоившись в сонном своем видении, одним существом своим несся, как все, вдогонку за выгрызшей ему сердце самкой; тогда, как - другим, как бы паря над Городом, видел всю панораму лисьего гона в целом.
Наворачивая круги по площадям и скверам полностью обезлюдевшего мегалополиса, всё туже сворачиваясь в огромную, закручивающуюся к центру Москвы спираль, рыжий поток из лисов устремлялся по Малому Москворецкому мосту прямо на Красную площадь. И там, разбухая в волнующееся, палево-рыжее озеро, водопадом сплетенных, сдавленных, рвущих друг друга тел сваливался затем в огромную темную зияющую нору, образовавшуюся прямо на Лобном месте.
С тихим внутриутробным гулом, нора эта медленно разрасталась. Из неё, как из горящей печи, повалили густые клубы черного масляного дыма.
Некоторые из лисов, в самый последний момент гоньбы вдруг замечали перед собой черный, до самого небосвода, столб из мезги и дыма. И тогда они начинали в панике озираться по сторонам, тявкать, скулить, метаться, рваться в отчаянье из толпы, царапаться и кусаться. Однако, со всех сторон зажатые, как в клещи, мириадами жадно живущих оборотней, они не могли уже пошевелить и хвостиком. Так что вместе со всей визжащей, тявкающей, грызущейся и по-быстрому, на бегу, совокупляющейся лавиной их и сносило, пусть и к невидимому до времени, - из-за столба поднимающегося навстречу дыма, - но к такому манящему их утробы, - то ли запахом горящей смолы, то ли смрадом жженной серы? - родному земному лону.
VII
- Подъезжаем! Скоро Москва! Подъем! – ворвался в кошмар к Степану бодренький женский голос; и изнутри подсвеченная алыми сполохами огня, задымленная воронка с улетающими в неё сотнями тысяч визжащих лисов превратилась в обычное плацкартное купе, мимо которого, по проходу, пробежала курносая проводница в приталенной синей форме. И уже из следующего купе донесся её же бодрящий голос:
- Просыпаемся! Сдаем постели! Через полчаса туалет закрывается!
Вынырнув из кошмара, Степан поневоле привстал на полке, и пока эфемерные очертания в ужасе пролетающих мимо лисов сменялись увесистыми углами хорошо освещенного лампой дневного света небольшого купейного кубрика, он мало-помалу пришел в себя и с радостью огляделся.
Он находился в том же купе, куда к нему прошлой полночью из-за двойного стекла окна пробовал достучаться Игорь. Только теперь за окном вагона мягко клубилась тьма, которую раз за разом, под монотонный стук железных колес на стыках железных рельс, слева направо перерезали тусклые огоньки одиноко застывших на полустанках пролетающих фонарей. Напротив Степана, где в полночь грудились панки, ныне сидела довольно рыхлая стриженая толстушка в отбеленном перекисью каре и, запихивая в большую пластиковую сумку полпачки печенья «Крекер» и полбутылки газированной воды «Святые ключи России», недовольно ворчала под нос:
- До Москвы ещё уйма времени. А эта уже пассажиров будит. Ну, и что нам теперь друг на друга пялиться? Нет, чтобы дать народу хоть полчасика отдохнуть. Нет же, будит она зачем-то. А спроси ты её: зачем? Ведь толком же не ответит!
Слушая бормотание рыхлой дамы, Степан облегченно крякнул и, подхватив с полочки бело-вафельное казенное полотенце, а ноги, не глядя, сунув под полкой в сланцы, первым вышел в пустой проход, ведущий к вагонному туалету. Где и успел пописать, умыться и покурить в слегка приоткрытую щель в окне, пока, наконец-то, первые проснувшиеся транзитники не застучали к нему в кабинку и не задергали, с прямо противоположной стороны двери, сдвоенную хромированную ручку.
Слава Богу, ничего похожего на недавно приснившийся ему сон в вагоне и близко не было. Люди с привычным нетерпением и одолевшей всех раздражительностью рвались с утра к толчку и к туалетному рукомойнику. Когда же Степан к ним вышел, то они, как и должно, исподтишка пофыркали на него за запах дыма и за снежный холодный ветер, задувавший из небольшой щели вверху единственного в вагоне плотно закрашенного окна. И, тем не менее, это были отнюдь не лисы, привыкшие только рвать, со звериным лукавством заметать следы, да, вволю нажравшись, спариваться. Это были обычные, российские пассажиры. И Степан, возвращаясь назад, в купе, широко и радостно улыбнулся им.
- Ыш ты, какой наглец! – шепнула ему вдогонку дородная Дама в сланцах и в облегающем её бесформенную фигуру адидасовском лайковом спортивном костюме. – Ему замечание делают, а он – только лыбу давит. А сам уже лысый пень. Ну, и чего ж мы тогда хотим от нашей-то молодежи?!
Степан и этому замечанию внутренне умилился. И пока за окном вагона, в темноту непроглядной ночи стремительно отлетали редкие, тусклые огоньки провинции, он успел натянуть немецкие, на натуральном меху, сапоги Baffin, забросил в рюкзак мужские духи «Armani Acqua Di Gio Pour Home», сунул туда же походные сланцы United Nude, положил в кармашек стеганой курточки пачку импортных сигарет «Parliament». Так что, когда в проталине, за оконной рамой, замелькали уже все более многочисленные и яркие, явно московские огни, он чинно и вежливо попрощался с соседкою по купе, да и одним из первых просочился за проводницей, в битком забитый народом тамбур. Там он небрежно сверил свой настоящий, американский Rolex со временем, что показывал его новенький смартфон Apple iPhone 8 Plus 256GB. И так как на обоих его электронных брэндах время сходилось с точностью до секунды, то к Степану в момент вернулись его привычное состояние уверенности в себе и почти юношеская бодрость.
Поезд прибыл точно по расписанию. Курносая проводница, перед тем, как выпустить из вагона сбившихся за спиной у неё транзитников, яркою тряпкой из микрофибры тщательно и дотошно протерла блестящий нержавейкою поручень и, выходя на перрон, сказала:
- А вот теперь можно.
Одним из первых выйдя за проводницей из вагона, Степан естественно огляделся. И так как никаких лисов на слегка присыпанной снегом широкой платформе не было, а повсюду, куда не глянь, под мутно-белыми шарообразными фонарями прогуливались лишь хорошо одетые вальяжные москвичи, да бегали с тачками и с тележками услужливые носильщики, то Степан даже не удержался, чтобы не отвесить девушке-проводнице вполне заслуженный комплимент:
- Прекрасное обслуживание! Хорошего Вам дня! Хорошего жениха! Гудбай!
- Гудбай, - украдкой зевнула курносая проводница и от смущения и растерянности прикрыла ладонью рот.
А, между тем, Степан уже деловито встроился в общий поток транзитников, с чемоданами, с сумками и с тележками трусцой поспешавших к фойе вокзала.
У выхода из платформы он заметил знакомые приземистые фигуры зевающих полицейских, и окончательно отрешился от давешнего кошмара. Перебросив полупустой рюкзак с левого плеча на - правое, он пошагал вдоль электропоезда, уже несколько подзабыв о предательской корке льда под легким налетом снега, покрывавшего тротуары. Это секундное расслабление и привело к тому, что Степан, оббегая сгорбленную старушку, с двумя неподъёмными сумками в руках с трудом тащившуюся вдоль поезда, неловко поставил ногу на дебаркадерный парапет. И, споткнувшись о скользкий щербатый камень, вдруг резко, со всего размаха, рухнул коленями и ладонями на покрытый снежком асфальт. И каково же было его смущение, а там уже и неподдельный ужас, когда из густой непроглядной темени, свалявшейся под экспрессом, на него, столь внезапно оказавшегося на четвереньках, вдруг спокойно взглянули желтые, с вертикальным разрезом зрачков, глаза сидящей в шагу от него лисицы.
VIII
Под безоблачным синим весенним небом пышно цвели сады, когда молодой семнадцатилетний Игорь, обняв за плечо такую же молодую, немного взгрустнувшую Варвару, в сопровождении группы его погодков вышел из-за калитки своей усадьбы и, под развеселый перебор гармошки, пошел по дороге, через деревню.
Отовсюду, практически ото всех заборов, вдоль которых неторопливо продвигалась подвыпившая ватага Игоревых товарищей и подружек, то и дело выныривали приветливые соседи. И, пожимая руку уходящему в армию пареньку, иные – просто кивали, да ободряюще улыбались; а иные, как тот же кряжистый, в спортивных штанах и в тенниске, комбайнер дядя Валя, выйдя навстречу Игорю со двора, крепко пожал ему руку и назидательно наставил:
- Смотри, Игорек, там в оба! Оно, конечно, по экономике нас малость поопустили, но на военном уровне пусть знают силу русского мужика! Всем, если что, покажем! Так что держись там, брат!
- А то! – улыбнулся дядь Вале Игорь и, окруженный подвыпившими товарищами, уже отходя, сказал: - Не боись, дядь Валя! Умру, а чести словинца – не посрамлю!
- Знай наших! – подхватила ватага его товарищей, в то время, как оставшийся посреди дороги и лишь провожающий уходящих взглядом крепкий скуластый седой комбайнер сурово, вдогонку «героям», буркнул:
- А вот это ты, Игорек, напрасно. Не говори «гоп»….
Сквозь бритый скуластый могучий лик хорошо загоревшего дяди Вали медленно проступило сухое бритое вымученное лицо пятидесятипятилетнего уже Игоря. Перекладывая кусок ржавой тракторной цепи из одной полукучи в точно такую же, лежащую рядом с первой, напротив иконостаса, он тихо взмолился к Спасу:
- Упокой, Господи, душу раба Божьего дяди Вали…
И, сразу же вслед за цепью перекладывая домотканый цветастый коврик:
- И душу его матушки, бабы Насти…
Апрель-май, 2019 г.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"

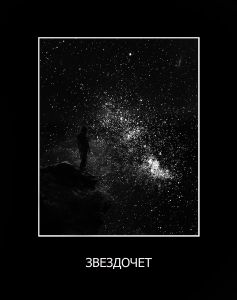



















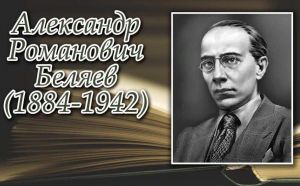








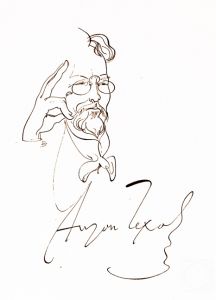





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский