Любовин ехал с правильным пассажирским билетом до самого Вержболова, с заграничным паспортом, мало того, — Коржиков достал ему и передал на вокзале удостоверение от сталелитейного завода в том, что он мастер и командирован в Берлин для выбора каких-то особенных стальных сверл, но чувствовал себя так скверно, как никогда не чувствовал, когда ездил без билета — «зайцем». Всякий раз, как отворялась в вагоне дверь и входил контроль, он вздрагивал и бледнел, но кондуктора не обращали на него внимания. С соседями Любовин не разговаривал, заявив, что у него нестерпимо болят зубы. На станциях Любовин не выходил и более суток ничего не ел.
Он сидел, забившись в углу отделения, закрывшись с головою пальто, повешенным на крючок, и старался заснуть. Но сон не приходил к нему. Мерещился убитый Саблин, растрепанная, небрежно одетая Маруся. Совесть мучила его. «Да, хорошо ли я сделал, — думал он, — вот и Федор Федорович как будто не одобрил совсем. Поступил я по-господски, а не по-пролетарски. Ну что в самом деле — побаловалась девчонка. Вон как Коржиков на это высоко смотрит. «Женюсь», — говорит. Сидит, значит, во мне буржуазная мораль, крепко сидит. А откуда она? Как будто и не откуда ей взяться? Отец… Отец действительно в господа лез, хотел, чтобы как у бар было, вот и вдолбил. Что Маруся теперь будет делать? Догадалась ли выскочить и убежать с квартиры? Да, все одно. Найдут… Обличат, по следствиям да судам тягать будут. Господи, сраму-то, сраму-то сколько. Не оберешься скандалу. Отцу-то каково будет?»
Любовин откидывал пальто с головы и широко раскрытыми глазами смотрел кругом. Поезд стоял на станции. По всему вагону шел густой переливистый храп. Тускло горели свечи в фонарях, наполовину занавешенных серыми занавесками. Сосед старался во сне устроиться поудобнее и ногами в высоких сапогах все толкал прижавшегося в углу у окна Любовна. Верхние полки были подняты, и против Любовина на разостланном пледе лежала молодая девушка. Она крепко спала, дыхания ее не было заметно, и только во сне под пристальным взглядом Любовина хмурились тонкие, темные брови.
«И чего стоит так долго, — думал Любовин. — Господи! ну и чего стоит! И шел бы да шел бы. А может быть, задержали нарочно? Ищут. По телеграмме. У них ведь сыск. Они все знают».
Опять воображение рисовало ему жуткие сцены ареста. «Арестуют, так безпременно по шее вдарят, это уже всегда так».
Он поджимал шею, точно ощущая удар тяжелого кулака.
Дверь открылась. Любовин вздрогнул, съежился и быстро закрылся полами пальто. Он подглядывал в щелку, кто вошел, не за ним ли, обдумывал, что будет говорить. «Вызовут Любовина, — думал он, — ну а какой же я Любовин? Я Станислав Лещинский, слесарь, да… по поручению завода еду в город Берлин, что же особенного?» Ему казалось, что сейчас кто-то крикнет: «Есть здесь Любовин?» — и боялся, что ответит невольно: «Я Любовин». Было страшно. Сосед потянулся, уперся в него ногами, зевнул протяжно, заметил съежившегося Любовина и сказал: «Извиняюсь».
Вошел истопник в шубе, запорошенной снегом, и с цинковым большим чайником в руках. Сосед Любовина посмотрел на него мутными глазами и спросил:
— Чего так долго стоим?
— Букса в багажном загорелась, так заменяли. Сейчас тронем.
— А не опоздаем?
— Должно, нагоним.
«Как он может так спокойно говорить, — подумал Любовин, — и не боится ничего. Я бы слова теперь не вымолвил. До ужаса страшно. Федор Федорович всю дорогу, как по Обводному шли, твердил: «Надо переродиться, надо переродиться — вы теперь Лещинский, Станислав Казимирович Лещинский, нет у вас другого имени, поняли?» У завода Келлера остановился, показал на маленький двухэтажный домик, розовой краской покрашенный, Любовин хорошо его запомнил, внизу трактир был, извозчики чай пили, и их лошади с санями стояли у дверей. «Вот вы здесь во втором этаже живете, запомните номер»… Любовин номер забыл, а дом помнил. «Да, хорошо так говорить. А ну как обыскивать станут. А у него письмо рекомендательное к Варнакову и там все прописано, что и как, и бумажки, как дальше в Швейцарию пробираться… Вот и докажи!..»
Прозвонили два раза, потом три, заскрипели примерзшие колеса, и Любовин вздохнул спокойнее. На ходу не было так страшно.
Уже совсем ободняло, когда он заснул. Проснулся — подходили к Вержболову. Пассажиров стало меньше. Многие слезли за станцию.
«Видно, — подумал Любовин, — границу избегают. Переходить будут тайно. Эх и мне бы так»…
Но было поздно. Показались станционные постройки, жандармы, таможенные служители, стали отбирать паспорта.
В большом холодном светлом сарае, разгороженном по длине невысокою стойкою с железными полосами, шел таможенный досмотр. Громыхали сундуками, сбрасываемыми на прилавок, звенели ключи и замки. Какая-то дама истерично смеялась, и чиновник с зелеными кантами на черном пальто любезно говорил ей:
— Не иначе, сударыня, как вам раздеться придется. Да вы не смущайтесь, там у нас все дамы и комната особенная …
Любовин, у которого не было никаких вещей, жался в углу. Каждые две-три минуты из двери, ведшей в паспортное отделение, выходил рослый жандарм и зычным голосом выкликал тех, у кого были осмотрены паспорта.
— Генерал Старцев!
Маленький седенький человек в штатском поднялся со скамьи подле Любовина, и жандарм сейчас же подбежал к нему и подал ему паспорт.
— Пожалуйте, ваше превосходительство. Вещи ваши досмотрены? Это они? Не извольте безпокоиться, за вами снесут.
Зал пустел. Любовина-Лещинского все не вызывали. И опять тоска тянула Любовина, обмякали ноги, руки безсильно опускались, жутко становилось на сердце. «Определили, догадались, что паспорт фальшивый. Подвел Коржиков, что-нибудь не так сделал. Печать не на месте».
— Лещинский! — вызывал жандарм второй раз. — Станислав Лещинский!
Любовин очнулся… вздрогнул и быстро подошел к жандарму. Он чуть не упал со страха. Ему показалось, что перед ним стоит Иван Карпович. Такая же могучая массивная фигура, красное лицо с рыжими усами и круглые строгие глаза были у жандармского вахмистра. Кулак, в котором он держал паспорт, был такой же красный, волосатый и так напомнил Любовину кулак Ивана Карповича, и показалось ему, что он слышит страшные зловещие слова — «я под тобою, Любовин, насквозь землю, на семь кукишей вижу!»…
— Что не отзываетесь, других пассажиров задерживаете, — строго, но вежливо сказал вахмистр. — Станислав Лещинский, Ковенской губернии?
— Так, проше, пане, — пролепетал Любовин.
— Слесарь?
— Так, проше, пане.
— Извольте ваш паспорт. Можете ехать.
— Дзенкуе, пане.
Любовин умиленно посмотрел на вахмистра. Он был преисполнен к нему такой благодарности, что готов был поцеловать его красную жирную волосатую руку. Вахмистр не смотрел на него.
— Госпожа Твердохлебова! — вызывал он, — и та самая барышня, которая спала на верхней полочке против Любовина, быстро подошла к вахмистру.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"



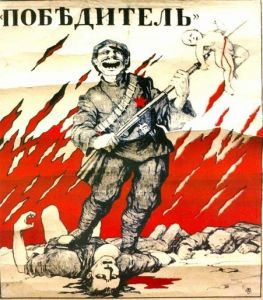

















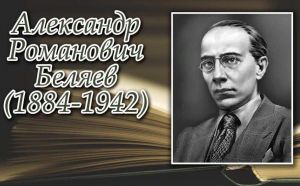








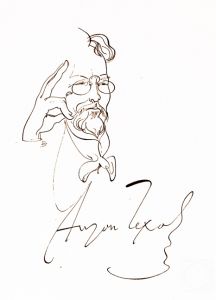





























 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов