Григорию Логову на работу позвонила со своей работы жена и велела срочно ехать домой – там осталась на столе тарелка с супом, который она, Маргарита, только попробовала за обедом, но есть не пожелала, и надо этот суп без промедления вылить обратно в кастрюлю, прокипятить вместе с остальным и поставить в прохладное место.
У Георгия на лбу густо собрались морщины, и единственный глаз его плотно зажмурился сам собою, словно от сильнейшей зубной боли. Ведь только-только заявился весь в мыле – вот уже четвертый месяц ездят они с Маргаритой каждый со своей работы обедать домой, - опоздал даже на полторы минуты, и опять, значит, дуй туда рысью, высунув язык. Да еще отпрашиваться придется, да еще отпустят ли… Угораздило же забыть впопыхах про этот суп…
– А может…– начал было он.
– Не может, Жорочка, – мягким своим, вкрадчивым и в то же время непререкаемым тоном прервала Маргарита. – В том-то и дело, миленький, что не может. Обязательно надо его прокипятить. Ты уж как-нибудь постарайся.
Георгий судорожно вздохнул и произнес едва слышно:
– Ну ладно…
Отпрашиваться к начальнице – к главному бухгалтеру Евдокии Павловне – он шел, сжавшись всем нутром, поскольку, во-первых, и сам не уважал, когда ломают служебный порядок, а во-вторых, не любил и не умел врать. Сказать же Евдокии Павловне правду было бы невыносимо стыдно, и он, скрепя сердце, спешно придумал на ходу, что оставил на кухне незакрытым кран, и вода, заполнив раковину, может залить соседей.
Евдокия Павловна долго не поднимала головы - продолжала просматривать бумаги, потом наконец прервала работу и глянула на Георгия сквозь суровый прищур:
– Забыли, значит, закрыть кран… Нельзя забывать такие вещи, Георгий Силантьевич, нельзя. Там забыли, тут забыли – а получается… То взрыв, то поезда столкнулись… Помнить надо, в какое время живем. Ответственное время-то, Георгий Силантьевич. А то мы забываем на каждом шагу, а страдать приходится государству.
– Да, я, понимаете… Со мной редко случается. Вообще-то я внимательный.
– Нынче нужно быть трижды внимательным. Трижды, Георгий Силантьевич, а иначе… Ну да чего ж с вами поделаешь…– Лицо ее приобрело обиженно-досадливое выражение. – Езжайте уж. Только…
– Я мигом, я в момент обернусь, - с готовностью заверил он. – И работе ущерба не будет – вы ж меня знаете.
– Да знаю я тебя, знаю…– поморщившись, махнула рукой главный бухгалтер. – Ступай, не теряй время.
Георгий шел на автобусную остановку, и от стыда, от унижения продолжало жестко сжиматься все внутри, подрагивало сердце. Евдокия Павловна значительно моложе его, в управление пришла работать гораздо позже, и хорошо помнится, какой беспомощной, не умеющей абсолютно ничего она пришла, сколько случалось ему возиться с нею, натаскивая, обучая настоящему бухгалтерскому делу. Тогда все звали ее просто Дусей, и как-то очень быстро Дуся поняла, что в безысходный момент лучше всего обращаться именно к нему, к Георгию, потому что он не сумеет отмахнуться, поможет обязательно. И обращалась без конца: «Жора, а это куда внести? Жорочка, а эта ведомость как составляется?» А теперь вот выбилась в начальники, и пожалуйста тебе: «Георгий Силантьевич… Надо помнить, нельзя забывать… Ответственное время… Страдает государство…» Господи ты Боже мой… Забыл человек закрыть на кухне кран, и обязательно нужно разводить эти турусы…
Но тут Георгий вспомнил вдруг: кран-то на кухне закрыт, а домой приходится ехать совсем по иной причине – из-за тарелки супа. И стало на душе еще хуже, настолько сделалось паршиво, что он, отойдя к стене дома, остановился и опять, как во время разговора с Маргаритой, зажмурил свой единственный глаз, чтобы не видеть ничего и никого вокруг; побыть несколько мгновений в полной темноте и успокоиться.
Без глаза Георгий остался в мальчишеском возрасте, в конце войны, когда они, неугомонная ребятня, похожая на стаю голодных бродячих собак, рыскали близ деревни, на местах прошедших тут жестоких боев – собирали изуродованное оружие и позеленевшие боеприпасы, стремясь как можно скорее найти применение этим опасным игрушкам. Осколками мины от ротного миномета ему, кроме глаза и щеки, повредило еще и правую руку, - она сгибалась немного в локте, но делать ею почти ничего было нельзя, даже писать пришлось научиться левой.
Оказавшись негодным для настоящей мужицкой работы, Георгий после школы старательно окончил в районе бухгалтерские курсы и по настоянию матери уехал в большой город для хорошей жизни. Мать почему-то была уверена, что в городе он при своей чистой благородной специальности обязательно сумеет выгодно жениться, несмотря на увечья. Однако, надежды ее не оправдались. Долго пришлось ему скитаться по частным квартирам и общежитиям, и замуж за него никто не шел – ни девушки, ни одинокие женщины. Да Георгий, собственно, и не предлагал никому выйти за него замуж, поскольку стеснялся этого: как можно делать предложение, если ты одноглазый, с изуродованной щекой, да еще не действует рука? Кому охота оказаться замужем за этаким сокровищем? Да это просто даже нечестно и нахально – так думал он – набиваться в мужья с подобными человеческими недостатками.
Встречались ему, конечно, женщины, которые очень нравились, дважды за свою жизнь он сильно любил, страдал от этой любви до помрачения в голове и душе. Но ни в первый, ни во второй раз так и не нашел в себе отваги признаться в своих чувствах, попросить руки и сердца. И достались эти любимые женщины другим…
И все нерастраченное душевное тепло отдавал Георгий матери, которая жила одна в покосившейся деревенской избенке в неблизком лесном краю. Он регулярно переводил туда деньги в добавление к ее маленькой колхозной пенсии, посылки с продуктами отправлял почти ежемесячно. А когда случался хотя бы один свободный денек, без промедления устремлялся в родную деревню и в дороге с замиранием сердца представлял себе, как войдет и обнимет мать, как она смахнет заскорузлой ладонью радостную свою слезу, как будут ужинать вместе и разговаривать о жизни, а потом встанут пораньше утром и сделают сообща что-либо важное по дому.
Ему очень хотелось бросить все в городе, вернуться домой навсегда, и жить рядом с матерью, но она настойчиво отговаривала Георгия от этого шага, горячо уверяя в том, что тут, среди старичья и пьяниц, немудрено заглохнуть вконец, а то даже и свихнуться от скуки, а в городе, где такое множество разных людей, он еще вполне может найти свое счастье. И проснувшись иногда среди ночи, Георгий слышал, как она молится на коленях – шепотом просит Бога, чтоб тот уделил хоть немного счастья ее сыну. И, не желая огорчать мать, Георгий продолжал свою одинокую городскую жизнь.
Частичного счастья для сына старушка сумела-таки дождаться. Георгию – было это лет пять назад – выделили наконец-то отдельную однокомнатную квартиру. Радость матери была беспредельной. Она уже и не вспоминала о том, что ждал Георгий квартиру много лет, что не раз, когда подходила его очередь, жилье отдавали почему-то кому-то другому. Ей уже казалось, будто такое счастье не выпадало на свете никому, а привалило единственно только ее сыну. «Вот, – сказала мать, – полдела сделано. Теперь ты не так себе. Теперь, когда у тебя такая хорошая квартира имеется, подумают, стоит отворачиваться-то иль не стоит. И будет у тебя семья. Теперь-то уж бу-удет».
Георгий ответил на это, что не надо ему никакой семьи, а лучше забить в деревне дом, и пусть мать переезжает сюда, заживут вдвоем – лучше некуда. «Нет, нет, нет, - испуганно замахала она руками. – У тебя жизнь только начинается, буду я еще под ногами путаться. Узнают, что мать тут при тебе, и вовсе станут обегать за километр, опять не найдешь себе никого в жены. Нет, сынок, я уж лучше в деревне, мне там сподручней. А вот женишься – внуков понянчить приеду обязательно. Это уж я приеду, можешь не сомневаться.»
Мать помогла ему привести квартиру в надлежащий вид – повесила шторы на окна, застелила пол привезенными из деревни новыми половиками, накупила кастрюль и разной другой кухонной утвари. А потом уехала в деревню и сразу там слегла – видать, сильно поволновалась, радуясь привалившей первой половине сыновнего счастья, и не выдержало, сдало сердце.
Георгий спешно взял отпуск за свой счет, поехал ухаживать за нею, но не успел. Когда он вошел в избу, мать уже лежала на столе в переднем углу, строгая, с обострившимся белым личиком и устало сложенными на груди узловатыми руками. Он припал к этим холодным неподвижным рукам лбом и долго плакал навзрыд. Старухи успокаивали его всячески, а Георгий, не в силах был успокоиться – едва только затихал, как снова от жалости к матери и ощущения полного своего сиротства подкатывало к горлу сердце, рыдания неудержимо рвали душу.
Похоронив мать, Георгий вернулся в город и стал жить совсем без желания. Ему теперь было все равно, где обитать, что есть и с кем разговаривать. Он рад был бы вообще не разговаривать ни с кем, не есть ничего и не обитать на белом свете, но какая-то тонкая невидимая ниточка продолжа тянуть его по жизни, и Георгий двигался, действовал вместе с остальными людьми, автоматически выполняя человеческое свое назначение.
И много времени прошло, прежде чем снова начал он по-настоящему осознавать жизнь вокруг и себя в ней, прежде, чем опять стал ощущать остро, что каждой живой душе необходимо тепло другой живой души. Трудно было Георгию существовать без этого драгоценного тепла, ниоткуда ни шло оно к нему, ни от кого не притягивалось.
И все же вторая половина счастья, которой так и не дождалась мать, не обошла его – свалилась как снег на голову в прошлом году. Да-а, вторая половина счастья…
Видя, какой Георгий ходит потерянный и тусклый, пожалела его как-то Ольга Ильинична из планового отдела.
– Эх, Георгий, Георгий…- сказала она. – Посмотришь на тебя – аж знобит. Ну чего ты, ей Богу, настолько закис-то? Сколько можно одному-то куковать? Свихнешься, помяни мое слово. Женись. Женись, пока не поздно.
– Дак ведь… – смутился Георгий. – Кому я такой нужен? И возраст – под пятьдесят ведь уже. Кто…
– Кто…Кто… Да нынче кругом тьма тьмущая свободных баб! Враз найдутся, не заржавеет. Ну? Хочешь познакомлю?
– Да я как-то…
– Во-во. Он как-то. Возраст у него. Эх ты… Ладно уж. Бог с тобой. Я тебе прямо сюда, на работу, приведу.
И, не сказав больше ни слова, Ольга Ильинична ушла в свой кабинет. На другой день она вызвала его в коридор. Там стояла невысокая женщина – по виду явно моложе Георгия. Не красавица, конечно, однако, с первого же взгляда ощущалось в ней что-то этакое внушительное, авторитетное.
– Познакомьтесь, – ткнула Георгия в бок Ольга Ильинична.
Он подошел бочком, стараясь насколько возможно, скрыть изуродованную сторону лица, и, протянув женщине руку, едва слышно назвал свое имя.
– Маргарита, – ответила та мягким приятным голосом.
Больше сказать ни ему, ни ей было нечего, и на помощь немедленно пришла Ольга Ильинична.
–Ну, не будем терять время, – заявила она.- Время рабочее, никто нас за это по головке не погладит. Ты бы, Георгий Силантьевич, пригласил нас в гости, что ль..
– В гости? Да я…– пламенея всем телом, встрепенулся Георгий. – Я с радостью. Пожалуйста, приходите. Я… Мне только надо подготовиться.
– Ну и когда же ты будешь готов принять нас? – с едва заметной усмешкой неутомимо гнула свою линию Ольга Ильинична.
– Я… Приходите… ну… хоть завтра вечером.
– Часиков в шесть?
– Можно в шесть.
– Ладно, – решительно хлопнула Маргариту по плечу Ольга Ильинична. – Заметано.
Следующий день был субботним, и подготовился Георгий хорошо – поутру съездил на рынок за фруктами, купил торт, шампанское и коньяк. В течение дня не отпускало его лихорадочное волнение, он даже порезал палец ножом, когда готовил закуску. Пришли женщины почти без опоздания, и Георгий кинулся ухаживать – помогал обеим сразу снимать пальто, усаживал за стол, чувствуя с ужасом, что получается это у него неуклюже, а может, и вовсе по-дурацки. Потом выпили помаленьку, и ему стало легче. С замиранием сердца ощущал Георгий тепло, которым веяло от сидящей рядом Маргариты. Ольге Ильиничне очень понравился коньяк, она развеселилась, и вскоре за столом было уже совсем хорошо, по-свойски.
Сидели долго. Георгий от души рассказывал о своей жизни – о матери, о родной деревне, о том, что дом там давно уж пустует, один кот в нем живет, да и тот одичал и состарился вконец, перестал даже узнавать его, Георгия.
– Свято место пусто не бывает, – обронила к чему-то Ольга Ильинична.
Немного пообсказала о себе и Маргарита – как бы вскользь, прерывая свои слова нервным смешком. Замужем, оказалось, она раньше никогда не была, живет тоже одна, в такой же вот однокомнатной квартирке. И кроме того успел уловить Георгий из скуповатого ее повествования, что до сорока лет имеются в запасе у Маргариты целых три года. «У-у, – подумалось невольно, – где уж тут нам… При такой-то разнице в возрасте и при такой нашей роже…» И продолжало веять от Маргариты теплом и чем-то еще, какой-то сильной женской умудренностью, слегка даже пугающей Георгия. Пила она очень мало, одно только шампанское.
От понравившегося коньяка Ольга Ильинична запела вдруг хорошую песню про тонкую рябину и Георгий начал без стеснения вторить ей, подтягивать понемногу. И получилось у них стройно, душевно. Маргарита молчала – поморщившись, дала жестом понять, что пение не ее занятие. Потом еще спели, поговорили опять, и подошел момент, когда и петь уже больше не хотелось, и говорить стало вроде бы не о чем. Несколько мгновений сидели молча, и вдруг Ольга Ильинична закинула руки за голову, потянулась со сладким стоном и произнесла томным голосом:
– Э-э, братцы, пора бы и честь знать. Время позднее, ехать далековато, так что уж решайте-ка вы поскорей свои наболевшие вопросы, да и дело с концом.
Маргарита порывисто поднялась из-за стола и, отойдя к окну, стала молча смотреть на улицу. Георгий сидел, словно приклеенный плотно – все его тело от головы до пят сковало внезапным страхом. Оглушительная длилась тишина, но через некоторое время Маргарита повернулась к окну спиной, помедлила малость и шагнула к Георгию.
– Что ж, Георгий Силантьевич, – негромким, чуть дрогнувшим голосом сказала она. – Если уж на то пошло… я согласна.
– Н-насчет чего? – оторопело поднимаясь со стула, спросил Георгий.
– Н-ну… Насчет, как говорится… связать наши судьбы воедино.
– Сейчас же поцелуйтесь! – стукнув ладонью по столу, привскочила Ольга Ильинична. – Целуйтесь живо! Такие вещи надо скреплять намертво! А то стоят, понимаешь, – ни туда, ни сюда. Ну!..
Георгий продолжал стоять столбом, а Маргарита, улыбнувшись скованно, приблизилась, положила руки ему на плечи и поцеловала в изуродованную щеку.
Они поженились. Первое время Георгий настолько был упоен и потрясен своей новой, пришедшей, как он считал, наконец-то в норму жизнью, что даже не заметил, сколь точно и быстро выбивается из-под него все, на чем стоял раньше. А когда заметил, было уже поздно.
Две их однокомнатные квартиры Маргарита оперативно поменяла на большую двухкомнатную и квартиросъемщицей числилась теперь только она. Домик в деревне, который дорг был сердцу Георгия как память о детстве и о матери, жена уговорила продать – уговаривать она умела мастерски, – и вскоре ловкие люди, ее знакомые, раскатали родное гнездо Георгия по бревнышку и увезли, чтоб построить себе из этих бревен дачу неподалеку от города. Деньги от продажи дома – тысячу – Маргарита положила на сберкнижку.
К тому же началась жесткая домашняя экономия – «для будущего», по определению Маргариты. Если раньше у Георгия всегда имелись при себе деньги, и многим он безотказно давал в долг, то теперь больше рубля у него уже не водилось, да и за этот рубль надо было каждый раз обстоятельно отчитываться. Вот и обедать стали ездить домой.
Прежде он имел собственное мнение о каждом знакомом человеке, о многих явлениях жизни и природы, а сейчас Маргарита как бы забивала, подминала его взгляды своими мнениями, зачастую прямо противоположными, и всякий раз добивалась, чтоб Георгий еще и подтвердил в конце – да, мол, так оно и есть, ты права. И он незаметно приучился подтверждать. Так ему было легче – подтвердит, а втайне все равно думает по-своему.
И однажды он обнаружил вдруг с горечью: когда жил в одиночестве, то несмотря на управленческое начальство, на всяческие законы и ограничения вокруг, не смотря на встречающихся злых, нахальных людей, плохо-бедно, а был таки свободным человеком. Берег то, что дорого сердцу, имел при себе деньги, выручить мог кого угодно, поесть где угодно и сколько угодно. О жизни и людях судил по-своему, и мнений этих особо не прятал ни от кого. А теперь получается, будто весь он в многочисленных крепких путах, которые сходятся в один пучок в решительной умелой руке Маргариты.
Захотел, к примеру, шагнуть, куда тебе надо, а Маргарита – дерг за веревочку. Не туда, мол. Потянулся к человеку душой, а она тут же замечает и другую веревочку дергает – стой, дескать, не тот человек. Потом третью веревочку, пятую, десятую. И никуда не деться, живи, не рыпайся.
Рыпаться он вообще-то пробовал, порвать хотя бы некоторые, чересчур уж неудобные, путы пытался несколько раз. Но Маргарита не принимала ни его доводов, ни сколько-нибудь напряженного тона в разговоре, умолкала надолго и обдавала Георгия таким лютым холодом, что холод одиночества, испытанный им в полной мере прежде, до женитьбы, казался ему сущим пустяком. Молчать Маргарита могла и неделю, и две. Говорить же – по прежнему мягко, ласково – начинала лишь тогда, когда Георгий не выдерживал пытки и просил прощения. Как-то так выходило, что он и в самом деле по мере ее холодного молчания ощущал себя все больше и больше виноватым.
А потом Маргарита сказала, что у них будет ребенок, и тут уж вовсе пришлось оставить всякие попытки отстоять свои права – грешно же волновать женщину в таком положении, и на ребенке может отразиться.
…Наконец подрулил к остановке нужный автобус. Георгий вошел и пробрался в середину – там было посвободней. «Так-то вот, – держась за верхний поручень, продолжал он тягостные свои думы. – Еду из-за тарелки супа… Господи, Боже мой, да неужели за то сгинул на фронте мой отец и всю жизнь уродовалась на воловьей колхозной работе мать, чтоб я ехал сейчас через весь город домой – спасать, кипятить оставшийся в тарелке суп?» И тут же оборвал, устыдил себя: при чем тут отец, мать? На суп, что ли, не хватает? В том-то и дело, что хватает, и не только на суп. Тут другое. Тут это Маргаритино… Сволочное и паскудное, если уж по правде-то. Деспотизм. Во, точно. Деспотизм. И Георгию даже легче стало от найденного точного определения. Натуральный деспотизм и больше ничего.
И тут он вспомнил вдруг, что еще не платил за проезд. Стал шарить по карманам в поисках талонов, но обнаружил только троллейбусные – автобусные, значит, кончились. Кассы в автобусе не было. Тогда Георгий достал из брючного кармана последние двадцать копеек и обратился к стоящей рядом женщине:
– У вас, простите, не найдется лишнего талончика?
У нее не нашлось. Не нашлось и у других.
– Спроси у водителя, может у него есть, – посоветовал кто-то.
И в это время, будто специально призванные кем-то на голову Георгия, вошли в автобус контролеры. Они двигались к середине автобуса с двух сторон – энергичные, сильные женщины, стремительно и ловко рвали пополам талоны, которые протягивали пассажиры.
– Ну продайте же кто-нибудь талончик, – умолял Георгий. – Господи, Боже мой…
А контролеры уже заметили, что мечется кто-то там безбилетный, и ринулись к середине, разрывая на ходу протянутые талончики с быстротой автоматов, стремясь опередить нарушителя, не дать ему выйти из положения по-хорошему.
– Зайчиком, значит, катаемся? – мгновенно оказавшись рядом и улыбнувшись ехидно, пронзила Георгия ледяным взглядом тучная упругая женщина.
– Да не зайчиком…– Он покраснел свои двадцать копеек. – Хотел вот купить талон, а их ни у кого нету.
– Поздно спохватился, дорогой, – подоспела вторая контролерша. – Запрыгал, когда контроль появился. Давай плати штраф. Вера, подготовь ему квитанцию.
– Да я же хотел по-человечески, - доказывал Георгий. – Вот и люди скажут. Неужели мне жалко? Зачем вы, ей Богу…
– Он спрашивал талон, - буркнул сидящий у окна пожилой мужчина. – Еще до вашего прихода просил. Что пристали к человеку?
– Пристали?! – выкатила на него глаза упругая.- Вы, гражданки, выбирайте выражения. Мы не пристаем, а выполняем свою работу. Защитник выискался… Едут зайцами, и что же - по головке будем гладить? Хочешь ехать – купи сначала талоны. А то привыкли… Так вы, – распалившись повернулась она к Георгию, – будете платить штраф или нет?!
– Да у меня… - растерялся он вконец, – нету больше денег. Вот, только двадцать копеек.
– Не хочешь, значит, платить. Ладно, тогда пройдемте с нами.
– Куда я пойду? Мне же надо срочно…
– А я говорю – пойдемте! – Упругая схватила его за рукав и потащила к выходу. – А не то будут тебе ба-альшие неприятности.
=– Волкодавы, а не контролеры, – пробормотал кто-то.
– Ну зачем вы… Куда…– упираясь, пытался урезонить блюстительниц Георгий. – Для чего этот ваш деспотизм? Деспотизм ведь…
Но его не слушали. Сзади мощным тычком подтолкнула другая контролерша, и вскоре они все трое уже стояли на улице.– Не вздумайте бежать, – предупредила упругая.– Только лишнего намотаешь на свою шею. Пошли.
– Куда еще идти-то? – У Георгия дрожали губы.- Нету же у меня с собой денег – честно говорю.
– Пошли, пошли. Придем в милицию – и деньги сразу найдутся.
И повели его в милицию. В тесном кабинетике райотдела, куда контролеры доставили Георгия, сидело двое милиционеров.
– Вот, разбирайся, Вязанкин, – сказала одному из них, молодому, круглолицему лейтенанту, упругая. – Неподчинение. Проехал зайцем и не желает платить штраф.
– Да какой штраф? – решил объяснить наконец-то все честь-честью Георгий. – При чем тут неподчинение? Я же хотел купить у людей талон…
– Стоп, сто, стоп! – выставил перед собой ладонь Вязанкин. И кивнул контролерам: – Проходите, проходите, девочки. Садитесь.
Те прошли и сели на стулья у окна. Георгий, поскольку сесть ему не предложили, продолжал стоять. Милиционер обмерил его взглядом с головы до ног и решил, видимо, что можно обращаться на «ты».
– Та-ак… Не желаешь, значит платить…
– Я хотел купить талон. Вот у меня двадцать копеек. – Георгий показал монетку. – Спрашиваю у людей талон, и тут входят контролеры. Я ж не виноват, что…
– Сто, стоп, стоп! – опять перебил Вязанкин. – Нарушил? Так. Ехал без билета? Так. Попался? Так. Значит, надо платить штраф. Ну? – сделав удивленные глаза, развел он руками. – Надо платить, родной-дорогой. И без разговоров.
– Но ведь я же…
– Во-о… – прогудела одна из контролеров. – Не желает платить – и все.
– Ладно, – сказал Вязанкин. – Фамилия, имя, отчество?
Георгий назвал. Лейтенант быстро записал и резко поднял голову. – Где живешь? Адрес?
Георгий назвал и адрес.
– Ну? Так будем платить или нет?
– Я же честно говорю – нет у меня с собой денег. Вот, только двадцать копеек.
– Ну, Вязанкин, воще! – сочувствуя милиционеру, оттопырила нижнюю губу и покрутила головой упругая контролерша.
– Та-ак…– продолжал лейтенант. – Место работы? Или не работаем?
– Почему это не работаю? Управления снабжения и сбыта. Бухгалтер.
– И телефон там есть?
– Есть.
– Какой?
Георгий сказал.
– Та-ак… Ладно, сейчас…
Лейтенант пододвинул к себе телефон и быстро набрал номер.
–Але! Это снабсбыт? Из первомайского райотдела милиции беспокоят, лейтенант Вязанкин. Ага, из милиции. Работает у вас такой Логов Георгий Силантьевич? Бухгалтером? Ага, понятно. Лады. Спасибочки.
Положив трубку, Вязанкин еще раз окинул Георгия пристальным взглядом и сказал:
– Ну что же вы? Работаете, понимаешь, в солидной авторитетной организации, а ездите без билета… Нехорошо. Один без билета, другой без талона, и какая же получается штуковина? Вы бухгалтер, должны знать. Убытки ведь получаются для государства…
Георгий хотел было снова начать объяснять, что с радостью уплатил бы за проезд, что не виноват ни в чем, но почувствовал вдруг сильную усталость и не стал больше доказывать, только подумал вяло: «Господи ты Боже мой, все пекутся о государстве… У Дуськи, у Евдокии нашей Павловны, государство страдает, у этого тоже государство… Государство страдает, а больше, значит, и не страдает никто…»
– Идет перестройка, – не унимался Вязанкин, – наоборот стараемся сократить убытки, а вы, понимаешь…
– Деспотизм, – глухо произнес Георгий.
– Чего-о? А вот оскорблять я вам не советую. За оскорбление у нас тоже штраф полагается.
– В самом деле, что ль, нет с собой денег? – спросил у Георгия второй милиционер.
– Да зачем мне врать? Я бы давно заплатил. Господи, Боже мой… Стоять тут…
– Та-ак… – Вязанкин зыркнул недовольно на сослуживца и снова уставился на Георгия: – Сами принесете штраф или послать бумагу, чтоб вычли из зарплаты?
– Вычитайте сколько хотите. Можно мне идти?
– Хм… Быстрый. Ох, какой быстрый. За проезд в общественном транспорте платил бы с такой быстротой. Ладно уж, идите. Но только чтоб…
Окончания фразы Георгий не слышал – был уже за дверью. С тяжелой душою шагал он к остановке, казалось даже, будто из-за этой обширной внутренней тяжести ноги пробуксовывают на месте, не хотят нести его дальше. «Потерял столько времени…- медленно ворочалось в мозгу. – Евдокия Павловна, небось, уж прибегала в кабинет, справлялась, не пришел ли. Да еще звонили туда из милиции. От любопытства теперь сохнут все и ей наверняка доложили».
На злополучный свой двадцатник купил он в киоске автобусных талонов, но когда вошел в длинный венгерский автобус, опять стоял некоторое время в забытьи, пока наконец не мелькнуло в мозгу, что надо же зафиксировать талончик, а то загребут повторно. И, словно разбуженный внезапно, начал лихорадочно шарить по карманам, вынув талоны, спешно прокомпостировал.
Автобус был полон народу, особенно толпились, как всегда, на площадках. Георгий протиснулся в середку и, уцепившись за поручень, снова погрузился в нелегкие свои думы.
Он вспомнил то время, когда сильно верил в Бога. Было это в детстве. Верить его научила мать, и казалось ему тогда, что Бог присутствует всюду, видит и слышит все. С помощью матери Георгий вызубрил несколько молитв – «Отче наш», например, «Богородице, Дево, радуйся», рождественскую и еще несколько, но в молитвах этих ничего не понимал, учил, только чтоб не огорчать мать. А молился он втайне по-своему.
Встанет, бывало, на рассвете, идет на рыбалку. Тишина кругом, роса блестит, туман стелется над рекою, птица какя-то ночная кычет одиноко вдалеке, не желая понимать, что ночь уже прошла… И кажется в такое время, что Бог где-то совсем рядом, что как-то по-особому добрый он сейчас. Идет Георгий к реке и, поглядывая по сторонам, просит шепотом: «Господи, Боже мой! Прости меня грешного – вчера ребята матом ругались, и я выругался два раза. Прости. Знаю, что это плохо, и в другой раз удержусь, ругаться больше не буду. А ты, дорогой мой Господи, помоги мне нынче поймать рыбы. Нам с матерью рыба нужна, давно не ели уху. Пускай хватает крупная и с крючка не срывается. Дай мне, Бог, чтоб клевал почаще лещ – он вкусный и на уху и на жарево. И леска чтоб не рвалась – ее нигде не достать. Помоги мне, господи, я рыбы домой принесу, и мать обрадуется. Прошу тебя, Господи, Боже мой, очень прошу…»
Или за грибами когда пойдет – бродит по лесу и тоже просит: «Дай мне, Господи, удачи, помоги найти белый гриб. И чтоб оказался он чистый, крепкий. Помоги, Господи, а я изо всех сил буду стараться никого не обижать и не дразнить. И всегда буду благодарить тебя». Глядь – стоит под елочкой белый гриб. Красивый боровик, крепкий – как раз такой, какой просил. А потом другой, третий. И трепещет от благодарности душа, и шепчет Георгий: «Спасибо тебе, Господи ты Боже мой, большое тебе спасибо. Всегда буду помнить твою доброту».
Наверно, и в самом деле помогал ему тогда Бог, а иначе чем же объяснить то, что больше всех ребят ловил он рыбы? Принесет бывало, вывалит – целый таз крупных, губастых, с красниной лещей. Живые еще, ворочаются. Мать смотрит, не нарадуется. И грибов белых приносил из леса столько, сколько и взрослым-то не каждому удавалось. Недаром же насмешливо выговаривали соседи своим ребятам: «Эх, ты! Торчал на реке весь день, а надергал только пять малявок! У Егорки вон Логова ступай поучись ловить-то, он пустой сроду не приходит». И матери соседи говорили: «Молодец твой Егорий, право слово молодец. Хоть и об одной, считай, руке, а старатель, настоящий добытчик. Слово он, что ли, какое знает?» Матери было приятно слушать это. Георгий думал с торжеством в сердце: «Знаю, знаю слово. Я Бога уважаю – вот что. И Бог мне помогает». И обязательства свои, данные Богу, он старался тогда выполнять – помнил о нем постоянно, благодарил всегда, не обижал никого зря. Ребята Георгия ценили, считали добрым и справедливым.
А потом – где-то, пожалуй, в шестом-седьмом классах - стал понемногу отходить от Бога, начал раз от разу все больше посмеиваться вместе с ребятами над всеми этими религиозными штуками. Пионерия, конечно, играла свою роль, за ней, как водится, комсомол, а при значке-то комсомольском даже в краску бросало, когда говорили – мать-то, дескать, верующая у тебя, ходит в церковь, а ты, комсомолец, не принимаешь ни малейших мер. И, помнится, пробовал он принимать меры, пытался убедить мать, что нет никакого Бога. Ох, видать, горько, больно было ей слушать такое от родного сына, которого от всей души учила веровать, и который веровал да отступился…
И Георгий понял вдруг, почему вспоминает об этом. Понял, что очень хотелось бы ему сейчас обратиться к Богу так же запросто, как тогда, облегчить, рассказав о своих тягостях, душу, попросить помощи. Но разве можно такому помогать? Вон сколько лет – считай, целую жизнь – прожил, забыв про Бога, сам, видишь ли, «с усам»… А теперь, когда припекло по-настоящему, станет, значит, как ни в чем не бывало, просить: «помоги, Господи». Нехорошо. Отступился ведь, предал, выходит. Да, стыдно просить…
Подруливая к остановке, водитель автобуса тормознул отчего-то сильней обычного, пассажиров рвануло вперед. Георгия толкнули, и он, едва удержавшись на ногах, тоже в свою очередь воткнулся в спину женщины, стоящей рядом. Та, обернувшись, посмотрела на него возмущенно, но ничего не сказала. Женщина была молодая, но уже этакая умудренная, солидного вида.
– Извините, – смущенно пробормотал Георгий.
Она промолчала. После остановки в автобусе стало еще тесней.
– Вася! – донесся с задней площадки зычный женский голос. – Вася, иди взад!
Наверное, муж с женой вошли на остановке в разные двери, и теперь жена жаждала воссоединения.
– Чего я там забыл?! – рявкнул на весь автобус Вася. – Мне и тут хорошо!
Люди засмеялись. А через некоторое время словно бы волны пошли по народу от задней площадки – это решившая во что бы то ни стало воссоединиться с мужем женщина начала прорываться к середине автобуса. Ее пытались урезонить, но она полная, раскрасневшаяся, не обращая ни на кого внимания, неудержимо ломилась вперед, помогая себе и локтями, и плечами, и коленями.
И надо же такому случиться – стремясь протиснуться между Георгием и кем-то подпиравшим его спиной, женщина застряла. Не долго думая, она рванулась изо всех сил, и Георгий повалился на свою соседку, которую уже толкнул до этого.
– Да вы что?! – вывернувшись, двинула та его локтем в бок. – Чего вы все кувыркаетесь-то?
– Разве ж я виноват? Сзади вон рвутся, меня-то тоже толкают.
– Рвутся… А вы держитесь, как следует, нечего кувыркаться туда сюда. Пьяный, что ль?
– Ничего я не пьяный.
Женщина за спиной так и не сумела пока прорваться – вознамерилась, видимо, передохнуть. Слышалось ее тяжелое прерывистое дыхание. Но вот снова она дернулась, и опять Георгий вынужден был толкнуть свою соседку. В полном смятении он взмолился:
– Ну куда вы в самом деле прете? Вы толкаете меня, я толкаю других…
– Да пошел ты– в злобе оттого, что никак не может пройти, прошипела краснолицая. – Выставил тут свою задницу, одноглазое рыло…
И рванулась что было сил снова. И снова Георгия бросило на соседку.
– Ну сколько можно?! – окончательно взъярилась та. – Сколько можно на мне плясать? Есть у вас совесть или совсем нету совести?
Георгию показалось, что сейчас эта представительная женщина вцепится ногтями ему в лицо, и он потеряет свой единственный глаз. Но она лишь ткнула его локтем в бок – на этот раз еще больнее. И опять свирепо дернулась за спиной краснолицая.
– Да хватит в конце-концов! - Не выдержал стоящий по другую сторону прохода дюжий спинастый мужчина. – Надоели ваши тут эти! Кончай к хренам трепыхаться!
– Да вот!.. – саданула Георгия кулаком по спине застрявшая. – Раскрылатился, зараза, не пройдешь-не проедешь…
– Вы…– бледный, с трясущимися губами, повернулся к ней Георгий. – Вы… Зачем же такой деспотизм? И вы тоже…– обратился он вслед затем к представительной соседке. – Видите же, что я не виноват. Прекрасно же видите… Деспотизм ведь.
– П-пошел ты… – яростно прошипела за спиной краснолицая.
– Ну, взяли человека в клещи, хотят заклепок из него наделать, – криво усмехнувшись, сказал сидевший у окна молодой с жесткими чертами лица и глубоким шрамом на скуле, мужчина. – А ну-ка, – приказал он мальчишке, который занимал место рядом с ним, – прыгай ко мне на колени. Живо.
– Зачем? – удивился мальчишка.
– Надо дядю из клещей выручать. Быстро, мальчик. Будь послушным. Ты ведь активист? В школе, наверно, пятерки получаешь? Пионэр, наверно? Пионэр должен быть сознательным.
И не дожидаясь согласия, сгреб паренька сильными ручищами, мгновенным рывком переместил к себе на колени. Тот сидел ни жив, ни мертв.
– Одноглазый! – позвал Георгия мужчина. – Эй, одноглазый! Давай шлепайся сюда. А то эти выдры тебя так расплющат, что можно будет под дверь подсунуть.
И Георгий, не протестуя, сел. В нем дрожало все, вибрировала каждая клеточка.
– Это кто же тут выдры? – сурово поджав губы, осведомилась у жесткого мужчины представительная соседка Георгия.
– Я ошибся, – с едкой ухмылкой глядя прямо ей в глаза, ответил тот. – Прошу прощения. Не выдры, а тыдры. На «вы» таких называть – много чести. Ты со мной согласна, милочка?
На это женщина промолчала и, напрягшись каменно, стала смотреть в окно. Краснолицая почему-то прекратила рваться вперед – устала, наверно, сильно – и смирно стояла теперь на месте Георгия.
– Какая же наглая морда, – глянув на нее и поморщившись, словно от чего-то кислого, обратился мужчина к мальчику, сидящему у него на коленях. – Ты только посмотри, мальчик. Жуть. И вообще – сколько же развелось наглых морд! Пока я мирно отдыхал на курорте, вся Россия наполнилась злыми наглыми мордами. А? За какие-то шесть лет… Ух, тоска!.. И это у них называется перестройка.
– Вась!– крикнула краснолицая. – Вася! Иди сюда, тут вот обзываются.
– Умолкни, убогая, – со спокойной укоризной просил ее «курортник». – А не то я сыграю на твоих барабанных перепонках стремительный тустеп. А из Васи твоего наделаю строганины и заставлю тебя эту строганину кушать. Ну? Ясно тебе, тыдра современности, чучело перестройки?
Румянец начал быстро исчезать с лица женщины, а рот при этом медленно раскрывался.
– Закрой рот, - посоветовал «курортник». – А то простудишь кишки, и дерьмо в тебе застынет навеки.
Она смотрела на него оловянными глазами и не произносила ни слова. Вася почему-то не отзывался, хотя был, наверно, где-то совсем рядом. И стало в этой части автобуса очень тихо.
– Зачем вы так? – негромко сказал соседу Георгий. – Так тоже… не надо.
– Надо, одноглазый, надо, – обняв его, со вздохом возразил тот. – Иначе сотрут нас с тобой в порошок, а порошком этим будут чистить свои крысиные зубы. Правильно, пионэр?
– Правильно, – ответил мальчик.
– Вот, – продолжал «курортник». – А мною уже зубы чистили. Так что больше я не хочу. И тебе, одноглазый, вовек не пожелаю. Поверь мне – порошком быть плохо. Ты посмотри, сколько стало в России наглых морд. Разве при таком невыносимом их количестве проживешь праведником? Даже и не думай. Надо жить так, чтоб на каждую наглую морду во рту автоматически накапливалось для плевка. Не обязательно сразу плевать, но необходимо, чтобы знали, нутром чуяли: может плюнуть. Так сказать, сказать, всегда готов. Вот, как пионэр. Приведу простое доказательство. Ты глянь на нашу оловянную тыдру и на ее соплеменницу в маске милой интеллигенточки, – кивнул он на застывших в испуге женщин, от которых так натерпелся Георгий. – Они уже почуяли. Почуяли, что могут получить по плевку в самом прямом смысле. И как резко изменились. Были тыдрами, а стали овечками. Из хищников моментально преобразовались в травоядных. Дай им сейчас травки – станут мирно хрустеть. Во, брат, прогресс. И остальные – ты только глянь – тихо задумались о смысле жизни. Ну? Неоспоримая польза. А ты мне тут глаголешь…
– Я вас очень прошу, - прижав руку к груди, сказал Георгий. – Не надо.
– Ладно, – ответил сосед. – Не буду. Нравишься ты мне, одноглазый. Соскучился я по таким. Ты ведь вымирающий. Ради тебя я готов поступиться своими принципами. Хочешь, даже прощения у этих травоядных попрошу. – И, тоже приложив к груди руку, он обратился к женщинам: – Простите меня, бывшие тыдры.
– Не надо, – повторил Георгий.
–Ну не буду, не буду.
…Выйдя из автобуса, Георгий некоторое время топтался на остановке, глядел по сторонам, будто никак не мог узнать свой район, потом махнул отрешенно рукой и, ссутулившись, зашагал к дому, в котором жил. У него сильно болела голова и периодически натягивалось, замирало все в душе, как при длительном падении.
«Деспотизм…– думал он с тоской. – Сплошной деспотизм и ни малейшего просвета. И ведь прав этот, со шрамом-то, – пять-шесть лет назад было легче. Имелись хоть какие-то просветы. А сейчас – почему же сгустился-то деспотизм, откуда его столько наплыло? Идет перестройка, там, наверху, делают уж вроде бы все, чтоб людям свободней дышалось, чтоб каждый жил по-человечески. Вроде, от души делают, без обмана. Убеждают: хватит, дескать, никакого больше деспотизма, уничтожаем его напрочь, уже, считай, уничтожили… Да и вправду ведь – государственная власть пошла другая, обходительная стала власть, даже за границей замечают. Только… Стоп! – Георгий остановился и ошеломленно провел по лицу ладонью. – А ни хрена вы его не уничтожили! Он, деспотизм-то, который открыто гулял по всему государству, от вас, от верхов-то, ловконько ускользнул. Съехал от вас подальше вниз, сбился из общей своей неоглядной массы в маленькие комочки и попрятался в людей. Вы его теперь не видите. Вам кажется – уничтожили, а он жив. В людях сидит кругом, сохраняется весь по частям. В каждом кабинете торчит, в каждом автобусе, в каждой семье. И почти в каждом сердце. И попробуй-ка, выковырни его. За него многие насмерть будут драться. Это же у них теперь вроде богатства. Может, конечно, и выковырнешь, да только с кровью, с болью опять же. А оно и без того уж ковыряли, ковыряли с кровью, с болью-то… Да, видать, не настолько это простая зараза, чтоб так легко удалось с нею разделаться. Корни у нее наподобие присосок – крепкие, сильные корни. Беда…»
Возле дома двое мальчишек лет пяти-шести играли в войну. В руках у них были автоматы – черные, очень похожие на настоящее оружие. И строчили эти игрушечные автоматы громко, тоже под стать настоящим. Приближаясь к своему подъезду, Георгий услыхал, как один малец предложил другому:
– А давай в людей стрелять.
– Не-е, –ответил тот. – В людей разве можно стрелять? Они же наши.
– Правильно, мальчик, – сказал Георгий. – Молодец. В людей стрелять нельзя.
Мальчуган, которого он похвалил, обернулся, и направив на него автомат, дал длинную очередь. Было это настолько неожиданно, что Георгий, содрогнувшись даже схватился за грудь – будто и впрямь его продырявило насквозь в нескольких местах. Мальчишки захохотали.
– Готов! – держались они за животы. – Капут!
Несколько секунд Георгий стоял, ошеломленный, потом, не сказав больше ни слова, вошел в подъезд и медленно побрел по лестнице наверх, на свой четвертый этаж.
Оказавшись в квартире, он никак не мог сразу сообразить, чего ему тут надо. «Вот и ребенок, – думалось, – которого носит сейчас в себе Маргарита… Вырастет, тоже возьмет автомат и даст очередь в упор по живому человеку. Да не из игрушечного, а из настоящего – достают же теперь где-то боевое оружие…» И тут же зябко передернул плечами, устыдил себя: «Господи, с какой стати лезет в голову этакая страсть о собственном сыне, да к тому же еще не родившемся?» Георгию почему-то казалось, что родится именно сын. И в тот же миг он понял, из-за чего опасается – ведь в душе-то у Маргариты вон сколько деспотизма. И находится этот сильный ее деспотизм над ребенком, давит, небось, на него, а то, глядишь, и впитывается потихоньку в будущего человека. Сумеет ли выйти ребенок на белый свет добрым да ласковым из такой тяжелой обстановки?..
Он снова, стоя у двери, попытался сообразить, зачем здесь оказался, и вдруг вспомнил: «Суп! Я же из-за супа приехал!» И ужаснулся: ждут же теперь на работе, к тому же еще из милиции туда звонили. Начал было рвать с себя плащ, но потом решил не раздеваться, сбросил только туфли и кинулся на кухню.
Тарелка с супом, подернутым застывшим жиром, стояла на столе. Георгий схватил ее, держал некоторое время перед собой, загнанно глядя туда-сюда, потом опустил опять на стол – надо же сначала достать из холодильника кастрюлю с остальным супом. Он достал ее, начал торопливо переливать суп, и тарелка вдруг выскользнула из руки, ударилась о край кастрюли. И все это вместе – и осколки разбившейся тарелки, и кастрюля с ее содержимым – грохнулось на пол, разлетелось по сторонам, растеклось, забрызгав ему носки и брюки.
Георгий медленно опустился на корточки посреди этого несчастья и заплакал. Плакал он сначала тихо, только покачивал ритмично головой, но потом вырвались из его тела судорожные рыдания.
– Господи, – заговорил он сдавленно, – прости меня, я виноват. Если можешь, прости. Мама, где ты? Приди хоть на чуть-чуть. П-п-п… Хоть немножко… п-погладь меня по голове…


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"
























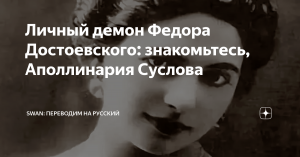


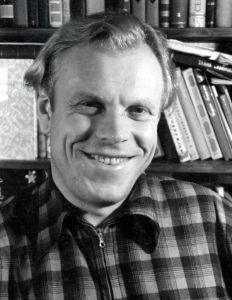

























 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский