Ночью опять шел дождь — негромкий, скучный, надоевший всему земному. Но перед рассветом поднялся прерывистый тревожный ветер, и почувствовалось вскоре, что он растрепал, разнес в клочья и угнал куда-то низкие тяжелые тучи.
Сейчас светило солнце, но нерадостно было в лесу, потому что ветер, едва утихнув, налетал внезапно снова, и верхи деревьев шумели, качаясь, и жила во всем, таилась вокруг напряженная тоскливая забота. "Да какая уж радость теперь... — усмехнувшись с горечью, подумал Андрей Арефьевич. — Август, седина вон пошла". Сединой он называл первые среди зелени деревьев пожелтевшие листья. Их срывало с берез неожиданными нервозными наскоками ветра, и они летели с высоты поначалу стремительно, но внизу замедляли свой полет и, кружась, как бы нехотя, опускались на сырую землю.
Один из таких ярких листиков лег у ног Андрея Арефьевича, и старик поднял его, положил на ладонь. Радостный свет источала отмирающая малая частица природы, и от этого света пронзительно заныло в груди: "Надо же... Умирает, умер уж, считай, а светит..."
Было все вокруг напитано влагой, и даже не напитано, а пресыщено, переполнено ею. Дожди шли, шли и шли, сверх краев стояла вода в болотах, озерках и ямах, и ни разу за лето не удалось по-настоящему просохнуть, подышать с легкостью земле. Андрей Арефьевич приглядывался к лесу и замечал то, чего раньше не было никогда. Вот, к примеру, живая сильная ель — в самой силе, лет пятьдесят ей, может, — а по стволу снизу вверх сероватый мошок пророс, незнакомый, непонятный такой мошок, колючий. По живой-то коре. И на осинах такой же встречается, и на березах тоже есть. Ненормальная штука, от большой влаги прижился какой-то паразит. Не должно так быть, нет, не должно. Папоротник в это время обычно всегда сочный стоял, зеленый, а нынче словно ржавчина побила его — местами свернулся, засох. "Да-а... — Андрей Арефьевич вздохнул сокрушенно. — Болеет природа, жмет ее что-то, корежит, никак ей не удается пожить в полном здравии..."
Не хотелось сегодня завтракать и за грибами не хотелось идти, тянуло полежать, да так, чтоб посвободней, подольше, никуда не отвлекаясь. Однако Андрей Арефьевич пересилил себя — коль уж выделил Господь Бог денек без дождя, то надо поблагодарить да использовать, без грибов-то ведь нельзя. Тех, что успел запасти урывками, не хватит на зиму, еще хотя бы полстолько белых насушить, а на солку только-только начинают вылезать.
Он чувствовал, что много грибов вряд ли ему понадобится, что еще одну зиму едва ли удастся осилить, но не желал рушить обычный свой порядок. Чего хорошего — протянуть лапки и ждать? Да нет уж, надо жить, как жил — в этом только и подмога душе и телу. Тебе не понадобятся грибы — Варе сгодятся, ей особо-то некогда их собирать. Пусть и трав будет насушено вдоволь, и грибов запасено, как всегда. Да еще и картошку выроем — справимся потихоньку-полегоньку. А потом ведь ты чувствуешь одно, а в сердцевине жизни для тебя может быть приготовлено совсем иное — вдруг да выправишься и одолеешь еще не одну зиму...
Грибы от избытка сырости росли все какие-то несерьезные — боровики с тонкими мягкими ножками, и шляпки плоские, кротшатся. Андрей Арефьевич набрал, однако, уже более половины корзинки — правда, небольшая корзиночка-то, с большой теперь не отваживается ходить, надо экономить силы.
Бродил потихоньку меж кустов да древесных стволов, подрезал неспешно грибы и в общем-то почти не устал пока, слава Богу(, хотя брезентовый, с капюшоном, дождевик, который надел, не доверяя уже ясной погоде, стал казаться тяжеловатым.
Васек, умная добрая лайка, временами удалялся куда-то в заросли, исчезал довольно надолго, но потом возвращался и бегал рядом, заглядывая в лицо хозяину — просил внимания.
— Радуешься, баловник... — нагибаясь, ласково трепал Васька за шею Андрей Арефьевич. — Чему радуешься-то? Ну давай бегай, бегай...
Васек подпрыгивал высоко от избытка чувств и опять вскоре исчезал.
Но вот, появившись невесть откуда, собака вдруг сделала несколько резких нервных скачков в сторону темной вековой ели, стоящей шагах в сорока в окружении густых кустов орешника. Напряженно застыв на месте, Васек оскалил зубы, зарычал глухо, и шерсть на его загривке вздыбилась, загнутый к спине хвост мелко задрожал.
Сердце у Андрея Арефьевича застучало сильно, но тут же, совладев с собою, старик настороженно прислушался. Ни малейшего постороннего шороха, ни треска он, однако, не уловил своим еще неплохим слухом. Мешал, правда, нараставший временами шум ветра. "А все ж человек там, видать, — подумал Андрей Арефьевич. — Причем не грибник, не-ет..." Васек умел чутьем отличать людей на расстоянии. Грибников, которые хоть и очень редко, но забирались сюда, он сразу же начинал облаивать весело издалека — вот, дескать, сейчас я тебя напугаю. Если же чуял зверя, то мгновенно бросался наперерез и, сблизившись, всячески старался не дать уйти, держать на месте. Знал Андрей Арефьевич, какой у Васька лай по лосю, какой по кабану, какой по зайцу, белке. А тут нет, тут наверняка человек — так Васек ведет себя обычно в тех случаях, когда чует ружейную смазку.
"Охотник если какой забрел?.. — продолжал прикидывать старик. — Да охоты-то все пока закрыты еще. Браконьер, может, — у этих в любое время ни стыда, ни совести".
Собака зарычала опять, и Андрей Арефьевич тихо позвал ее:
— Ко мне, Васек. Живо ко мне!
Васек послушался — подбежал и сел рядом, но все продолжал напряженно смотреть туда, в сторону ели, с глухим нутряным рычанием скалил зубы.
"И-эх!.. — усмехнувшись вдруг, сказал себе мысленно Андрей Арефьевич. — Совсем уж чего-то я подносился — испужался, гляди-ка ты... Да кому мы теперь нужны, какой тебя бес нынче тро¬нет? А ну-ка проверим, кто там у нас блукает".
— Васек, — негромко приказал он, — пошли. Рядом пошли, рядом.
И собака, поняв, что должна быть недалеко от хозяина, сторожко, словно крадучись, пошла впереди. Продравшись вслед за Васьком сквозь густые заросли орешника, Андрей Арефьевич остолбенел, и сердце опять застукало гулко и быстро. Под старой елью на подстилке из еловых же ветвей лежал человек. Лежал он на спине, привалившись неловко головой к могучему стволу дерева, с закрытыми глазами. Лицо его было темным, заросшим густой щетиной и сильно исхудавшим. Страшно выглядели губы — обметанные болячками, вспухшие и потрескавшиеся.
В первое мгновение старику показалось, что человек мертв, но потом услышал его дыхание — неровное с хрипом. "Больной совсем, — стараясь усмирить тяжело бьющееся сердце, начал наконец соображать Андрей Арефьевич. — Без памяти, наверно. А может... Может, ранил кто? Кровяного-то вроде ничего не видать..."
И вдруг он увидел оружие — мужчина держал его за рукоятку, прижав к бедру, и палец был рядом со спусковым крючком. И сразу же Андрей Арефьевич осознал, что оружие это, с недлинным стволом и высоким намушником, настоящее, грозное — автомат.
Васек, вытянувшись в струнку, остановился метрах в трех от лежащего, напряжение переполняло его. И собака не выдержала — взлаяла громко и нервно, с подвизгом.
— Тихо, Васек! — приказал шепотом старик. — Ко мне! А ну-ка быстро!
Тот подбежал и, касаясь боком ноги Андрея Арефьевича, сел рядом. Человек под елью очнулся и увидел собаку, старика. Некоторое время он смотрел провалившимися воспаленными глазами, не двигаясь, соображая, видимо, что к чему, потом стал поднимать автомат. Заметно было — большая в его теле слабость, и руки не слушаются. Старик с собакой, однако, не шевелились, глядели, будто завороженные, и мужчина, собрав в себе остатки сил, поддернулся вдруг всем телом, привалился к ели спиной. Сидя ему легче стало управляться с оружием, и, уперев автомат затылком в живот, он потянул на себя затвор. Щелкнуло холодно, и Андрей Арефьевич понял, что оружие взведено.
Зрачок ствола смотрел на него.
— Стой, дед, — с трудом разлепив больные губы, невнятно, одним почти хрипом сказал мужчина. — Стой, где стоишь. А я... я подумаю... Наверно... придется... уложить тебя здесь... Вместе... с собакой.
Его начала бить дрожь — видать, была высокая температура, и автомат подрагивал тоже.
— И... не вздумай бежать, — продолжал мужчина. — Пуля... догонит.
— Стар я уж бегать-то, — чувствуя, как свело холодом спину, ответил Андрей Арефьевич. — Ходить потихоньку — и то вот палка помогает.
И старик подумал, что если тот нажмет сейчас на спусковой крючок, то пули легко прошьют тело и полетят дальше сквозь кусты. Несколько, может, пуль... Один только миг — и все кончено. Легче легкого. А то жди там, впереди, — как оно будет? Глядишь, еще намучаешься, лежа-то в постели — замытарит слабость да, боль... "Эх, мужик... — усмехнулся он внутренне и начал вдруг успокаиваться — прошла оторопь, и сердце стало притихать к норме. — Нашел, чем загрозить... Если вот только по Ваську попадет, Васька жалко".
— За что же ты меня убивать-то собрался? — спросил Андрей Арефьевич. — Увидал человека в первый раз — и сразу же убивать... Чего я тебе сделал плохого?
—- Ты, дед, заложишь. Пр... продашь. И придут... загребать. Начнут стрелять. А мне... Мне этого не надо. Ты можешь продать... Вот я и...
Васек опять зарычал.
— Тихо! Сидеть! — прикрикнул на него Андрей Арефьевич.
— Вот... — направляя оружие на Васька, продолжал мужчина. — И собака ... рычит. Тоже... может навести...
— Никто тебя тут не продаст, — Андрей Арефьевич шагнул к нему и заслонил собою Васька. — И не дури ты, мужик.
— Стой, дед. Еще шаг... И... сделаю решето.
— Говорю — не дури. Никто продавать не собирается. Твое дело... пускай твое и будет. Бог тебе судья.
— Бог... судья. Пр... правильно. А вам... не верю никому. Одному поверишь... и... точка.
Дрожь била его все сильнее, но автомат он продолжал удерживать, вздергиваясь время от времени для внимания, словно пытаясь стряхнуть с себя болезнь.
— Больной ты совсем, — сказал Андрей Арефьевич. — Тебя лечить надо, а ты... убивать.
— И лечить... никому. Пр... продадут враз. Лучше... сдохну тут.
— Заладил — продадут, продадут... Кому продавать-то — один тут живу, больше ни одной души в округе.
— Где это ты... живешь один? Далеко деревня?
— Какая тебе деревня! До деревни девять верст с гаком, да и то если напрямки. А у меня здесь кордон.
— Стой. Значит... дом один... и ты в нем... один? И больше... кругом никого?
— Ни души кроме меня. Чего ты все не веришь-то?
— Стой, дед... Дай... подумать.
Ему делалось все хуже, глаза закрывались сами собою, но автомат, упертый магазином в колено, по-прежнему был нацелен на старика.
— Да чего думать, — сказал Андрей Арефьевич. — Вставай потихоньку и пойдем с Божьей помощью. Хватит уж целиться-то. Плохо тебе совсем, лечить надо тебя. Тут недалеко, меньше километра. Никто не найдет, не узнает — не бойся.
Мужчина встряхнулся опять, и Васек выскочил вперед, зарычал.
— Скажи... своему псу... — прохрипел больной. — Скажи, чтоб... не хрюкал. А то... пристрелю.
— Ты его не трогай, и он не тронет тебя. — Андрей Арефьевич, присев на корточки, погладил собаку и ласково попросил: — Тихо, Васек, успокойся, родной. Это свой. Свой это — понял?
Васек сразу отмяк, даже замахал хвостом.
— Свой, значит... — Мужчина пошевелился. — Ладно... Придется... Поверю тебе, дед. Но... гляди... Если готовишь мне точку... У меня... выход один...
— Да брось уж грозить-то. Изгрозился весь. Вставай, давай помогу. А то потеряешь сознание — разве мне тебя дотащить?
— Нет! — дернув автоматом, с яростным хрипом выдохнул тот, и старик, шагнувший уже было к нему, замер на месте.
— Мы... по-другому. Ты с собакой... впереди. Десять шагов... Будешь дальше... начнешь уходить... Срежу... знай.
— Эх, ты!.. — с досадой махнул рукой Андрей Арефьевич. — Фома без веры. Ну пойдем так, если охота. Веди старика под прицелом. Да вставай уж, а то сомлеешь вконец.
Мужчина надел ремень автомата на плечо и, направляя оружие теперь уже одной рукой, а другой опираясь о дерево, стал подниматься. Сразу это ему не удалось — рука скользнула по коре ели, и он опять сел.
— Давай помогу-то, — снова не выдержал Андрей Арефьевич, — ослаб же ведь, ноги не слушаются.
— Стой.
— Тьфу ты! Прости меня, Господи...
Наконец тот поднялся и, привалившись всем телом к стволу дерева между двух сухих обломанных, сучьев, стоял некоторое время, не забывая держать автомат наизготовку, стараясь, видимо, справиться с головокружением, утвердиться. И по высокой его фигуре, по всему в нем стало заметно, что даже пока и не окончательный это мужик, а парень — в возрасте, правда, и крепко, наверно, обкатанный. Одет он был в черную измызганную робу, наподобие рабочей спецовки, и такие же брюки, кирзовые сапоги казались рыжими от налипшей на них, многодневной, видать, грязи.
Парень сделал первый неуверенный шаг от ствола ели и постоял еще так, осваиваясь. Его покачивало и не отпускал озноб — слышно даже было, как стучат зубы.
— Л... ладно, — он медленно поправил на плече зеленый автоматный ремень. — Пошли. Только... ты, дед... впереди. Десять шагов.
— Да знаю уж. Рулетки, жалко, нету, а то бы отмерили в тютельку. Пойдем, Васек.
Пробираясь через орешник, Андрей Арефьевич не оглядывался, но слышал— тащится и тот, шумно тащится, с треском, хватает наверно поминутно за ветки и волоча ноги. Доносилось его прерывистое хриплое дыхание. Васек бежал спокойно – поверил, значит: коль хозяин не велит злобиться, то все в полрядке.
Дальше лес был почище, без особых зарослей, и старик шел, выбирая места поровней, где не встречалось валежника. Теперь он изредка оглядывался, чтобы соблюдать расстояние. Парень с автоматом, поддерживаясь за деревья, продвигался следом, его качало, как пьяного. Потом он упал, зацепив ногой за валежину, растянулся всем пластом. И торопливо завозился на земле, стараясь поскорей подняться, прохрипел:
— Стой...
— Да стою, куда я денусь.
Не выпуская из рук оружия, парень утвердился сначала на коленях. Рядом стояла березка, и, уцепившись за ее ствол, он медленно поднялся в рост, привалился к дереву плечом. Березка гнулась под его тяжестью, а он сипел, задыхался. Васек побежал было к нему — хотел, наверно, обнюхать, — но почему-то раздумал, вернулся.
Старик ждал, и до горечи в сердце вдруг стало обидно ему, что без конца направляют и направляют на него боевое оружие.
— Эх, ты, — подавляя в горле комок этой горечи, сказал он. — Я всю войну прошел, осколками доставало, пулей, но никакому немцу не удалось меня вот так... под дулом. А здесь на старости лет... Свой — и ведет... будто под конвоем. Грех тебе...
— Хватит! — зло просипел тот. — Дви... двигай.
И пошли подобным же образом дальше.
Понемногу Андрей Арефьевич освободился от обиды и стал думать с тревогой: чего же он натворил, этот парень, откуда и от кого вырвался, да причем с таким оружием? Убил ли? А что ж— вполне могло быть. Вон он как — погибает, а стервенится хлеще волка. Не верит никому и нипочем. С крепостью, с железом-кремнем в душе, видать, мужик-то. А может... где-нибудь довели человека до предела? Нынче это умеют. Из тюрьмы, может... Волосы отросли, не брился давно. Погибает, надо будет лечить.
Парень, ковыляя из последних сил, упорно продвигался следом.
Когда завиднелся кордон — дом близ озерка и небольшое подворье, огород, обнесенные пряслом, он приказал остановиться.
— Собаку... к себе. Позови... Ну!
Андрей Арефьевич поманил Васька, тот подбежал. Опустившись на корточки, старик стал гладить его, и Васек радостно лизнул ему щеку.
"Неужто постреляет нас сейчас — на пороге, считай? — обдало старика холодом. — Неужто вел, чтоб только узнать дорогу?.."
Зрачок автоматного ствола, подрагивая, смотрел прямо в лицо.
– Пес... — прислонясь к дереву спиной, продолжал парень прерывистым сипом, — чтоб... рядом. И... ни звука. Если... там... Если в доме... хоть кто-нибудь... то... всех...
— Господи ты мой правый... — тяжело опираясь на палку, Андрей Арефьевич выпрямился, побледневший, и перекрестился. — Да вот те крест, нету там никого.
— Все, Давай.
Старик приказал Ваську идти рядом, и они направились к жердяным воротцам. Парень держался теперь позади метрах в трех.
Силы у него иссякли на крылечке.
Сначала сильно качнуло назад, но он устоял, потом упал на колени, ударился головой о стойку. Андрей Арефьевич, который был уже в сенцах, бросился помогать. Закинув руку парня себе на шею, с большим трудом, но поднял-таки его на ноги, кое-как доволок до кровати. Тот рухнул поперек кровати лицом вниз, автомат, сорвавшись с плеча, шлепнулся рядом. И больше парень не шевелился.
— Бог ты мой... — Андрей Арефьевич схватил автомат и никак не мог сообразить, куда его деть. — Боже милостивый, как бы уж не помер...
Наконец он догадался сунуть оружие подальше на печь и кинулся стаскивать со своего нежданного гостя грязные сапоги.
2.
Странно было Андрею Арефьевичу, что совсем он не чувствует усталости, и самое удивительное — внутри утихло все, ничуть не беспокоит боль, прошло это поганое нытье. "Во-о как, — усмехнулся он. — Куда чего девается, когда не о себе, а о другом-то заботишься. Знамо дело, так-то оно..."
Остаток дня прошел у него в больших хлопотах, и ночью пришлось вставать не раз. Разве будешь тут сидеть сложа руки — погибает ведь человек, надо выручать. С большим трудом раздел он парня до трусов, уложил и, прикладываясь ухом к его груди, к спине, послушал. Да в общем-то и без того было ясно — сильно простужены легкие, опасное в них воспаление, все там у него горит. И, видать, уж давно, застарело. А вдобавок еще и глотошная — ангина, даже вспухла шея. Кругом весь в воспалении-горячке, жаром от него пышет на метр. Тяжелое дело.
"Та-ак... — Андрей Арефьевич подумал немного. — Перво-наперво надо накалить песку. Обязательно горячего песку. А уж потом остальное". Он затопил маленькую печку с плитой, которая была сложена в одно с большой русской печью, и пока разгорались дрова, накопал за огородом, в давней яме у озерка, крупного желтого песку. Потом разыскал все свободные мешочки из-под круп и прочих продуктов, стал калить песок на плите в большой сковородке. Пересыпав его, прокаленный, в мешочки так, чтоб они были плоскими, и завязав их, дал простынуть до нормы и обложил ими парня. Два под спину, два с боков и на грудь один. Укрыл больного теплим одеялом, сверху еще старый полушубок накинул.
Второе дело, решил старик, — надо дать организму питание, иначе вяло будет бороться, а то еще и не будет совсем. Оголодал, видать, бедолага здорово. Хоть и крепкий по натуре — это заметно, но худоба в нем большая, ослаб вконец. Много дней, наверно, бедовал.
Быстро удалось подманить во дворе и поймать старую курицу. Андрей Арефьевич зарубил ее, и когда сидел, щипал, не отпускали тревожные думы. Откуда он такой взялся, какие за его спиной дела? Скрывается, ищут ведь наверняка. А ну-ка заглянут сюда? Да вряд ли вообще-то — который уж год никто кроме Вари не ходит... Раздевая больного, обнаружил у него под робой подсумок на ремне. С тремя отделениями подсумок, в двух запасные магазины к автомату. Тяжелые — полные, сразу понятно. Целую роту можно пострелять. И нож еще в ножнах. Серьезный нож, к стволу автомата, видать, приставляется. Эх, беда... А ремень-то — солдатский, с бляхой, новый почти совсем. Или шпион какой? Тоже вряд ли, больше все-таки смахивает на тюремника. Но оружие-то этакое... Откуда? Эх, дела-делишки... Ну, ладно, чего ж теперь. Главное сейчас — не дать человеку сгибнуть.
И вдруг словно опалило: а ведь Варя-то скоро придет. Давно не была, обязательно наведается на днях. Господи, как же тут сделать-то? Караулить-поджидать если, перехватить во дворе. Да разве укараулишь — дел-то вон сколько... Войдет неожиданно в дом — и здрасте. Васек, может, упредит лаем? Но ведь он ее встречает всегда без лая, с радостью... Ну... в крайнем случае... куда ж денешься? Придется объяснить. Поймет она. Варя все может понять. Варя не скажет никому, нет.
Куриный бульон Андрей Арефьевич варил по-особому — добавил в него одному ему известные корешки и травку, которые помогают организму браться за силу. Рот у парня был раскрыт, но для верности старик вставил ему между зубов алюминиевую во¬ронку и стал вливать понемножку бульон. Полстакана прошло. Потом он вливал еще через каждые полчаса, и тоже вроде шло нормально.
А вечером приготовил специальный отвар из кореньев и трав, малины сухой в него добавил —. от воспаления и чтоб вышибало болезнь с потом. И опять понемногу вливал больному в рот через каждые полчаса. К ночи лицо парня покрылось крупными бисеринами пота, и начал он метаться, бредить. "Ага, — обрадовался Андрей Арефьевич, — пошел организм. Пошел в борьбу. Ладно, пока порядок". Он вытащил из-под больного мешочки с остывающим песком, взял те, что были с боков и натруди, и, пересыпая песок в сковороду, нагрел его опять, обложил парня горячим еще раз, на ночь, укрыл, тщательно подоткнув со всех сторон одеяло. "Вот, — подумал удовлетворенно, — пускай теперь попотеет, ничего".
И ночью несколько раз вставал — зажигал лампу, вливал больному в рот через воронку стоящий на плите теплый целебный отвар. Перед рассветом парень перестал метаться, затих. Тут уж Андрей Арефьевич заснул по-настоящему и спал, как ему показа-лось, долго, хорошо.
И вот пожалуйста — даже выспался вроде бы, и самочувствие намного лучше, чем вчерашним утром. Это слава Богу — самому- то теперь киснуть недосуг.
Парень лежал тихо, короткие темные волосы его надо лбом слиплись от пота. И дыхание стало другим — не с хрипом уже, а с хлюпаньем, Андрей Арефьевич подошел, приложил руку ко лбу больного. Заметно убавился и жар. "Ну, слава Богу, — перекре-стился старик. — Кажись, малость отмякло. Теперь надо только поддерживать, не упускать, и должен выдраться. Молодой, жилистый — обязательно должен". Он пощупал под одеялом — там было мокро от пота больного.
И снова Андрей Арефьевич принялся за дела. Вытащил из-под парня сырую простыню, вытер его сухо-насухо полотенцем, достал из шкафчика и подстелил плотную свежую холстину. Все это стоило ему немалого труда, и старик замаялся, сел передохнуть, утихомирить сердце. А потом пошло легче, уже привычное — он пересыпал и подогрел песок, обложил парня горячими мешочками, укрыл, перевернув одеяло другой стороной. Подушку под голову больному подложил ту, на которой спал сам, а промокшую под парнем насквозь вынес с простыней во двор, устроил просыхать на ветерке. И опять по малой толике поил теплым бульоном, снадобьем, приготовленным уже несколько по-иному — чтоб не так сильно гнало пот. Когда поворачивал парня, приподнимал ему голову, тот стонал, бормотал что-то невнятно, однажды даже приоткрыл на мгновение мутные глаза, но так и не пришел в себя ни разу. "Ничего, — думал с уверенностью Андрей Арефьевич. — Очнется, настанет время. Пропотел-то уж больно хорошо..."
В избе стояла духота оттого, что не раз приходилось подтапливать печку, и старик приоткрыл дверь — воздух должен быть свежим, это уж обязательно. И к тому же можно услышать, если неожиданно нагрянет Варя.
Ясная погода стояла и сегодня, и ветер надтих, шумел теперь в вершинах деревьев спокойно и приятно. И чувствовал Андрей Арефьевич, что не будет дождя в ближайшие дни, должно постоять. "Дай-то Бог, — вздохнул. — При солнышке-то любой организм к здоровью тянется".
В заботах о больном он совсем забыл об остальных — и кур вчера не накормил толком, и Ленку, олениху, только выпустил за ограду, чтоб она погуляла на воле да попила из озерка, а настоящего пойла сготовить ей так и не успел. И Васек с Анфисой за весь день поели одних лишь куриных потрохов. Рыжка не видать, промышляет, наверно, где-нибудь по хорошей погоде. Ну да, орехи то поспели, запасает, прячет теперь.
Анфиса, зеленоглазая серая кошка, терлась о ноги, просила есть.
— Сейчас, — сказал Андрей Арефьевич. — Потерпи уж еще-то чуток.
Он принес из сеней чугун со вчерашними щами, поставил по дальше в печку на угли. Потом плеснул на сковородку масла, наложил в нее рисовой каши, тоже приготовленной вчера. Уместилась в печке и сковорода. Пока все это разогревалось, приготовил корм курам – прошлогодняя вялая картошка, сваренная : утром на плите, еще не успела остыть, и Андрей Арефьевич быст¬ро искрошил ее вместе с кожурой, смешал с пшеницей. "Хорошо с пшеницей-то, — порадовался, — самое оно. Спасибо Варе, заботнице, а то бы беда..." Часть картошки он использовал для пойла Ленке. Бросил также в ведро несколько сухарей, изрезал туда большую кормовую свеклу заодно с ботвой. Свеклу эту выдернул на огороде еще вчерашним утром,, да вот только дошли руки.
Управившись с курами и Ленкой, Андрей Арефьевич налил полную миску щей Ваську, каши в них добавил. Дождалась наконец своей очереди и Анфиса — жадно хлебала из жестяной банки у печки.
"Да и самому теперь не грех бы подзаправиться, — посидев некоторое время в раздумье, усмехнулся старик. — А то скоро и ноги не будешь таскать от таких забот". И почувствовал вдруг — действительно, хочется есть. И удивился опять, обрадовался: надо же... Давно уж не было никакого аппетита, силой себя заставлял есть, и вот поди ж ты...
С удовольствием он съел полную тарелку щей и каши поел тоже.
Послышался шорох — Андрей Арефьевич, вздрогнув, обернулся. Дверь была приоткрыта, и на пороге сидел Рыжок.
— А-а, — негромко сказал старик. — Явился? Где болтался-то?
Рыжок запрыгал к Анфисе, которая возила по полу, вылизывала свою банку, кошка замурзилась на него для порядку.
— Не лезь к ней, — Андрей Арефьевич поднялся из-за стола и, оторвав от снизки, висящей над плитой, подсохший белый грибок, кинул его белке. — На-ка вот ешь, а к ней не лезь, не до тебя, вишь.
Рыжок взял гриб и, держа его в лапках, словно в маленьких ручках, заложив свой пушистый хвост на спину, стал торопливо грызть.
После еды Андрея Арефьевича потянуло в сон. Голова клони¬лась сама собою, закрывались глаза. "И это, — пытаясь стряхнуть с себя дрему, покачал он головой, — как в былые хорошие времена..." Глянул на больного — тот лежал спокойно на спине, лишь при дыхании, тяжелом еще пока и учащенном, продолжало у него хлюпать слегка где-то внутри. И старик решил: "Ничего, нормально. Надо тоже лечь, коль уж тянет. Дело нужное — силы-то ох как пригодятся. Мы... недолго, на полчасика..."
Проспал он, однако, около двух часов. Разбудили стоны — больной опять начал бредить. "Бог ты мой, — встрепенулся Анд¬рей Арефьевич. — Чего ж это я — продрых все на свете..."
И вскоре уже бодро, уверенно продолжал свои лечебные хлопоты.
3.
Хоть и был настороже Андрей Арефьевич, а Варя пришла-таки неожиданно. Донесся со двора ее голос — разговаривала, наверно, с бурно встречавшим Васьком, и пока старик метался по избе, не зная, как быть, она уже поднялась на крыльцо, вошла в сенцы. Засеменил было навстречу, хотел изобразить радость, чем-либо отвлечь, но Варя сразу же заметила, что он не в себе.
— Ты чего это такой? Встрепанный, будто... кур ловил. Чего делаешь-то?
— Да я... Пойдем-ка сядем на крылечке. Тебя все ждал, вот и... Пойдем на крыльцо, расскажешь...
— Зачем на крыльцо-то? У меня вот полная сума, надо выложить.
— Поставь пока, а потом выложим. Поговорим хоть...
— Да в чем дело-то? — удивилась Варя. — Не пускает в избу, испуганный какой-то. Иль уж меня испугался? Может, прячешь там, у себя, кого? А ну-ка глянем...
И Варя решительно потащила в избу свою суму на колесиках. Лежащего на кровати она заметила не сразу, а когда увидела, то вздрогнула и прижала руки к груди.
— Господи... Кто это у тебя?
— Тс-с... — приложил палец к губам Андрей Арефьевич. — Выйдем-ка Лучше наружу, я тебе поясню.
Но Варя, быстро опомнившись от испуга, приблизилась к кро¬вати, стала разглядывать лицо больного, посмотрела осторожно и сверху, и сбоку. И только после этого, бросив на старика'непонятный хмурый взгляд, направилась к двери, спустившись с крылечка, села на скамейку. Андрей Арефьевич растерянно опустился рядом и молчал.
Подбежал Васек, поднявшись на задние лапы и поставив передние на Варины колени, хотел на радостях лизнуть ее в лицо.
— Погоди, Васек, — отстранила его Варя. — Погоди немного.
Белка прыгнула с крыльца прямо на плечо Андрею Арефьевичу — он вздрогнул.
— Тоже, — сказал виноватым голосом, — чует, что ты пришла. Рад.
Варя достала из кармана куртки орешек и протянула Рыжку. Тот взял орешек лапками, зажал в зубах и, спрыгнув на землю, стал грызть. Собака, не в силах совладать со своей радостью, лизнула его, и Рыжок отскочил, выронив орешек, недовольно зафырчал.
— Ну чего же ты? — сурово глянула на старика Варя. — Рассказывай.
— Да видишь вот... — начал скованно старик. — Захворал человек сильно, плохо ему. Лечу...
— И что же это за человек, кто он такой?
— Он... Да нашел случаем в лесу, доходит, гляжу... Отощал, ослаб вконец. Лежит, гляжу, под елкой...
— Зовут-то хоть как — знаешь?
— Не знаю. Где уж тут знать — еле-еле... до избы-то. Третьи уж сутки не приходит в себя. Стараюсь вроде, должен бы уж очнуться, а вот..
— Эх, деда, деда... Тебе бы о себе подумать как следует, а ты... Такая обуза — не ешь, небось, не спишь? Сам ведь свалишься.
— Не, я, брат Варя, хорошо. Ей Богу, прямо лучше и не надо. И ем, и сплю, и дела делаю. У меня...
— Ага, герой ты у нас. Сляжешь сам.... я тогда... не знаю...
— Не боись, ничего со мной не станется. А тут... Сгибнуть ведь может человек-то. Ну что ж мне — завалить его на тележку да отвезть, сошвырнуть в чаще? Неужто тебе не понятно? Тебе-то?
— Мне понятно. Мне очень даже понятно. Понятно даже... кто это такой.
— Ты... — вскинул голову старик. — Откуда ты можешь знать?
— Откуда... Эх, деда... Да угадала я его. Враз угадала. Фото¬графию видела в районной газете. И в областной тоже, говорят, было. Он хоть и оброс весь, а все равно узнала.
— Ну и чего там, в газетах-то?
— Чего... Пишут, что убежал из... из заключения. Опасный. Просят сообщить. Так-то, деда.
— А... еще чего пишут? Не убил он?
— Этого не пишут. Стой!.. — Варя вдруг выпрямилась, и лицо ее побледнело. — Вооружен ведь! Вооружен —'• вот что там еще написано. Ну?! Было у него вооружение? Говори давай.
— Вроде как...
— Ну чего ты все мнешься-то? Говори — есть или нет?
— Дык... прибрал я его.
— Во-о... Ясно тебе теперь? Ясно, кого лечишь? За это, знаешь... И он... может ведь убить. Ему свидетели не нужны. Ну? Понял ты или нет?
— Я давно все понял. — Старик заговорил вдруг по-иному — сурово и твердо. — И ты, Варятка, успокойся. Убить... Это не так просто. И Господь Бог не допустит. Зачем парню убивать меня? Я никого не привел, вызволяю его от смерти. Нет, не тронет он. Я чую правильно, и ты мое чутье знаешь.
— Преступник же, опасный. Ну как тебе еще...
— Ты мне не ещекай, — перебил все тем же суровым тоном Андрей Арефьевич. — И знай: чего там за ним есть — это его грех. Придет время — ответит: и перед Богом, и перёд кем следует. А мой грех будет — ежели я человеку не пособлю в его тяжелый час. За это с меня спросится. И... никаких. Ты только вникни душой: человек же при смерти.
— Да еще разобраться надо, человек или...
— Все равно человек! — упрямо отрезал старик. Узловатые сухие ладони его дрожали на коленях, губы тоже подрагивали. Варя заметила это и, помолчав немного, сказала:
— Ладно уж, чего ж теперь. Пошли, выложу из сумки, да надо вымыть полы, прибрать тут... у вас по-человечески. А то... темнеть стало рано.
— Точное дело, — облегченно согласился Андрей Арефьевич. — Рано стало смеркаться — осень на носу. А лета, считай, не было. Полы-то вымыть, Варя, может, я сам как-нибудь? А ты бы отдохнула — походи тут с Васьком, полюбуйся волшебным нашим местом. Погода, слава Богу, наладилась. А хошь — посиди, дай ногам покой. Все-таки далековато от шоссейки-то, устала, небось.
— Ну да, не хватало еще тебе самому мыть полы. Пойдем, я там притащила кой-чего. Отдыхай-то ты теперь давай, а я займусь делами.
Привезла она стопку выстиранного и выглаженного белья, несколько буханок хлеба, черного и белого, довольно большую пластмассовую канистру молока, потом выложила банки с консервами, увесистый кусок сыра, масло, мясо, конфеты и сахарный песок в пакете.
— Ух ты! — удивлялся громким шепотом Андрей Арефьевич. — Откуда столько всего? В магазинах-то — сама говорила — шаром покати.
— Я уж столько раз объясняла, деда. Тебе паек полагается — как фронтовику. А молоко — тоже знаешь — свежее, с фермы.
— Вот молочка-то — это хорошо, — радовался он. — Молочка ему сейчас в самый раз. Прямо как в воду глядела. А остальное — куда столько? Оставила бы себе.
— Опять ты, деда, за свое...
И принялась Варя за дела. Она принесла воды из озерка, нагре¬ла ее на керосинке в сенцах и стала чистить, мыть посуду. А уж потом выметала сор, протирала все в избе и мыла полы. Андрей Арефьевич топтался неудельно, стараясь не мешать, зная, что по-могать она не позволит. Лишь подходил в нужное время к больному, поил лечебным отваром. Парень изредка стонал в забытьи, и Варя, отрываясь от дела, выпрямившись, смотрела тревожно сначала на него, потом на старика.
— Ничего, — шептал Андрей Арефьевич. — Очнется, подымется. У него крепкая жила, я точно чую.
Потом Варя замерла вдруг посреди избы с половой тряпкой в руке и сказала тихо:
— Вспомнила.
— Чего? — насторожился старик.
— Евгений... Ну да, Евгений Сергеевич — вот как его зовут. — Там написано. А фамилия... Фамилию нет, не сумела упомнить.
— Хм, Евгений, значит…
Наведя в доме полный порядок, Варя стала готовить на керосинке щи. Андрей Арефьевич опять пробовал было протестовать, но без толку. А потом она поставила варить еще картошку с мясом.
— Пожиже сделаю, — сказала. — Когда болеешь, почему-то всегда охота жиденького. Очнется — может, поест.
— Правильно, — одобрил Андрей Арефьевич. — Сделай пожиже.
Когда основные дела были закончены, Варя собрала грязное белье старика, затолкала в сумку.
— Может, и это постирать? — кивнула она на заляпанную грязью робу парня.
— Это... — растерялся отчего-то Андрей Арефьевич, — не надо пока. Я сам. Да и другое-то все зачем «ты берешь? Неужто я не постираю? Когда тебе — встаешь ни свет ни заря.
Но она будто не слышала его слов — сидела и смотрела задумчиво на больного, поглаживая Анфису, которая устроилась у нее на коленях. Потом Варя повернулась к старику и сказала:
— Ох, деда, задал ты мне заботы... На ферму завтра с утра, а то бы не ушла отсюда никуда. Страшно оставлять тебя тут с ним. Знамо бы дело, так предупредила бы, чтоб подменили меня на ферме. Как вот я теперь пойду? В голову-то станет лезть всякое.
— Ну, брат Варя, это ты зря, — погладил он ее по плечу. — Ступай спокойно и ничего плохого в уме не веди. Очнется — как миленький, помяни мое слово.
— Ох, легко тебе говорить.
— Точно говорю, и не убивайся ты ни капли. Тут место волшебное — сама знаешь. А человек есть человек — чего его бояться?
— Да разные бывают люди-то. Знал бы ты, что творится вокруг.
— Знаю, что творится. Забцли друг друга, в себя каждый ударился, в свою пустую гордость. И не замечают, какой урон. А я вот поставлю человека на ноги — он мне спасибо скажет.
— Ска-ажет... Ну ладно, надо все ж таки идти, а то уж к сумеркам дело. Эх, Ленку-то я покормить не успела. Хоть кусочек хлеба ей дать...
Варя отломила от буханки кусок и, взявшись за сумку, потащила ее во двор. Андрей Арефьевич пошел проводить. Олениха стояла во дворе, будто ждала. Варя отдала ей с ладони хлеб, погладила.
— Я, Варь, чего хотел попросить... — заговорил смущенно старик. — Ты... только не обижайся. Короче... не приходи быстро. С недельку или дней, может, девять повремени.
— С недельку?! Да я же с ума там сойду!
— А ты не надо, укрепись. Он ведь... понимаешь ли, не знает, что ты приходила, и пускай пока не знает. А то подхватится, неокрепший, — и дай Бог ноги. И ткнется где-либо опять. Ему окрепнуть надо, пообдумать свое получше на волшебном-то нашем месте. Бежал-то, видать, не думал, навроде загнанного волка.
— Окрепнет, расстараешься на свою шею. А может, и еще на чью-нибудь. Ох, деда ты, деда...
— Ну ничего, ничего.
Андрей Арефьевич немного проводил Варю по старой дороге в сторону шоссе, и когда расставались, сказал:
— Ты уж, Варятка, там смотри... никому. Сама понимаешь, такая штука... Пускай человек о себе сам решает, а наше дело — помочь.
— Деда ты, деда... Никому чтоб я... Неужто не знаешь меня?
— Да знаю, знаю, — смутившись опять, погладил он ее по плечу. — Так уж я, по-стариковски зудю. Не придавай внимания.
4.
Парень очнулся в тот же вечер, когда уже стемнело. Андрей Арефьевич поил его отваром, и больной вдруг зашевелился, открыл глаза. Старик вынул воронку у него изо рта и стоял, наблюдал с тяжко бьющимся сердцем. Парень долго смотрел на старика мутным бессмысленным взором, потом стал медленно оглядывать потолок, стены, тускло освещенные керосиновой лампой. После этого он опять посмотрел на Андрея Арефьевича, и во взгляде появилось беспокойство.
— Где я? — слабым голосом, почти шепотом, спросил больной.
— На кордоне на моем, где ж еще. В моей избе. Неужто не помнишь, как вел-то меня, конвоировал? Под елкой тебя нашел, помирал ты, брат, совсем.
— Под елкой... А-а... Чего-то помню, как в тумане. Дед, собака...
— Во-во! — обрадовался Андрей Арефьевич. — Я это и был. И Васек, лайка моя. Дотащился ты, значит, до кордона, а на крыльце-то силы и кончились, потерял сознание.
— А что со мной?
— Простыл весь, воспаление в тебе большое. И оголодал, видать, сильно. Ты счас много не говори, с разговором быстро силы уходят.
Больной помолчал немного, потом спросил:
— И... долго я тут лежу?
— Да вот уж, считай, четвертые сутки пошли.
— Четвертые? — парень забеспокоился еще больше. — И чего же — все время... без сознания?
— Все время. Слава Богу, корешки мои лечебные да травки, а то бы и не знаю... Грел тебя, подкармливал потихоньку. Вот, — старик с улыбкой показал воронку, которую держал в руке. — Через эту штуковину и потчевал отварами-то да куриным супчиком. Ну и... теперь, значит, очнулся ты. Дело хорошее, скоро пойдешь на поправку. Мыслить, гляжу, сразу начал.
Андрей Арефьевич чувствовал, что говорит много и торопливо, может, лучше было бы объяснять поспокойней да повнушительней, но не получалось у него так — хотелось! чтоб скорее больной понял все, обвыкся в незнакомой обстановке.
— А был тут еще кто-нибудь?
— Да кто тут будет?.. Никого не было. Кордон в глуши, на десяток верст ни одного селения. Шоссейка, правда... километрах в пяти.
— В пяти? Вроде рядом с ней шел...
— Нет, километров пять будет. Ты, видать, крепко забрал в сторону, в самую глушь. Сюда не ходит никто, я давно уж один живу.
— Никого, значит? А я... во сне послышалось — вроде разговор какой-то... женский голос.
— Ну-ну, разговор... Бредил, вот и почудилось в бреду-то. Ты счас беспокойся меньше, копи силы. Никто сюда за тобой не придет, никакая милиция...
— А откуда... почему ты знаешь, что за мной могут прийти?
— Дык... — подрастерялся Андрей Арефьевич. — Когда нашел я тебя под елкой-то, вроде как дал ты понять, что опасаешься их, пострелять можешь кого хошь.
— Пострелять... Стоп. — Больной дернулся, хотел сесть, но слабость еще велика была в нем, ему лишь удалось выпростать из-под одеяла руку. — Где? Где автомат? Рожки к нему... Где?
— Никуда твой автомат не делся. На печке вон лежит.
— Давай его сюда. — Он опять зашевелился, пытаясь приподняться. — Давай... быстро.
— Эх, ты! — махнул рукой старик. — Фома и есть Фома. Только пришел в себя, и скорей ему автомат. В руках-то сейчас его не удержишь. На кой он тебе? Кого стрелять-то?
— Давай! — прохрипел парень.
— Да возьми, черт с тобой, прости меня, Господи. Не верит никому, не может без этой своей игрушки...
Андрей Арефьевич с досадой швырнул на стол воронку и полез ;на печь за автоматом. Достав оружие, он положил его парню на грудь и сказал:
— Ты-осторожней со своей дурью-то. Там патрон в стволе, Взвел ведь тогда, под елкой-то, так оно взведенное и осталось.
— Рожки... — парень, борясь со слабостью, щелкнул чем-то на автомате — видать, поставил на предохранитель, пристроил оружие у стены, под правую руку. — Рожки запасные... тоже тащи.
Старик молча достал и подсумок с магазинами, почти бросил его на одеяло, которым был укрыт больной.
— И ножик притащить? — чувствуя нарастающее в груди раздражение, язвительно спросил он. — Автомат, может, как-либо удержишь в руках, а ножик возьмешь в зубы. И будешь всю ночь воевать с воздухом.
И неожиданно больной улыбнулся.
— Ну ты, дед, даешь... — сказал он обессиленно. — Нет, нож... пока не нужен.
А глаза его уже закрывались — тянуло в сон, и Андрей Арефьевич встрепенулся:
— Погоди, парень. Поддержись еще маленько, не засыпай. Мы счас... Надо нам успеть, раз такое дело...
Старик быстро налил в миску жидкой картошки с мясом, сготовленной Варей, теплой еще, ложку схватил и подсел на кровать к больному.
— Необходимо, брат, поесть путем, а то худо. Пора по-настоящему силу копить.
— Не... не хочу.
— Ну вот те! Нет, уж ты давай-ка. Вот я тебя сейчас малость приподниму, и будем потихоньку пытаться.
И парень пересилил себя, послушался — видно, понимал, что если станешь есть, то скорей поправишься. Андрей Арефьевич приподнял его, дал в руку ложку. Больной начал было есть, но получалось это у него плохо — с ложки лилось обратно в миску, которую держал перед ним старик.
— Эх, ты, — сказал Андрей Арефьевич. — Ложку не можешь удержать, а подавай ему автомат. Горе ты мое, горе... А ну-ка мы вот так....
Он взял у парня ложку, поставил миску рядом на табурет и стал кормить его сам. Покормил как следует, потом дал попить молока. Управившись со всем этим, попросил опять:
— Поддержись еще малость. Надо сменить под тобой, а то мокро. Счас чуть-чуть посидишь, ноги мы тебе опустим, и я в момент.
Больной сидел на краю железной кровати, держась обеими руками за спинку и привалившись к ней, а Андрей Арефьевич, быстренько убрав мокрое, постелил ветхое байковое одеяло, чистую простыню. Потом он уложил парня, и тот сразу же закрыл глаза. "Теперь порядок, — глядя на него, подумал старик. — Теперь во сне к здоровью пойдет".
— Ты здесь, дед? — не открывая глаз, неожиданно спросил больной.
— Здесь, рядом вот стою.
— Выходит... ты меня от смерти спас?
— Выходит, так.
— Я... не забуду. А точно... никто не придет?
— Спи спокойно. Если б догадывались, давно б уж пришли.
— Я... сплю...
Андрей Арефьевич приготовил себе постель, лампу погасил и улегся тоже. И провалился в сон почти сразу же — спокойно уснул, крепко.
Когда очнулся, уже рассвело, и он встрепенулся, сел, протирая глаза. Качал головой и удивлялся: "Эх, елушки-моталушки, это когда же я в последний раз так беспросыпно дрых? Продрых ведь все кругом, непутевый..." И было в груди хорошее какое-то настроение.
Парень дышал во сне ровно, чувствовалось, что проснется он не скоро, что началось, пошло наполнение его организма здоровьем. "А перебил я воспаление-то, — с удовлетворением думал Андрей Арефьевич. — Удалось перебить. Теперь питать надо как следует. Чайку с калганцем, с освежающей травкой, чтоб крепилось, дубело все внутри.. Супчику бы ему из чирка сейчас, из дичатинки полезной. Да, денек бы покормить супчиком из чирка... А мясо, которое Варя сейчас принесла, рановато оно для него пока, грубовато. Полкурицы еще осталось, но куриный-то суп все время —. тоже слишком он резок для желудка... Это уж потом".
И Андрей Арефьевич решил вдруг пойти и убить чирка. Давно он прекратил всякую охоту, жалко стало всякую живность, но тут дело такое — одного чирочка придется все же взять. Старик вздохнул с сожалением и, стараясь не шуметь, вытащил из шкафа ружье, ототкнул стволы. Разломил, глянул на свет — ничего, порядок. А патроны? Эх, долго лежат без применения. Порох-то, небось, уж силу потерял. Ну да никуда не денешься, какие уж есть, может, не подведут. Он выбрал четыре патрона, которые по-казались почему-то более надежными, чем все остальные, положил их в карман.
Накормил кур, Анфисе дал поесть, а Васька кормить не стал. И оленихе приготовить решил после. А пока пусть она походит вокруг кордона, попитается тем, что знает сама.
Васек почуял ружье, заволновался, напрягся весь от радости.
— Не радуйся больно-то, — сказал ему Андрей Арефьевич. — В воду придется лезть. И чтоб тихо у меня! Пойдешь возле ноги. Понял?
И лайка сразу поняла, пошла рядом, не отрываясь ни на метр, касаясь боком ноги старика.
По выводку чирков и кряквы жило в озерке у кордона, они выплывали с противоположной стороны из тростничка и совсем почти не боялись, но Андрей Арефьевич не хотел трогать тут ни одной живой души — как-то оно... родное здесь все. Он пошел на дальнее озеро — всего-то их, озер, в округе было три, и это даль¬нее, самое большое, находилось в глухой стороне, примерно в километре от кордона.
Подобрались к бережку удачно. Васек знал, какая предстоит охота, и вел себя тихо, сторожко, словно бы подражал хозяину. Разогнувшись потихоньку с ружьем в руках, Андрей Арефьевич глянул поверх камыша и сразу увидел выводок чирков — они кормились, ныряя. Уж ему-то хорошо было известно, что в это время утки обязательно жируют здесь, на мели. Медленно поднял ружье, выделил одного, поодаль. Руки подрагивали. "Какие уж теперь из нас охотники, — подумалось с глубинной грустью. — Ружье-то хоть удержать бы..."
Громыхнул выстрел, эхо стегануло далеко по лесу. Чирок трепыхнулся дважды и застыл на воде. Остальные сорвались с шумом и, описывая большой плавный полукруг, полетели к противоположному берегу. "А ничего патроны-то еще, — удивился Андрей Арефьевич. — Отдача резкая". И обратился душой к улетающим чиркам и к тому, что лежал на воде: "Простите уж меня. Один только раз, для дела. Больше не буду".
— Ну, Васек, —' приказал, — плыви за ним. Вперед, брат, давай плыви. Доставать надо.
И собака ринулась сквозь камыш в озеро. Бывалые охотники удивились бы, что лайка идет по болотной дичи, а Андрей Арефьевич не удивлялся. Он как-то довольно легко приучил Васька к утиной охоте, когда тот был еще совсем молодой. Да и вообще ко всему приучил собаку — не бил, не обижал ничем, считал, что она понимает жизнь не хуже человека, надо только найти подход.
Васек сплавал за чирком и, продравшись через камыш обратно, подбежал с уткой в зубах, с явным сожалением уронил ее у ног хозяина.
— Молодец, — опустившись на колени, взял его голову и поце¬ловал в мокрый лоб Андрей Арефьевич. — Умница ты, Васюшка, спасибо тебе. И не переживай — сейчас пойдем, накормлю тебя как следует. Картошечки дам с мясом. Варя вчера сготовила. Похлебаешь — будешь рад, не переживай, что чирочка потрепать-погрызть нельзя.
... Войдя в избу с ружьем и чирком в руках, Андрей Арефьевич вздрогнул — опять смотрел на него черный глазок автоматного дула. Парень полулежал, опершись спиною на поставленную стоймя подушку, и направлял оружие на дверь.
— Тьфу! — всерьез разозлился старик, когда прошла оторопь. — Целится и целится, другого дела у него нету. И как только не надоест? Не может расстаться с этой своей тутукалкой — и все тут. Женился бы, что ли, на ней. Да и женился уж, в постели с собой держишь. Интересно, каких детей она тебе нарожает?
— Ты, дед, не злись, — невольная улыбка тронула густо обросшее щетиной бледное лицо парня. — Я проснулся и слышу: где-то выстрел. А тебя нет. Всякое лезет в голову. Твой, значит, выстрел
был?
— Чирка вот убил на дальнем озере — суп тебе сварить. Его на ноги хотят поставить, а он все целится.
— Ну ладно, ладно. Порядок, значит?
— Порядок, порядок у дуры между грядок... — продолжал ворчать по инерции Андрей Арефьевич.
5.
Пока варился суп из чирка, старик подогрел лечебный отвар, налил в кружку.
— На-ка вот, попей, — сказал он.
Парень лежал тихо с закрытыми глазами, но чувствовалось — не спит. Открыв глаза, он приподнялся с трудом, молча взял из рук старика кружку и стал пить.
— Горькое, — поморщился слегка, допив-таки до конца.
— А-а... — торжествующе усмехнулся Андрей .Арефьевич. — Чуять начал — чего горькое, чего какое. Коль уж начал чуять, значит, верное пошло дело, скоро встанешь на ноги.
— Скорей бы.
— А ты давай-ка не торопись. Спешка-то — она только при ловле блох нужна, а тут штука серьезная. Организм путем наладить — это тебе не в бирюльки играть. Никто тебя отсюда не гонит. Окрепнешь по-людски, а потом уж решай.
Парень опять прикрыл глаза и молчал.
Старик подогрел картошку с мясом, приготовил пойло Ленке. Накормив Васька и напоив олениху, он вернулся в избу, потоптавшись в нерешительности, глянул на парня и предложил вдруг:
— А знаешь, что? Давай-ка мы тебя побреем. А то зарос весь — на кабана похож, аж противно смотреть.
— Да какая бритва теперь мою чащобу возьмет?.. — тихо ответил тот.
— Э-э, брат, моя возьмет. У меня бритва — такими нынче уж никто не бреется. Содержу ее в порядке, и она чего хошь возьмет. Счас вот только малость подправим на ремешке...
— Опасная?
— Само собой. С энтими-то чвыркалками разве путем побреешься?
— Ну тогда давай попробуем.
Андрей Арефьевич тщательно направил бритву на ремне, которой висел на стене, взбил помазком в мыльнице пену. Парень лежал молча, глаза его по-прежнему были прикрыты.
— Та-ак... — подсел к нему с мыльницей и помазком в руках старик. — Начнем-ка. Ты только немножко подушку повыше. Давай помогу. И не трепыхайся, лежи спокойно. Я все сам.
Обильно намылив больному щеки, подбородок и шею, Андрей Арефьевич начал потихоньку брить.
— Во-от та-ак... — приговаривал он, время от времени счищая с бритвы на газету налипшие вместе с мылом волосы.
— Берет под корень, работает как миленькая.
— А ты, дед... — приоткрыв глаза и скосив их на старика, про¬изнес, вдруг парень, — не махнешь мне случайно по горлу, как этому... Остапу Бендеру?
Андрей Арефьевич застыл с бритвой в руке и смотрел на него, укоризненно покачивая головой.
— Дурак ты, — сказал он наконец. — Дурак и больше никто. По горлу... Остапу какому-то... Да если бы что... Если б я чего держал против .тебя... На кой бы хрен ты мне сдался... прости, Господи. Легче легкого ведь — сдыхай себе сколько хошь. Или пойти на шоссейку, сказать любому шоферу, чтоб заявил в милицию...
— Ну, ты уж прямо сразу всерьез. Да пошутил я, дед. Пошутил, не обижайся.
— Шутки, брат, у тебя... Нехорошие какие-то шутки. Дикой ты и неверующий.
— Дикой и неверующий... Это точно.
— Ладно, хватит уж ересь-то пороть. Дай-ка добрить.
Закончив бритье, Андрей Арефьевич насухо вытер лицо и шею парня полотендем. Присмотрелся как следует, и лицо ему понравилось. "Дури на себя напустил, — подумал старик, — у них это нынче в моде — с лихой дурью-то ходить. А так чего ж — парень справный, и не видать, не заметно в нем вроде злого да преступного-то. Даже смахивает на образованного человека".
— Одеколон есть, — сказал он. — Можно освежиться.
— Хорошо бы. Маленько хоть, а то провонял я весь.
Андрей Арефьевич достал из шкафчика одеколон и, плеснув на ладонь, начал натирать парню лицо, шею.
— Уф-уф... — слабо взмахнув руками, довольно фыркнул тот.
— Щиплет. Знатно, дед, ох, знатно. Спасибо тебе.
Когда сварился суп из чирка, Андрей Арефьевич вынул из чу¬гунка утку, отделил упарившееся мясо от костей и, порезав мелко-намелко, высыпал обратно в чугунок. Жарко стало в избе от протопившейся печки, и он приоткрыл дверь. Припрыгал откуда-то Рыжок, старик по привычке дал ему сушеный гриб, и белка стала быстро грызть его своими остренькими зубками. Потом Ры¬жок прыгнул на шкаф — там у него было любимое место — и сидел на краю, чистился лапками.
Парень не видел ничего этого — наверно, одолевала немощь, и он лежал на спине, смежив веки. И, выбритый чисто, походил на мертвого — когда Андрей Арефьевич смотрел в его сторону, стано¬вилось даже малость не по себе.
Рыжок вдруг прыгнул со шкафа на кровать, прямо на живот больному, и тот встрепенулся, удивленно уставился на белку. Та испугалась тоже — зафырчав, махнула с кровати к двери и выскочила наружу.
— Это... — никак не мог прийти в себя парень. — Что это у тебя такое?
— Напужался? — усмехнулся старик. — Да белка у меня живет, Рыжком звать. Живет вот, привыкла к дому.
— Что же... Почему же она привыкла?
— Детенышем взял, из дупла выпала. Мамашу-то, видать, либо лиса подцепила, либо еще какая беда приключилась. А этот с голоду, наверно, и полез из дупла, упал. Совсем был малютка, с палец. Ну и пришлось выкармливать — теперь вот прыгает себе, радуется. Кошка его не трогает, собака тоже. Свыклись. А он по лесу вокруг кордона походит, походит, и опять сюда.
— Чудеса...
— Бог с ними, с чудесами. Давай-ка вот поешь путем.
Устроившись поудобней, парень молча принял миску с чирковым супом, ложку и начал есть. Давалось это ему с трудом, он быстро начал уставать. Тогда Андрей Арефьевич взял у него миску и стал держать сам.
— Может... хватит? — умоляюще глянул парень.
— Нет, не хватит. Это сила. Нужно съесть все. Тебе сила нужна?
— Нужна.
— Вот и ешь. И молока еще выпьешь. А в обед калганцу заварим, чтоб закрепилось в организме по-настоящему.
И больной съел все, выпил и молока. Обессиленный вконец, он лежал некоторое время молча, потом спросил:
— Тебя, дед, как хоть звать-то?
— Называешь дедом, чего ж тебе еще?
— Ну... ты для меня стараешься от души. А я даже не.знаю, как зовут. Скажи уж.
— Если хошь, зови дедом Андреем. А тебя, значит... Гхм... Раз такое дело — давай уж и ты себя называй. Знакомиться — так знакомиться.
— Я... Я тоже Андрей. Тезки мы, оказывается.
— Тезки, выходит... — Андрей Арефьевич помрачнел. — Та-ак... Вот и ладно, познакомились.
Он вспомнил, что надо бы теперь и самому поесть, поставил разогревать сваренные вчера Варей щи, остатки картошки с мясом.
— А что же ты не спросишь, — заговорил опять больной, — откуда... я такой взялся. Голодный, еле живой да еще... с автоматом...
— Чего мне спрашивать? Захочешь — расскажешь сам. Не захочешь — тоже не обижусь, таскай свое при себе, если оно у тебя такое легкое.
— Хм... Интересный ты дед.
— Какой уж есть.
— А сам-то почему не ешь? Поел бы тоже. А то... старый, устал небось. Сколько тебе лет-то?
— Сколько есть — все мои. Поем сейчас. Грею вот щи. Вчера Ва... Варил вчера. Тебе-то пока щи — грубовато, организм, боюсь, не справится, а я их поем.
— Ну и правильно.
Когда Андрей Арефьевич ел, парень, назвавшийся тезкой, уже спал крепким спокойным сном. Автомат, упертый магазином в край кровати, был прислонен к стене.
Старик подошел и, положив оружие плашмя, прикрыл одеялом. Спящий не почувствовал ничего, даже не пошевелился.
6.
Не было настоящего приятного тепла — как-то скупо, мутновато светило солнце, словно затаило в себе, спрятало свой пыл, и даже в середине дня нет-нет да и повевало над землей островатой свежестью. Однако продолжало стоять без дождя, лишь один раз покропило немного случайное облачко.
Заметно попросохло в лесу, лишь по утрам тянуло из чащоб влагой и прелью. Прибавилось в кронах лиственных деревьев "седины", забагровела вершина старой осины, стоящей у озерка, и, освещаемые неярким солнечным светом, листья ее чутко трепетали на длинных своих черенках от малейшего ветерка.
Выходя из дома, Андрей Арефьевич с каждым разом все острее ощущал глубиною души приближение осени, и эти ощущения вызывали в нем на несколько мгновений смутную печаль и тревогу. И потаенная боль внутри тела начинала оказывать себя.
Старик смотрел вокруг, вздыхал тяжело и успокаивал сердце: "Ничего, и осень пройдет, и зима пройдет, и опять все тут распустится, расцветет. Все тут останется, и я останусь здесь, слава тебе, Господи..." И становилось ему легче.
Вообще же любил Андрей Арефьевич свое "волшебное место" в любое время года. И было за что любить. Кордон располагался на едва заметном плавном возвышении, и деревья окружали его в основном лиственные и какие-то щедрые по-особому — размашистые и радостные. Осины, рябины, старые березы и даже кленовых несколько, широкие лапчатые листья которых тоже сейчас начали желтеть.
Озерко овальной правильной формы лежало сразу за огородом, во впадине, как бы у подножия кордона, и бережок его за пряслом был ровным, окаймленным чистой песчаной полосой. Противоположный же берег густо порос тростником и камышом, а дальше, за этой растительностью, стояли плотной стеной заросли рябины, черемухи, калины и орешника. И цвело все это весной, как удивительно все это цвело...
А кроме того рассадил Андрей Арефьевич'в свое время на огороде вишенье — расположил его ровной линией вдоль прясла, со гороны озерка. Выйдешь в мае на крыльцо — ив глаза тебе белый двет среди свежей весенней зелени. И две яблони — эти стоят поближе к дому. И тоже цветут каждую весну. В деревне в одну из зим сильный мороз погубил у всех сады, а здесь у Андрея Арефьеича яблони уцелели. Спас их, видать, лес"— в лесу-то зимой сколько теплей, большой заслон от ледяного ветра. Хороших сортов яблони, и сейчас вон яблоки на них висят. Немного, правда, яблок и высоко они — неудачное выдалось лето, солнца-то, считай, совсем почти и не было. Надо бы насшибать палкой — парню сейчас это тоже полезно.
Шесть дней прошло с того дня, как парень очнулся, и теперь он уже начал понемногу вставать — на кровати сидел, по избе старался хоть маленько пройтись, во двор выходил по нужде. Андрей Арефьевич остерегал его от этого — боялся, как бы снова не застудился. Слабый же пока, заметно даже — ноги дрожат. Уговаривал ходить в ведро, которое стояло в сенцах, но тот не послушался. Стесняется, значит, есть в душе, имеется кое-что, слава Богу. Хорошо, хоть удалось уговорить его накидывать на плечи полушубок. Несговорчивый — большого, видать, упрямства мужик.
Душу в нем чувствовал Андрей Арефьевич еще и по Ваську. Васек равнодушных да злых определяет моментально — не только погладить не дается, но даже и близко к себе такого не подпустит. А если уж пристают слишком настырно, то и зарычит, оскалится. Может и цапнуть. А этого принял враз, без всяких-яких своим почел. Приходит Андрей Арефьевич однажды со двора, а Васек в избе — стоит на задних лапах, передние положил на край кровати.
И парень гладит его.
— А ну-ка знай свое место! —беззлобно ругнул собаку старик. — йшь, куда он пробрался, приспособился...
— Да не ругайся ты на него, — заступился парень. — Человек, видишь, проведать пришел.
— Человек, говоришь? — глянул испытующе Андрей Арефье¬вич.
— А чего? Собака даже лучше человека.
—Зря ты так. И люди, и собаки бывают разные. Тоже... кто и как воспитает, какой даст настрой. Но... добро и зло-то, пожалуй, чувствуют получше нас — тут оно, конечно...
На это парень не ответил ничего. Он вообще молчал в основном — лежал и думал о чем-то, неотрывно глядя в потолок. "Пускай подумает, — рассуждал мысленно Андрей Арефьевич. — Ему сейчас надо крепко подумать". Лишь изредка больной задавал вопросы — интересовался хозяйством, про Ленку расспросил. Старик рассказал, как убили Ленкину мать браконьеры, как нашел олененка под кустом рядом с кордоном, маленького, ослабшего от голода вконец, как принес домой и выкармливал тут вот, на кухне.
— У нее человек мать убил, — сказал Андрей Арефьевич, — а она, вишь, подалась опять же к человеку — пришла к кордону. Малютка, а тоже... чуяла, значит, где могут помочь.
— Ты, я гляжу, всех выкармливаешь... — усмехнулся непонятно парень.
— Ну... — смутился от этой его усмешки старик, — кого ж — всех-то? Ленку только да Рыжка.
— И меня вот тоже.
— Дак ведь .... грех — не помочь-то.
— А олени — откуда они здесь взялись? Вроде бы на севере олени-то, еще там где-то, а здесь... Сроду и не знал, что здесь тоже есть.
—. Э-э, брат, раньше обо всем заботились. Оленей да кабанов завезли сюда лет эдак. Ну да, лет через пять-семь после войны их запустили. Горя было тогда — ложками его хлебали, горюшко-то, а о животине все ж заботу имели. Так-то.оно. А нынче... Только бы угробить, последнее со свету сжитьу
— Хм... — опять криво усмехнулся парень.
Так и не понял Андрей Арефьевич, как отнесся тот к истории с Ленкой. Старик даже чувствовал некоторую досаду в душе оттого, что не понимает его толком. Назвался чужим именем, столько уж дней прошло, а ничего о себе, ни полслова. От досады Андрей Арефьевич и дверью иногда хлопал излишне резко, и на стол ставил что-нибудь с ненужным стуком. И отвечал порой парню неспокойно, с обидой будто бы, Андреем старался не называть, если уж только по необходимости. Но потом вдруг заметил за собой этот гонор и устыдился, ускорил себя: "Боже ты мой, да разве ж так можно? Он беглый, больной, опасается пока, не знает, как быть. Лежит вон — все мыслит и мыслит... А ты — гляди-ка, расквасился-разобиделся. Подумает еще, что надоел тебе, что выживаешь его. Эх, обидчивый ты стал, Афефьич, эх, старый ты, непутевый старик..." И больше уже не давал места в душе никакому раздражению.
Спросил парень внезапно о том, откуда продукты, хлеб.
— Дык... — быстро нашелся Андрей Арефьевич, — хожу раз в неделю на шоссейку. А там... Лешка Хлудяков, шофер из нашей деревни, мне все подвозит... Время у нас с ним договорено. И пенсию за меня получает, и покупает, и подвозит. Ага, так-то оно, добрый мужик.
И даже сам себе удивился — как складно удалось соврать.
— Скоро опять пойдешь?
— Ну... пока все у нас есть.
— А пойдешь — небось, не утерпишь, заложишь меня этому доброму?
— Тьфу ты, зараза! — в сердцах стукнул по столу ладонями старик. — Прости, Господи. Я ведь уж говорил: хотел бы — давно бы тебя тут не было. Давно бы лечили в другом месте.
— Ну ладно, ладно, дед. Не обижайся, не духарись.
— А ты вот что — больше так со мной не шуткуй. Ясно тебе?
— Ясно,дед, ясно.
Однако все сильнее сковывали старику сердце тревога — нет, не выдержит Варя девять дней, вот-вот нагрянет. Наверняка места там себе не находит. Придет опять неожиданно — и что тогда пол¬учится? Опасается парень крепко, рисковый, видать, до предела. Оружие постоянно у него под рукой. А у Вари язычок похлеще любого кнутика... Господи, не вышло бы какой беды. Или уж лучше рассказать ему, что она была тут, видела его? Да нет, нельзя — подхватится и уйдет, не иначе. И ткнется где-либо снова — ночи холодные, повторного воспаления ему не выдержать. Да оно и это-то в нем еще окончательно не улеглось. От безысхода может наделать кому-нибудь большого зла — душа-то у него сейчас в растрепе, устояться не успела. Время нужно. Эх, забота ты, забота, как же тут понадежней придумать-то?
Но ничего пока не придумывалось.
Сегодня Андрей Арефьевич решил истопить баньку — пропарить больного покрепче, повыгнать из него хворь еще и таким способом. Да и самому тоже пора помыться.
Банька была совсем маленькая, низкая, умещалась в ней одна лишь скамейка, на которой, правда, париться лежа можно вполне свободно. Старик, не спеша, с отдышком, наносил на коромысле воды. Зачерпывал из озерка по полведра — только так теперь было ему под силу. Наполнил и печной котел, и чан в углу, снял с жердочки в предбаннике сухой майский веник.
Парень, когда узнал, что топится баня, — обрадовался.
— Ух ты, дед... Баня, значит, есть. Хорошо... А то, честное слово... Провонял я сверху донизу, аж самому противно.
При виде этой первой его за все время радости поднялось настроение и у Андрея Арефьевича — даже тревога немного улетучилась.
— Ну, раз такое дело, — с нарочитой серьезностью сказал старик, — то давай подымайся, поменяем постельное.
Они сменили постельное белье, потом Андрей Арефьевич, покопавшись в шкафу, достал свои чистые нательную рубаху, трусы и протянул парню, который сидел на кровати, накинув на плечи полушубок.
— На-ка вот, наденешь после бани. Рубаха, конечно, будет маловата. Если треснет где от тесноты — не придавай внимания, Бог с нею. А трусы просторные, эти подойдут как раз.
— Спасибо, дед, — благодарно и даже стеснительно как-то опять улыбнулся тот. — Большое тебе спасибо.
— А чего сидишь с голыми ногами? Надевай давай эту свою... спецовку-то. И ложись пока сверху, на одеяло, полушубком накройся. А баня — она счас, теперь уж она скоро...
Два дня назад Андрей Арефьевич выстирал, как умел, заляпанную грязью черную робу парня, и теперь тот послушно облачился в нее, лег.
Мала была банька, но зато быстро набирала жар и хорошо держала его. Не раз Андрей Арефьевич поблагодарил друга своего, ныне покойного, Трофимыча Буланова — удачную, крепкую сложил тот печку, до сей поры выдает она парок наипервейшего сорта. Удостоверившись, что можно начинать, и запарив веник, старик вернулся в избу и сказал:
— Ну, пошли с Богом. Готова.
Автомат парень взял с собой, прихватил и подсумок с магазинами. От этого настроение у Андрея Арефьевича слегка подпортилось. Хотелось сказать что-либо едкое, однако он нашел в себе силы, чтобы промолчать. Пока тот раздевался в предбаннике, старик вошел в баню и, открыв поддавало, плеснул туда, на голыши, из ковшика — раз, другой. И отпрянул к двери — резким, сухим был моментально заполнивший маленькое помещение невидимый пар. Шагнув в предбанник, старик поплотнее захлопнул за собою дверь, выждал минуты две и легонько шлепнул, парня по голой мускулистой спине:
— Давай-ка, брат, суйся туда.
— А как там, чего...
— Ничего. Ложись на .скамейку и лежи, спокойно грейся. Кожа откроется, пот сплошняком пойдет — тогда крикнешь, я тебя попарю. Эх, уж я тебя обработаю...
Тот взял автомат, подсумок и, пригнувшись, нырнул в пекло.
— Смотри, пальбу там не устрой, — не утерпел-таки, бросил ему вслед старик. — А,то жар-то в голову ударит, и начнешь отстреливаться.
Ждать пришлось недолго.
— Дед... — послышалось из бани. — Я тут коньки отброшу. Скорей...
Андрей Арефьевич сбросил с плеч телогрейку, снял кальсоны и, выдернув из шайки веник, поспешил к парню. Тот лежал на животе, свесив со скамейки голову. Крупное поджарое тело его блестело от пота, прогрелся вроде, но старик все же остался недоволен.
— Мало полежал, — сказал он. — Ты чего — иль пару боишься?
— Да где, когда я его видал? Ух, сдохну к чертям, колеса в голове крутятся... Откуда я знал... что здесь... такая душегубка?
— Тогда не болтай, дыши потихоньку носом. Эх, ты! Пару настоящего он боится. А еще ходит с автоматом...
— Ой, не могу... Отброшу я коньки.
— Не трепись, говорю. От пару еще никто не помер. А такому, как ты, полдня можно париться.
Он плеснул в поддавало еще немного и приступил — для начала прошелся веником по телу парня легонько.
— У-у-у... — закрыв голову руками, глухо простонал тот. — У-гы-гы, гы-гы...
Парил старик больного минут десять — то потише, словно оглаживая, то хлестал по-настоящему, заставляя переворачиваться. Парень стонал сквозь зубы, но подчинялся. А потом постепенно затих, притерпелся будто бы. Андрей Арефьевич, черпая ковшиком из ведра чуть теплую воду, стал поливать его улепленное березовыми листьями, распаренное тело, полил и на голову.
— Ух, хорошо... — опять подал тот голос.
— Ну, вставай, Аника-воин. Ступай, маленько охолони.
У "тезки" подгибались ноги — он с трудом выбрался в предбанник. Старик закрыл поддавало, ополоснул из ведра скамейку и вышел тоже, оставив распахнутой дверь. Заставил парня накинуть на плечи полушубок, сам прикрылся телогрейкой.
— Во как, — тяжело дыша, усмехнулся Андрей Арефьевич. — Даже и про "пукалку" свою забыл. — Он взял автомат, который стоял в бане у дверного косяка, подсумок и бесцеремонно опустил их, почти бросил, на пол. — Каждый день парить тебя — может, и совсем забудешь.
Тот промолчал.
В предбаннике было свежевато, но они не ощущали этой свежести — сидели рядом на скамейке, не произнося больше ни слова, и старались отдышаться, все более проникаясь приятной слабостью. У старика сильно колотилось сердце, и он решил: "Ничего, помоюсь с открытой дверью".
— А хорошо, дед Андрей, — подняв голову и сияя глазами, сказал парень безголосо от слабости. — Ей Богу, хорошо.
— Неужто плохо. Даже вон Бога вспомнил.
Посидели еще немного, и Андрей Арефьевич приказал:
— Ладно, хватит. Пошли, помою тебя.
— Опять мыться?!
— А как же? С мыльцем-то надо, как следует.
— Тогда... сам я как-нибудь...
— Да где уж тебе. Иди ложись опять на скамейку, я быстрей справлюсь.
В бане стало попрохладней, и, закрыв дверь, старик намыливал, тер парня от души настоящей лыковой мочалкой, смывал и опять намыливал.
Когда тот оделся, сидеть ему в предбаннике Андрей Арефьевич больше не разрешил — велел идти в избу, и чтобы сразу под одеяло.
— Счас я мигом вымоюсь, и поставим чайку освежающего напьемся — эх, есть у меня травка да корешки...
Парень не прекословил — шумно вздохнув, улыбнулся и, подняв автомат, подсумок, держа их за ремни на весу, медленно поплелся к дому.
А когда старик, изрядно обессиленный, с блаженным ощущением легкости и чистоты, и сам наконец переступил порог избы, его "тезка" спал, подложив ладонь под щеку и сладко посапывая.
"Вот это дело, —: удовлетворенно подумал Андрей Арефьевич. — Хорошее дело". И не стал он ставить никакого чая — тоже лег и быстро потерял себя во сне.
7.
Проснулся старик опять с тревогой: "Господи, Боже ты мой, разоспался, как маленький, а если Варя..." Однако за окном вечерело, и это несколько успокоило — теперь, конечно, она уже не придет. И вслед за тем он вздрогнул, встретив неподвижный пристальный взгляд — парень лежал молча и наблюдал за ним.
— Дед... — сказал он вдруг. — Спросить тебя хочу: а чего ты тут один-то живешь, как волк?
— Волк?! — Андрей Арефьевич .обиделся, у него даже дух перехватило от возмущения. — Волк-то — он зубами щелк. А я разве щелкаю зубами? И живу я здесь не один — со мною вон и Васек, и Рыжок, Анфиса, Ленка.;. И... вокруг все живое, все меня понимает. И я понимаю любую живность. По-волчьему-то — это, брат, у тебя получается. Шатаешься по лесу с огнестрелом — первого встречного норовишь угрохать. Да волк-то, может, получше — он ни с того ни с сего вряд ли на кого оскалится.
— Ну... — смутился парень, — зря ты обижаешься. Я же по-человечески хотел. Хм... — он помолчал немного, отведя взгляд. — Видать, не получается у меня по-человечески-то. Разучился... Сам чувствую, что ляпаю не так.
— А ты давай-ка обучайся по новой. Мы тут с тобой какие-ни¬какие, а все ж таки люди.
— Да я хотел спросить, почему ты здесь... поселился. Живешь в лесу один... Что же — и родных нет никого?
— Родных... Кровных-то, считай, и нету. Брат был, Артемий. Остался после войны в Воронеже, а потом помер быстро — сильно его на фронте изранило. Сын Артемия — Гришкой звать — тоже где-то там. Племянник, значит, мой. Но Гришку я только мальцом видал, а счас не знаю, как он, чего... Писал, писал им в Воронеж — ни ответа, ни привета. Может, Клавдя, жена Артемия, новую семью завела. Однова решился было съездить, разузнать, что к чему, а потом раздумал — зачем надоедать, если люди не хотят знаться. А тут почему живу... Это, брат, быстро не расскажешь. Но, если хошь...
— Расскажи.
— Ну, тогда... А знаешь, чего? Давай-ка сначала поставим чайку, освежим нутро.
— Хорошо бы. А то во рту пересохло.
— После бани оно так-то. Счас мы в момент, счас мы...
Старик готовил чай из полезных кореньев и трав и думал, торжествуя внутренне: "Слава тебе, Господи, пошел мужик в разговор. Значит, отпускает у него потихоньку, разжимаются клещи. Во-от оно как, парок-то банный — не только тело, но и душу размягчает".
Чай получился ароматный и действительно освежал приятно все внутри. Парень сидел в постели, положив под спину подушку, и жадно пил его из кружки маленькими глотками. Андрей Арефьевич пододвинул табуретку поближе к кровати, уселся и, держа кружку обеими руками, словно'грея их, темные и узловатые, похожие на корневища, тоже некоторое время отхлебывал молча. Он смотрел мимо парня в стену, и взгляд его выцветших глаз был таким, словно старик видел сквозь нее что-то далекое.
— Ну, значит... — заговорил наконец Андрей Арефьевич.
— Давай, дед Андрей, не волынь.
— Что ж, коль такое дело...
И начал старик вспоминать-рассказывать.
... Войну ему выпало пройти от начала и до конца. И досталось на полную катушку — чего только не навидался. В окопах гнил, среди болот, замерзал, помирал с голоду в окружении, ранен был не раз, контужен. А все-таки уцелел. Возвращался домой радостный, словно на крыльях летел — уж больно хорошо оно, уцелеть-то в такой страшной невозможной мясорубке. Дожали, раздолбили немца, и теперь — казалось — пойдет жизнь настоящим добрым чередом. Работай себе всласть, детьми обзаводись, которыми обзавестись до войны с Настасьей так и не успели.
Летел, летел, шуровал крыльями вовсю, а прилетел-то не на радость, а на поминки по Настасье — на сорок уж дней. Неожиданная и обидная получилась беда — вершили на сенокосе стог, Настасья принимала наверху, а когда закончили, съехала оттуда и угодила прямо на вилы. Поставил их какой-то малец к стогу не по-людски — не в землю остриями, а наоборот. Два дня мучилась Настасья и одно только повторяла: "Андрюшу бы увидеть, Андрю-шу..."
Так-то вот оно вышло. А через полгода умерла мать. И остался он один — отца-то еще в тридцатых похоронили. Чернота в душе, глушь, а жить все-таки надо. Приходило на ум руки на себя наложить, но отвел Господь — другая появилась мысль: коль уж на. фронте уцелел, где смерть косила жуткой своей косой сплошь и рядом, вдоль и поперек, то, значит, зачем-то ты нужен жизни.
И жил — старался давить горе работой. В колхозе упирался с утра до ночи, справлялся со всем, что ни прикажут, и дом обустраивал-подновлял потихоньку, вставая чуть свет. В вино не ударился, попробовал раз-другой напиться с мужиками и сразу как-то заметил, что вино не помогает, а, наоборот, сгущает на сердце беду.
Бабы свободные, конечно, в деревне имелись — у многих поубивало мужей на фронтах. И ровесницы были, и помоложе, хошь тебе с детьми, а хошь — без детей. Некоторые из них поглядывали на Андрея Арефьевича с надеждой: работящий, трезвый и с домом к тому же. Не вековать же ему век в одиночку, переживет свое горе да какую-нибудь и выберет. Иные не теряли время попусту — понимая, что под лежачий камень вода не течет, упорно старались понравиться, даже, можно сказать, навязывались. Но после Настасьи сердце у него не лежало ни к одной — казалось, что такой родной, как Настасья, никакая из этих женщин быть ему не может. А коль не может, то зачем тогда с нею жить — с чужим-то человеком? Говорят: стерпится — слюбится. А если не стерпится и не слюбится? Нет, не годится этак.
Но судьба решила по-своему. Так она решила, что не раз он потом думал, вконец обессилев душой: уж лучше бы женился на. любой из этих деревенских.
Забрели как-то в деревню женщина с мальчонкой, — ходили по домам, собирали, кто что подаст. В те годы таких много ходило. Постучались и к Андрею Арефьевичу. Он только-только умылся, переоделся после работы и садился ужинать.
— Помогите, чем можете, Христа ради, — устало сказала женщина. — Погорельцы мы. Сгорело все дотла, сами-то еле успели выскочить. И кормилец... погиб на фронте. Чем можете... Бога буду молить о вас.
Была она чернявая, худая, одета плохо. Темные большие глаза смотрели умоляюще, и в то же время ощущалось в них что-то непонятное Андрею Арефьевичу — проникающее в душу и как-то смутно ее тревожащее. Мальчонка, смуглый в мать, замер, прижавшись к ее ноге, и не отрывал взгляда от стола, где лежал крупно нарезанный хлеб, дымилась в сковороде картошка.
Андрей Арефьевич молча достал из комода двадцать пять рублей и протянул женщине. Себе оставил пятерку. Почему-то до сей поры это помнится. Может, потому, что было тогда с деньгами очень туго, в колхозе их не платили. Она приняла четвертной удивленно и стала молиться на иконы за здоровье и благополучие хозяина. Поблагодарила, собралась уходить, но мальчик, вцепившись в ее ветхое платье, не двигался с места — продолжал смотреть, как завороженный, на сковородку с картошкой.
— Он есть хочет, — сказал Андрей Арефьевич. И смутился: — Чего ж это я? Даже не предложил... Проходите-ка давайте, садитесь за стол. Поужинаем вместе.
— Да неудобно, — тоже смущаясь, попыталась отказаться женщина. — С какой мы стати...
Но он, однако, настоял на своем.
Мальчик ел с жадностью, а женщина жевала нехотя — видно было, что переутомилась и душою, и телом, нуждается не столько в еде, сколько в отдыхе. Странное у нее оказалось имя — Верония. А мальчика звали Федькой.
Насытившись, Федька стал задремывать за столом, даже ударился лбом о край столешницы.
— Не спи, сынок, — принялась тормошить его Верония. — Нельзя нам сейчас спать, идти надо.
— Куда ж вы пойдете — темнеет уж вон, — кивнул на окно Андрей Арефьевич.
— В сельсовете, может... Вчера разрешили нам, ночевали мы там в сенях.
— Да нечего никуда ходить. Оставайтесь. Я сейчас постелю.
— А родные ваши... — глянула на него женщина своим темным непонятным взглядом. — Придут, увидят чужих — будут недовольны...
•— Не придет никто. Я один живу.'
— Ну... если можно... Дай вам Бог здоровья, спаси и сохрани. вас Господи.
Постель, несмотря на протесты Веронии, он приготовил им в передней, а сам решил лечь на печке. Верония уложила Федьку и вернувшись на кухню, опять скованно присела на краешек табуретки, некоторое время молча смотрела в темное окно.
— Ходим, ходим...— наконец заговорила она отрешенно, будто бы сама с собою. — Сил уж никаких нету. Разве набрать нам. Мелочь по мелочи — это сколько ж надо ходить? Хоть бы на маленькую избушку... Нет, не набрать. Два месяца всего бедуем, а уж впору в могилу залечь живьем!
Он спросил, откуда они пришли, и Верония назвала какое-то село в соседней области.
— А вы что ж, — спросила она в свою очередь, — и вправду совсем один живете?
— Один.
— Это как же так получилось?
Андрей Арефьевич рассказал. Горе источило, изъело его душу и, рассказывая о нем Веронии, он вдруг почувствовал облегчение.
Утром по привычке поднялся пораньше, и Верония, услышав, как он собирается на дело, тоже быстро встала, принялась будить Федьку. Андрею Арефьевичу грустно сделалось оттого, что вот сейчас они уйдут и опять будет в доме пусто.
— Да, куда вы в такую рань? — сказал он. — Отдыхайте, сколько захочется. И надумаете уходить — там, на воротах, крючок есть, накинешь, и вся недолга.
Когда забежал в обед перехватить чего-нибудь, крючок был не накинут. И дрогнуло в груди радостно: "Не ушли еще". Во дворе, на веревке, протянутой с угла на угол, висело его выстиранное белье, рабочие штаны и гимнастерка — все, что накопилось для стирки за последнее время. Ступил в избу, и обдало чистотой: полы вымыты-выскоблены добела, стол и скамейки — тоже, посуда перемыта и определена к месту. И щами свежими пахнет — слюнки потекли. Верония от его неожиданного прихода растерялась, застыла посреди кухни, теребя платье на груди, и от внезапно нахлынувшей краски смуглое лицо ее казалось совсем темным.
— Мы тут... — пыталась она подобрать слова. — Расхозяйничалась я... Наверно, нехорошо — без спросу-то... Думаю... чем еще отблагодарить доброго человека? Живет один, постирать, прибраться по-настоящему — не доходят руки... Вот и решила... Мы сейчас пойдем.
— Та-ак... — На Андрея Арефьевича нашло веселое настроение. — Пойдем, значит... А насчет обеда как же? Чую — щами тут вкусными пахнет.
— Тоже... сварю, думаю, — придет человеку работы и похлебает свеженьких. Нашла тут, за печкой, капусту, картошку. Готовы, можно есть.
— Ну и давайте обедать. А то некогда мне.
— Я тоже хочу щей, — сказал Федька.
— Вот и давайте живей.
За обедом Андрей Арефьевич продолжал подшучивать весело, а Верония молчала, лишь изредка улыбалась из вежливости. Федька, уминая за обе щеки, настороженно поглядывал на хозяина дома. Замкнутый был мальчонка, смотрел как-то по-взрослому сурово, недоверчиво. Намытарился, видать, за долгие дни горемычных хождений по дворам, душонка его детская отвыкла от радостей, застыла.
Когда пообедали, Верония, молча по-прежнему, стала мыть посуду, а Андрей Арефьевич потоптался у порога в нерешительности и сказал:
— Вы это... Столько времени ходить — ноги отсохнуть могут. Отдыхайте-ка давайте по-настоящему. Отдохнете — а уж там... глядите, как вам лучше.
Они остались. Остались и на другой день, и на следующий. И незаметно как-то, случайно вроде бы, произошло у Андрея Арефьевича с Веронией то, что вполне может произойти в такой ситуации между мужчиной и женщиной.
8
Стали жить. Однако не ощущал он рядом с Веронией того тепла, каким прежде повевало на него от Настасьи, и догадывался со смутной тоскою в душе, что не ощутит такого уже никогда. Была Верония старше его на четыре года, и во всех действиях ее тоже начало со временем проявляться нечто вроде старшинства — этакое молчаливое выражение: дескать, рада бы, да не могу я тебя полностью принимать всерьез, поскольку не знаешь ты еще, не постиг того, что мне хорошо знамо, и вряд ли когда постигнешь.
Начал было называть ее Верой, но она посмотрела недоуменно и отрезала:
— Дак Веронией меня зовут-то.
— Ну... Вера — так оно вроде поудобней.
— Это совсем другое имя, а меня зовут Веронией.
Ничего не поделаешь, пришлось исправлять свою ошибку. И постепенно притерпелся он к холодку, которым, как ему казалось, веяло от ее мудреного строгого имени.
Прожили с год, а почему-то все не получалось у них настоящего родственного смыкания, и Андрей Арефьевич думал, что, наверно, это от незаконности совместной жизни. "Да, конечно, — размышлял он, — обидно, видать, Веронии — и жена вроде бы, и в то же время ни Богу свечка, ни черту кочерга. Негоже эдак, грешно". И предложил: давай-ка, мол, узаконим надлежащим образом. Жить — так жить по-людски. Верония на это усмехнулась как-то непонятно и ничего больше, ни слова.
Расписались в сельсовете, однако лучше не стало. Наоборот, она будто бы еще больше натянула все в себе против него — гляди-ка, дескать, добрый какой, сделал одолжение. Андрей Арефьевич недоумевал: в чем дело-то, за что?
А тут еще отношения с деревенскими никак у Веронии не ладились. Не приняли ее бабы — чужая, и баста. Заело их — явилась откуда-то черномазая, гола, как дочка сокола, нищенка, можно сказать, и захомутала мужика, на которого и без нее имелись в деревне виды, перебила, подлая, чужое счастье. Веронии бы повести себя со смирением, доказать добрым словом да делом, что не хуже других и достойна уважения, ан нет — на дыбках взялась ходить, начала резать поперек. Ничего путного не скажет никому, ни с кем толком не поздоровается, однажды даже курицу соседки — ну палкой повредила. И пошла уже вражда, стали Веронию все ненавидеть.
Пробовал Андрей Арефьевич внушить ей: нельзя же, мол, этак, надо как-то по-хорошему. Но внушения эти лишь раздражали ее еще пуще, и она быстрым темпом приучилась срывать зло на нем. Зло у нее было едкое, острое. Такими шпынялась словами — аж до самого нутра доставало, словно шильями колола. И с каждым разом все глубже, все острей. Попытался он и тут вразумить ее — не выдержал да, вгорячах, схватив за шкирку, так загнул книзу, что Верония бухнулась на колени и стукнулась лбом об пол. А когда выпрямилась, встала, то от ее темного взгляда аж застыло у него внутри.
— Еще раз тронешь, — сказала, — я тебе глотку перегрызу. И он поверил — перегрызет. А Федька тем временем схватил молоток, да и шарахнул со всего маху Андрея Арефьевича по бедру, прямо по костяшке. У того туманом в голове застлало — так было больно. Растерялся Андрей Арефьевич: откуда столько зла, почему, за что? Никогда в жизни он рядом с собою подобного не видел. На фронте-то видал всякое — однажды во время атаки даже саперными лопатками в немецких окопах зверски дрались, и немец ему плечо до кости прокусил, но ведь то были враги, война была. А тут? Ничего ведь, кроме доброго, не сделал. Неужто же за это самое доброе? Да может ли так быть на белом свете?
И как же теперь жить? Поучить Веронию всерьез, прописать ей крепеньких-горяченьких разок и другой, пока не образумится? Эх, нет, не выйдет из этого ничего хорошего, наоборот, к худому приведет. Она на все готова — испытал уже. Да ведь и неправое дело-то — лупцевать бабу, нету у него, Андрея Арефьевича, такой закваски. Наладить их из дома — пускай себе дальше с миром идут? Тоже позорно, не по-человечески получается. Пожалел, обжились вроде, и вдруг взять да и выгнать. А и не вправе уже выгонять-то — Верония законная жена, ей теперь доля полагается. Делиться будет. Бу-удет, с нее станется. И начнет зубоскалить вся деревня — вот как. тебя, милого, умыли... Да и разделишься-то если — какая жизнь под одной крышей?
А в деревне и без того уже посмеивались недобро. Так-то, дескать, — свои бабы плохи тебе были, нос от них воротил, вот и хлебай-расхлебывай. Она, чернуха-то твоя, еще не одну веревочку из тебя, дурака, совьет.
Раньше имелся у Андрея Арефьевича надежный авторитет — уважали его за добросовестную работу, за смекалку, шли к нему за советом. А теперь будто и не замечали за ним ничего хорошего, все со смешком да с издевочкой. Даже детишки, и те смеялись, кричали вслед: "Эй, Головешкин!" Головешка — это так Веронию в деревне "окрестили".
Словно бы скатился Андрей Арефьевич для сельчан до низкого какого-то сорта, и везде окружало его, отгораживало, точно частоколом, ,от нормальной душевной, жизни неприкрытое злорадство. А ведь не изменился он ничуть, оставался таким же, как и раньше. Сочувствовали двое-трое стариков: не принимай, мол, к сердцу, собака лает — ветер носит. Но утешало это мало, и больно было Андрею Арефьевичу оттого, что ему, не сделавшему никому ни капли плохого, установили такую низкую цену. Чем же я теперь этаким отличиться должен — продолжал мучиться он, — чтобы вернуть себе цену настоящую, чтоб занимать свое истинное место, а не то, куда оттерли, где стоишь, будто бы с краешку, будто бы на одной ноге? Может, и Веронию, и Федьку отдубасить до полусмерти, а потом еще гнать пинками до околицы? Может, тогда для вас для всех поднимусь в цене? Но, дорогие вы мои, сам-то я для себя в таком случае гроша ломаного не буду стоить, вот ведь оно что.
"Ну, ничего, — старался он настроиться на улучшение в будущем, — вот пойдут у нас с Веронией детишки, и, глядишь, все изменится. Может, и ко мне она помягчает, и к деревне притрется, И у деревенских со временем-то должен поиссякнуть ядок, не век же им жевать-мусолить меня". Однако дети не рождались никак — был у Веронии выкидыш и больше не получалось ничего. С деревней она по-прежнему не ладила, зло свое срывала на Андрее Арефьевиче еще яростней, и не выходило ему ни малейшего послабления ни с той, ни с другой стороны. Землячки коль уж взялись держать Андрея Арефьевича Ловелина в Головешкиных, то и не сходили со своей линии — подъедали да подъедали потихоньку, будто не на Веронии он женился, а обокрал кого-нибудь...
— Да почему они взъелись-то? — не выдержав, прервал Андрея Арефьевича его ложный тезка. — Ты же в самом деле... Пожалел эту с ее сынком, поступил по-человечески. А деревня... Что же у вас там за люди, чего им было надо-то?
— Такая уж деревня, — вздохнул с грустью старик. — Ни плохого не прощают, ни хорошего.
— Я бы эту деревню... И бабу эту твою...
— Ты бы уж — да-а... Ты бы со своим автоматом... Ладно, дай досказать,.немного осталось.
... Хотелось Андрею Арефьевичу — коль уж не дал Бог своих детей — воспитать доброго парня из Федьки, ан не получилось и тут. Не поддавался ему Федька, во всем брал пример с матери, во всем был заодно с нею. А ей нравилось — вот так-то, мол, оно, мы это мы, никому не поддадимся. Парень чувствовал ее торжество и старался вовсю. Отцом Андрея Арефьевича не звал, с какой-то стати приучился называть Андрюхой. Сначала за глаза, а потом уж и в лицо. Навесил было Андрей Арефьевич ему подзатыльник за такую непочтительность, но Верония сразу же налетела коршуном... Ишь, дескать, выискался ловкач — легко тебе неродного обижать. Пришлось отступиться — что ж тут поделаешь? Если уж нет поддержки от Веронии, то люди и в самом деле могут подумать, что он беспричинно обижает пасынка. Пакостил Федька кругом — инструмент портил, без умысла, правда, дыры в заборе проламывал, никакого удержу в своих проделках не знал. И дома, и в школе. И с ребятами дружить не умел путем — постоянно или он дразнил и бил кого-то, или его дразнили и били.
Удивлялся Андрей Арефьевич безмерно: экая же у Веронии с сыном супротивная, способная ко злу кровь — обязательно надо им восставать против людей, поднимать в них возмущение, а иначе уж вроде и,жить нельзя. Будто бы специально заслали их откуда-то, чтобы досаждать и баламутить, и Андрей Арефьевич думал иной раз с горькой усмешкой: "Да уж не сам ли дьявол с подручным дьяволенком явились ко мне в обликах Веронии и Федьки, чтобы попробовать на прочность святое и доброе в моей душе, попытать мое человеческое терпение? Но почему именно ко мне-то, неужто мало довелось мне претерпеть на белом свете?"
Ползали по деревне слухи, будто нигде ничего у Веронии не сгорело и сроду у нее ни кола, ни двора не было, а попросту ходила она и обманывала людей. Будто кто-то там где-то знает, говорил, что Верония из цыган или еще какой-то неведомой темной национальности. Но Андрей Арефьевич на веру этого не брал и справок нигде не наводил — считал зазорным для себя.
Самое удивительное в Веронии было то, что она сильно верила в Бога, регулярно посещала церковь. И божественные праздники стали для Андрея Арефьевича днями душевной передышки, даже отдыха. Придя из церкви, Верония не ругалась, не злилась и Федьке распоясываться не давала. Разговаривала с Андреем Арефьевичем по-доброму, а то и вовсе ласково, и он думал: "Вот бы жить так всегда..."
Но праздник проходил, и все начиналось сначала.
Андрея Арефьевича Верония называла безбожником и не уставала повторять, что если бы ходил в храм Божий, молился, как подобает, то, глядишь, еще и стал бы похож на человека. "Ой, не дай мне Бог стать человеком, похожим на тебя", — усмехался он внутренне. Сносил терпеливо эти ее нотации, слушал молча, а потом подумал: может, и вправду сходить в церковь? И решился — отправился туда вместе с нею, имея простой расчет: Верония успокоится и, возможно, не только в праздники, но и в будни начнет относиться к нему по-доброму.
Ему понравилось в церкви — там хорошо было душе. Андрей Арефьевич с удовольствием отстоял службу и во второй раз, пошел и в третий, а вскоре уж и полностью привык — прямо таки тянуло в церковь. Верония не сделалась добрее в будни, но зато появилась у него хорошая светлая отдушина. Легче стало жить, несмотря на то, что в деревне теперь принялись шпилить еще и насчет приобщения к Богу.
Он словно бы отыскал для сердца новый какой-то смысл, пока еще не понимая — какой, но однажды вдруг открылось, все стало ясно.
Случилось это, когда Федька столкнул его с крыльца. Годы-то не ползли, а катились, парень крепчал не по дням, а по часам, и уже мало ему было огрызаться, стали чесаться руки. Как-то Андрей Арефьевич выговаривал пакостнику в сердцах за очередную проделку, а тот молчал, молчал, ухмыляясь нагло, да внезапно и толкнул в грудь. Упал Андрей Арефьевич удачно — ничего себе не повредил, не ушибся даже ничуть, но валом поднялась у него в груди такая кромешная буря, что если бы Федька тут же не дал стрекача, почуяв страшное, то не миновать бы беды. А поспеши на защиту сыночка Верония — и ей бы не сдобровать. Андрей Арефьевич в тот момент самого себя испугался.
Буря в нем, однако, улеглась так же быстро, как и возникла. Он спустился на ступеньку крыльца, посидел немного в глухом отрешенном состоянии и решил неожиданно: надо уйти. Обязательно надо уйти, самое время. Куда уйти, Андрей Арефьевич пока не знал, но желание это завладело им со всей силой, и стало ему легко, свободно.
А вскоре и решилось. Умер на девятом кордоне лесник Ковель-цов, и Андрей Арефьевич попросился на его место. Взяли. Верония, когда узнала, что он уходит, то даже позеленела вся. Целый день она молчала, а к вечеру заплакала вдруг и проревела, корябая ногтями по столу:
— Накажет Бог тебя, нечестивца, вот увидишь — нака-а-жет...
— За что? — удивился он. — Оставляю вам все, живите с миром.
— Его полюбили как человека... — неожиданно брякнула Верония. — За него душою страдали, а он...
— Господи, Боже мой... — опешил Андрей Арефьевич. — Да от такой любви... бедою и смертью пахнет.
Так и не понял он до сей поры, действительно Верония любила его какой-то странной своей, уродской любовью или несла ахинею со злости; в мозгу у нее помутилось оттого, что теперь уж нельзя будет достать.
Парень слушал и удивленно качал головой.
— Ну ты, дед, даешь... — сказал он. — Значит, так и ушел, оставил им все?
— Так и ушел. А чего мне надо-то? Взял самое необходимое, а потом нажил потихоньку остальное. Сам видишь — никакой у меня нужды нет.
— А деревенские — как они-то отнеслись к этому?
— У-у, брат... До конца засудили, совсем уж перестали за человека считать. Словно преступление я совершил великое. Когда узнали, что ухожу, стали беседы со мной проводить, щунять принялись. В уме ты, дескать, курья твоя голова, или нет, разве можно совершать этакую дурость. Ну, я им свое: куда, мол, душа лежит, туда и подаюсь, чем же это плохо, кому навредил? И отрезали они меня начисто, даже гадить начали, будто мстили.
— Где гадить-то? Ты же ушел от них.
— А тут вот, в моем обходе. Лес, дрова приладились воровать. Другой обход ближе, но туда, бывало, не лезут. А здесь свалят лесину со стойка — вершину длинную оставят, сучья пораскидают по-свински. Уговаривал: дескать, зачем же нахрапом-то, попроси — я укажу, где можно взять погибшее на корню дерево, чтоб и начальство не завело ругани, и лесу не убыток, а помощь. Поймаешь с поличным, а он стоит и лыбится нахально: ну-ка, мол, поглядим, что ты со мною сделаешь. Знали, чуяли почему-то, что не буду составлять акт, отпущу с миром.
— И отпускал?
— Отпускал. ,
— Что ж ты так?
— Ну... свои же все-таки люди.
— Эх, дед ты, дед. На шею ведь сели. .
— Это да, хотели сесть и ножки свесить. Токо не вышло.
— Чем же ты их отвадил? Что-то и не верится.
— Отвадил вот. Однова поднялось во мне опять то самое... наподобие бури. Припутал я Гришку Калабухина — свалил он, зараза, на самом виду три золотых сосны. Золотая — спелая, значит, деловая. Ну и... затмило меня. Схватил топор и не знаю уж, как не зарубил его. Чудом удержался, да и то, видать, потому, что Гришка вовремя на колени пал и взмолился. Своевременно почуял, чем пахнет. И без отложки, прямо в этот же день, направляюсь я к
Трофимычу Буланову, к другу своему. Тоже лесник, печку-то в бане он мне клал. Выручай, говорю, Трофимыч. Подежурь в моем обходе месяцок, а то беда может выйти, нарушу кого-либо из своих — чую в себе опасность. Сделай милость, а я в это время за твоими кварталами догляжу. "А соблюдешь в моих-то?" — спрашивает. Он меня легко понимал. "В твоих-то, — отвечаю, — спокойно соблюду". "Ну тогда давай, я и сам хотел предложить, вижу твои мучения". Сговорились, значит, взял Трофимыч мой обход. И так нажег он их разок да другой, третий да четвертый, такими актами-штрафами попотчевал, что враз отбило охоту, никто уж больше и не сунулся.
— Совсем отстали?
— Ну... совсем-то не совсем. Лес не трогали, зато браконьерили вовсю. Тут лось, кабан, олени. Особенно Лешка Хлудяков— он самый вредный в округе браконьер, его и другие-то браконьеры все боятся. Ох, много живности положил...
— Уж не тот ли, который за тебя пенсию получает, продукты тебе подвозит на шоссе? — спросил парень. — Ты же говорил, что добрый мужик.
— Дак... тут оно, вишь, какое дело... — вспомнив про свое вранье, смешался на миг Андрей Арефьевич. И не преминул отметить про себя, какая цепкая память у парня. — Это раньше он, Лешка-то в моих палестинах безобразил. Ленкину мать-то убили — его, ухаря, работа. А после того — ни-ни. Сумел я отучить, теперь тут крупную живность никто не трогает.
То, что он отвадил Лешку Хлудякова от браконьерства в окрестностях кордона,было правдой.
— Чем же ты его сумел напугать? — усмехнулся парень.
— А через лечение.
— Это как же так?
— Да звали меня изредка в деревню — то к одному, то к другому. Фельдшер у нас там никудышный, пьяница — палец путем забинтовать, и то иногда не в состоянии. В район ехать далеко, да. и в районе врачи нынче тоже... Наплевательские пошли врачи, настоящего чутья на болезни создать в себе не умеют. Ну и, значит... приболеет кто всерьез — тащутся из деревни за мною.
— И ты лечил? Ходил туда лечить их?
— А почему и не ходить-то?
— Так ведь гадили же, жрали они тебя.
— Ну, это совсем другое. Затемнение нашло, Бог с ними. А если человек погибает, как же не помочь?
— Бодает... Этим волчарам в зенки плюнуть —.мало, а он...
— Ты вот. что, — вышел вдруг из равновесия, словно бы взъерошился весь, Андрей Арефьевич. — Брось такие слова. То у него я волк, то опять же волчары... Плюнуть... Тебе, может, тоже кто-нибудь сейчас плюнул бы, а ты, однако, сидишь тут и принимаешь лечение.
— Мне... Я... — растерялся парень. — За тебя обидно-то.
— А мне обидно за тебя.
Гнев Андрея Арефьевича прошел так же скоро, как и возник, ему даже стало не по себе — слишком резко сказал, еще подумает "тезка", что упрекает его за доставленные хлопоты.
— Ты уж... давай-ка, понимай, — заговорил старик примирительно. — Тут, брат, еще разобраться надо. Может, оно и вправду того... есть какая-либо моя вина перед ними... ,
— Я-то ладно... — Парня и в самом деле, видно, задело. — Меня не только плевком, но и пулей рады угостить. А твоя-то в чем же вина?
— В чем-нибудь есть. Без вины на свете только вон деревья да другая живность бессловесная. Ну, досказать про Лешку-то Хлудякова?
— Досказывай. Эх, закурить бы...
— Табаку, брат, нету. Никогда за всю жизнь не курил. Прямо и не знаю, как тут быть.
— Ладно, как-нибудь уж... Рассказывай.
Позвали меня, значит, к нему в деревню. Пошел я. Лежит Лешка, пыхтит, весь исходит жаром. Тоже вот, как ты, еле-еле пекает. И без осмотра понятно — сильно застудил легкие, очень худо. "Плохо, — говорю, — Леха, твое дело. Нашел-таки тебя Господь Бог за лесные смертоубийства-то". "Нашел, — шепчет, — Арефьич, крепко достал. Помоги уж ради всего святого, век буду помнить". "Вот как, — отвечаю. — И о святом деле речь повел. А
не хочется мне помогать тебе, Лексей. Поправлю тебя, а ты опять пойдешь живность бить вокруг моего кордона". Я уж тут решил хитрый взять настрой, — самое время, думаю, вразумить безобразника. "Не пойду, — говорит, — Арефьич, и другим закажу, чтоб за три километра кордон обходили. Меня любой послушается. Ты уж только поправь". "А можно, —спрашиваю, — верить твоему слову-то? Браконьеры — люди все неверные, скользкие. И жалости у них нету никакой — ты вон убил кормящую олениху, оставил сиротой маленькую животину, и пришлось мне ее выхаживать". "Поверь уж, Арефьич, — упрашивает. — Как перед Богом обещаю". "Чего ж, — с язвецой я ему этак, — аль уж настолько жить охота?" "Сильно охота. Чего это я, здоровенный лосище, в могилу-то раньше времени залягу?" "Ну гляди, — стращаю, — помни свое обещание. Болезнь ты себе заслужил такую — чуть подстыл, и опять с ног долой. Так что еще придется ко мне обращаться-то. А пуще всего знай: тебе жить охота, и любой живой твари тоже охота жить. Я вот сейчас, к примеру, повернусь да уйду, а ты Богу душу отдашь, и детишки твои сиротами останутся. Кто их будет кормить, кто правильно воспитает? Беда ведь. И ты, Леха, такие беды творишь в лесу. Попомни, брат, нынче тебе хорошо должно запомниться". "Буду помнить, — обещает, — буду, Арефьич". Ну и повозился я над ним с неделю, поставил на ноги. И выполнил он — с той поры никто больше рядом не шляется, не грохает. Воистину, значит, мне заслуженный отдых, как пенсионное предсмертное время называют. Так-то вот вышло.
— А в других местах охотится он, этот Леха-то?
— В других... продолжает, поганец, грохать — видать, все ж не до конца его проняло.
— И продукты, значит, подвозит?
— Дык... подвозит.
— Хм... — непонятно усмехнулся парень.
С минуту молчали. Четко тикали ходики. Потом парень спросил:
— Ну, а эти твои... Бываешь в деревне-то — видишь, наверно, их?
— Верония-то с Федькой? Да чего ж хорошего — так и живут на особицу, не сумели прильнуть к народу. Это уж натура такая. Верония болеет сильно. Давно болеет. Федька по молодости завербовался куда-то, а потом вернулся еле живой— отдолбили ему все нутро. Любил нарываться, вот и нарвался, видать. Долго отлеживался, в себя приходил. Ни семьи у него, ни достатка, одним вином сыт. Веронии сплошная мука. Несчастье, чего тут еще скажешь. Не удалось мне поломать в них дурь, на добро-то наладить, вот оно и...
— Грызут, небось, друг друга?
— Грызут. Правильно ты угадал.
— А к тебе они как теперь? Наверно, ведь приходится встречаться-то?
— Да как — все так же. Лечу Веронию, а она знай себе колет да шпилит. И грозит без конца: "Накажет тебя Бог, нечестивец ты. Помяни мое слово — накажет..." Я уж привык, смеюсь: дескать, давай, давай, все тебе будет полегче.
— Дак ты и ее лечишь? Ну, дед... Совсем, что ли, гордости у тебя нету?
— Гордость есть. А вот гордыни нету — потому и помогаю. Это вы со своей гордыней-то — скоро уж и автомата вам будет мало, начнете пушку за собой таскать. Ну кто еще ей поможет, Веронии-то? У нее язва желудочная, по весне да по осени в бараний рог бабу гнет.
— Надо же, у язвы язва.
— Опять ты за свое. Горазд судить, прямо сил нет. Ну ладно, хватит. Давно уж пора спать, разболтался я без всякой меры.
Старик, приготовил себе постель, погасил свет, улегся. Но ему не хотелось закрывать глаза, смотрелось и смотрелось в темноту. Парень тоже затих.
— Дед!
Андрей Арефьевич вздрогнул.
— Чего ты все дедкаешь-то? — рассердился он. — Думал, спишь давно.
— Не сплю. Спросить вот хотел: наверно, все ж тяжело тебе тут жить?
— Почему ж это тяжело-то? Не-е, брат, мне тут хорошо. Говорил уж — понимает и признает меня здесь все, и я любого понимаю.
— Кого любого-то? Ни души вокруг, словом перекинуться не с кем.
— Хм, ни души... Это вы кроме себя ни бельмеса не видите. А я... Со мною тут много чего. Бог со мной... Хотя что я тебе о Боге, ты о нем, видать, и не думал сроду.
— Думал. Я Бога люблю.
— От те раз. А говорил — неверующий.
— Это я людям не верю. А Бог... он меня сколько раз выручал...
— Если не веришь людям, то и в Бога настоящей веры у тебя нет. Так, мгла да туман пустой.
Парень долго молчал. Потом заговорил опять:
— А лечишь ты, дед Андрей... Я смотрю, здорово умеешь лечить. Как же научился-то?
— По крови пошло, видать. Бабушка моя, Катерина Степановна, Царство ей Небесное, пользовала травами знатно. И мать тоже, у них и перенял. Ну и... душа чует, где и что у человека болит. Только гляну — и ясно мне. И в растения вникать могу — новых трав да кореньев приспособил много, раньше неизвестных никому. Даже и не знаю, почему мне дается, а только вдруг возьму да проникну: ага, вот эта травка помочь должна от того-то. И ошибки никогда нету. Не знаю, почему...
Снова воцарилась тишина.
— Дед!
— Господи, Боже мой... Да что ты меня все пугаешь-то? Не оклемался путем, а бодрствует, как дятел.
— Я чего еще: могут, значит, заявиться в любой момент, позвать лечить?
— Давно уж не являются. Знают, что плохой я теперь стал ходок да ездок-то, себя еле-еле облечиваю.
— А та язва с язвой? Вдруг пришлет своего придурка?
— Не пришлет. Весной не присылала, да и сам я не ездил, плохо мне было. И сейчас... нет, не должна. Ее позже к зиме гнет. Так что не опасайся. И забыл тебе сказать — обдумал я нынче. Дверь у нас с тобой на запоре, так?
— Ну, так.
— Если придет, постучит кто — вылезешь потихоньку в окно и прямиком в сарай. Не заметят и не услышат за углом-то. А в сарае лестница есть — можешь залезть на сушильце. А на сушильце дверца в другой стороне — я в нее сено кидаю, — так что можно и в лес. Коль оба в доме — то дверь на крючок. А коль во дворе я, то увижу пришедшего и предупрежу тебя громким разговором. Да и Васек предупредит — залает, бросится на чужого-то. И ты опять
же в окно.
— Дело, дед Андрей. Это ты хорошо придумал.
— Ну, а если что — скажу: мол, племянник мой, приехал из Воронежа. Но... только вряд ли кто чужой придет, не бойся ты. ...
— Да я не то чтобы сплошного трясуна вырабатываю, а... береженого Бог бережет. Ну ладно, давай спать, а то совсем заколебал я тебя.
— Спи с Богом.
— И ты тоже
9.
Утром Андрей Арефьевич вышел на огород копать картошку. Дальше тянуть нельзя, решил он, а то разненастится опять, и тогда намучаешься с ней до смерти.
Напоил-накормил нынче всех пораньше, лекарственное снадобье приготовил, дал больному. И того после завтрака разморило — заснул опять. Это хорошо — сила к нему идет. Так что время есть, посвободней стало, слава Богу. Вот и надо не упустить, управиться с картошкой. "Потихоньку-полегоньку успеть бы до Вари, — думал старик. — Ведь если застанет на огороде, то отругает и отстранит беспрекословно, будет копать одна до последнего". И сразу же тревожно заныло сердце: "Господи, да чего я такое мелю? Где тут успеешь, придет она сегодня, обязательно придет. И неизвестно еще, чем все обернется. Эх, лучше бы уж рассказал парню, приготовил его..."
Рассказать он собирался несколько раз, но так и не решился — боялся, как бы не вышло хуже. "Теперь надо держать ухо востро, — настраивал себя Андрей Арефьевич. — Встрять между ними, если что, надо по-умному, чтобы сразу уразумел парень: ни малейшего зла от Вари ему быть не может. 0-хо-хонюшки, гадай вот, прикидывай, каким образом оно лучше-то..."
Картошка уродилась плохая, много попадалось гнилой. Да и немудрено —• лило и лило все лето. Хорошо, хоть место высокое, а то бы замокла вконец, и вовсе бы ничего не выбрать. Андрей Арефьевич выкапывал садило за садилом, не спеша, умело расходуя силы, а потом также неспешно собирал картошку в два ведра. В одно бросал хорошую, а в другое — с гнильцой да мелкую, на корм Ленке и курам. Собирать на корточках было, пожалуй, тяжелей, чем выкапывать, но ничего, шло. Набрав неполное ведро, Андрей Арефьевич нес картошку к пряслу, отделяющему от двора огород, и высыпал ее там на разостланное целлофановое полотно. Она быстро просыхала на ветерке.
Оттого, что дело пошло хорошо — легче и спокойней, чем он ожидал, тревога стала пригасать понемногу. Время от времени Андрей Арефьевич прерывал работу и стоял, задумчиво обводя взглядом лесную округу. Трогательная для сердца стояла пора, и любил он ее не меньше, чем весну.
У каждого дерева, у любого растения, считал Андрей Арефьевич, имеется свое настроение, свой характер, и вот сейчас это хорошо видно по окраске листвы — хоть ты расстарайся, а не найдешь двух одинаковых по цвету деревьев. Гляди повнимательней, сердцем гляди, и легко разберешь, прочтешь, как по книжке, у кого что в душе. Вон стоят две березы — сестры вроде, а все ж разные. Та, которая справа, пронзительной желтизной светит, радостной. Легкий у нее характер, любит она все кругом, опьяняется жизнью и о холодах предстоящих не думает. А та, что слева, — эта поскромней, листва у нее с оранжевым оттенком. Эта в себе печаль, заботу имеет. И за сестру ей маленько стыдно —: дескать, зима не за горами, неизвестно, какая она будет, а ты веселишься без меры, все тебе побоку.
Или вон осина на отшибе — старая, не сочтешь, сколько лет ей. Цвет листьев багровый, тревожный, а наверху даже .с синеватым оттенком. И дрожит она мелко каждым этим листиком — много испытала на своем веку, а теперь волнуется вот; тревожится за всех своих собратьев, что-то в ней материнское. Ударит порыв ветра, и сыплются с нее листья, будто плачет дерево, тоску свою сдержать не может.
Такая уж пора — откровенными становятся деревья, душу свою миру выражают открыто. И знал Андрей Арефьевич в округе каждое из них, легко разбирал, у какого мужской характер, а у какого женский, и говорил с ними, понимал, что они ему говорят в ответ. Ощущал он тут во всем мудрое нетленное движение жизни, и казалось, что когда настанет время ухода, то умрет лишь старое измученное тело его, а душу родные чуткие деревья незаметно вберут в себя, и будет она вместе с ними отдаваться попеременно осеннему увяданию и торжеству весеннего цветения.
Васек бегал по огороду, с фырканьем старался выкопать что-то в освобожденной от картошки борозде, потом устремлялся к хозяину и стоял перед ним, нетерпеливо перебирая лапами и помахи¬вая хвостом: дескать, отвлекись на минутку, глянь, какой я довольный, как хорошо мне оттого, что мы вместе. Андрей Арефьевич трепал его ласково за холку и говорил, вздыхая:
— Хорошо, Васек, хорошо...
Ленка застыла во дворе у прясла и смотрела на огород — ей тоже хотелось сюда. С отрешенным независимым видом, будто бы в поисках чего-то, расхаживала по меже Анфиса. Как-то уж так повелось, что когда Андрей Арефьевич занимался делом во дворе или на огороде, то все они обязательно являлись кто откуда и держались неподалеку. Рыжка, правда, не видать нигде пока, но, гляди, скоро и он объявится, будет скакать по жердям прясла, шурша облетающей корой и словно бы ни на кого не обращая внимания.
Вдруг Васек, взвизгнув радостно, со всех ног бросился к дому. Андрей Арефьевич глянул туда и увидел парня — тот сидел возле крыльца на скамейке. Выспался, наверно, от души, и потянуло на воздух. Собака подбежала к нему и, подпрыгнув, ловко лизнула в щеку. Парень взял ее за голову и потряс ласково, прильнув лбом к ее лбу. "Надо же, — хмыкнул Андрей Арефьевич, — будто всю жизнь друг друга знают. Видать, и впрямь есть в этом автоматчике хорошая жилка, чует ее Васек..."
Тот гладил Васька и смотрел, как старик копает. Потом исчез в доме, а через некоторое время вышел опять, держа за ремни на весу автомат и подсумок, и направился к Андрею Арефьевичу.
— Ты чего? — всполошился старик. — Куда это собрался-то?
Парень положил автомат с подсумком на межу и сказал:
— Дай-ка сюда лопату, дед. Не могу я смотреть, как ты, старый, тут гнешься один.
— С ума, что ли, сошел? Тебе еще лежать да лежать надо.
— Хватит мне лежать. Я от этой лежки... и вправду с катушек слечу. .
— Дак ведь вспотеешь — охватит тебя, и опять получай то же самое. Мне тогда в десять раз хуже гнуться-то придется. Не окреп же еще путем, скулы вон торчат, и бледный...
— Ничего. — Парень взял у него лопату. — Надо разминаться понемногу, не век же мне у тебя на шее сидеть.
— Господи, до чего ж ты неуговорный. От этой неуговорности и беды-то, небось, твои происходят.
— Точно, дед, — криво усмехнулся "тезка". — От нее от самой.
Он начал выкапывать картошку.
— Ну тогда... — пришлось смириться Андрею Арефьевичу. — Гляди только мне — как начнешь потеть, так сразу домой. Ясно?
— Да ладно, ладно.
Андрей Арефьевич посмотрел на автомат и покачал головой.
— И опять эту игрушку с собой. Как увижу — прямо аж внутри все переворачивается. Будто война идет. Ну кто тебя здесь в самом деле...
— Слушай, дед... — выпрямившись, перебил парень. — Неужели ты не понял до сих пор? Я ведь не в казаки-разбойники играю. И не хочу, чтоб меня застали врасплох, взяли голеньким да тепленьким.
— Ну, а если хороший какой-нибудь человек...
— Какой еще хороший? Ты же говорил — не ходят.
— Да я к примеру. Пришел, случаем, кто-нибудь, кто меня за родного...
— Язва, что ль, твоя или этот ее? Но ведь ты же сказал...
— Сказал, сказал... — вышел из равновесия Андрей Арефьевич. — Вот заладил... Я к чему: неужели будешь стрелять в любого пришедшего? А если он мне дорогой? Думаешь, нету людей, которые меня почитают за родного? Вдруг это хороший надежный человек...
— А написано у него на лбу, что он хороший да надежный? Рванет на шоссе и заложит первому встречному, наведет ментов с автоматами.
— Так чего ж — будешь, значит, стрелять, не разбираясь?
— Не знаю я, дед! — рявкнул парень и с силой вонзил в землю лопату. И тут же слетело с него, сказал тихо: — Тебе честно скажу: не знаю. Знаю только, что это, — кивнул он на автомат, — должно быть всегда при мне. Вляпаться сглупу, лопухнуться мне никак нельзя, я тогда вообще... И живым я им не дамся.
— Ну, ты уж...— положив руку ему на плечо, просительно взглянул в глаза старик, — не пори горячку-то, если что. Постарайся прислушаться ко мне, я ведь... не могу обмануть.
— Эх, дед Андрей... Может, прислушиваться-то некогда будет. Ладно, давай копать.
Выкапывал он хорошо, и Андрей Арефьевич похвалил;
— Молодец. Прямо как на блюдечке выдаешь, ни одной картошечки под землей не остается.
— Эт-то дело знакомое. Всю жизнь мы, дед Андрей, в дружном советском коллективе, а значит, землю ворочать научились классно. Еще в детдоме большой был участок — и копали, и пололи, и выкапывали.
— В детдоме? Неужто... ни отца, ни матери?
— Да почему ж — наверно, топают где-либо, ходят по одной с нами земле. Интересно бы глянуть, что за рожи. А может, и не рожи вовсе — может, интеллигентные умные личики. Очень даже умные... И хватит, дед, не будем об этом...
И вдруг вздрогнули оба от звонкогй женского возгласа:
— Привет труду!
У входа на огород стояла на меже Варя.
Лайка бросилась к ней стремглав, начала прыгать вокруг, взвизгивая от радости. Андрей Арефьевич оцепенел — и ноги стали ватными, и в горле пересохло. Парень тоже некоторое время смотрел, не двигаясь, на появившуюся невесть откуда молодую женщину. Потом он быстро оглядел все кругом и пошел сторожко к меже, поднял автомат, надел на плечо солдатский ремень с под¬сумком. И снова напряженно повел взглядом вокруг кордона.
— Ну-у, Васек, — обнимая собаку, которая, поднявшись на задние лапы, тянулась к ее лицу, сказала Варя. — У вас тут, смотрю, чего-то воевать собрались...
— Ты кто такая? — хрипло спросил парень. — Откуда взялась?
— Да Васек вот говорит, что своя я здесь. Интересно узнать, кто такой ты. И откуда...
Андрей Арефьевич опомнился наконец и заспешил к парню.
— Постой, сынок, — заговорил он заполошно, — не кипятись. Это Варя. Варя это наша.
— Не подходи, дед! — жестко приказал тот, продолжая настороженно косить взглядом по сторонам. — Торчи там, не мешай! Какая еще к чертям Варя? Ты же говорил, что никто сюда...
— Дак ведь своя она... — прижав дрожащие руки к груди, растерянно топтался на месте старик. — Не горячись, Андрей, я счас все тебе поясню...
—- А чего это, деда, ты его Андреем-то зовешь? — брякнула неожиданно Варя. — Он же у нас, кажись, Евгений Сергеевич...
Парень, вскинувшись весь, застыл на миг и вслед затем быстро дернул затвор автомата. Варя побледнели, даже словно бы похудела мгновенно — до нее, видно, только теперь дошло по-настоящему, что шутить тут никто не собирается. И пошла вдруг по меже к нему.
— Ну-ну... — сказала она звенящим от волнения голосом, — стреляй, Евгений Сергеевич. Валяй, если ты такой смелый — и в бабу стреляй, и в старика...
Андрей Арефьевич, однако, опередил ее — устремился к парню, схватил за ствол автомата.
— Уйди, дед! — рванув у него из рук оружие, грозно отпрянул парень. — Ты мне, гляжу, хитрую подлянку решил устряпать. Говорил, что не придет никто, что один совсем, а тут являются какие-то свои, внуки какие-то. Кто она, откуда меня знает?!
— Ты сначала выслушай как человек, а потом уж решай, пороть тебе горячку или нет. — Андрей Арефьевич опять шагнул к нему и упрямым швырком отвел в сторону автомат. — Она тебя видела. Приходила, когда ты без сознания лежал. Ясно? А как звать — из газеты знает, там напечатано, что убег из заключения. И... фотография там твоя.
— Вот это номер... А почему же молчал? Я ведь слышал голос — значит, это не в бреду, а ее голос был. Почему скрыл от меня?
— Почему, почему... Непонятно, что ль? Ведь ушел бы ты. Упрямый, думаю, — на карачках, а все равно уйдет. Видел же, как опасаешься-то. Потащился бы напролом и ткнулся бы где-либо в чащобе. Пожалел тебя. Его спасают, а он опять игрушкой своей трясет.
— Гм, спасают... Откуда я знаю — а может, эта твоя внучка приволокла за собой на хвосте пачку ментов?
— Ага, приволокла, — сказала из-за спины Андрея Арефьевича Варя. И крикнула вдруг довольно громко: — Эй, менты! Вот он, взять его!
Эхо прокатилось далеко по лесу.
Андрей Арефьевич с парнем остолбенели от неожиданности. А она рассмеялась — нервно, с издевкой:
— Ух, страху-то... Ну чего ж ты, Евгений Сергеич? Валяй, пали из своего вооружения. Вон они, вон — за каждым кустом сидят.
— Да ты... — возмущенный, с дрожащими губами, повернулся к ней Андрей Арефьевич. — Чего тебя раздирает-то — душу людям без толку возбуждать? Человек больной, на ноги только встал, и есть ему чего опасаться...
— А мозги он случаем не застудил заодно? — не унималась Варя. — А то бы, наверно, догадался, что если б я шлепнула где-нибудь языком, то ждать бы не стали — еще полторы недели назад взяли бы здесь тепленького и проводили лечиться куда полагается.
— Ну чего несешь... — сказал устало старик. — Он тебя видит в первый раз, совсем о тебе не знает. О чем тут можно догадаться, с таким смятежом в душе?.. Ох, глупая ты, Варятка... Беда бы ведь могла быть. И... ну вас всех, тяжело мне с вами, молодыми...
Андрей Арефьевич опустился вдруг обессиленно и сел на меже прямо здесь же, где стоял, — неудобно как-то, боком. Варя растерялась — поняла, что и в самом деле переборщила. Она закусила нижнюю губу, и уголки мягких серых глаз ее, как бы немного приспущенных у висков, от огорчения опустились еще ниже.
На ней были спортивные брюки, заправленные в резиновые сапожки, и поношенная легкая курточка, а пышные русые волосы свои Варя убрала под косынку — видно, собралась копать картошку. Она глянула на парня — тот стоял, держа автомат за рукоятку стволом .вниз, ремень с подсумком нелепо болтался на плече. Парень тоже был растерян, жалок даже чем-то, несмотря на оружие. На бледном лице его проступили сплошняком мелкие капли пота.
— Ну вот... — отведя взгляд, пробормотала Варя. — Познакомились, называется... — И тронула старика за плечо — Вставай, деда. Земля холодная. И зачем же ты так опять — взялся без меня копать картошку. Я же предупреждала: и в уме не веди, выкопаю сама. Ну зачем тоже... огорчаешь-то?
— Да ведь оно как... — поднялся послушно Андрей Арефьевич.
— Не терпится душе-то. Думаю, потихоньку-полегоньку выкопаю. Хотел, чтоб тебе посвободней, а то маешься день и ночь — ни покоя, ни отдыха.
— Разве будет мне покой, если ты сам за все берешься.
Она пошла к борозде, где торчала лопата, и, взяв ее, начала копать.
— Ну... — направился следом старик, — хоть выбирать за тобой буду неспехом.
— Нечего тебе тут гнуться, — ответила Варя. — Я сама. Делай ступай что-нибудь полегче. А лучше отдохни.
Парень продолжал стоять неудельно, ощущая, видимо, как нелеп и чужд он тут сейчас с оружием в руках, потом опустил автомат на межу, сбросил с плеча подсумок и пошел к Варе, молча взял у нее из рук лопату. Варя смотрела на него удивленно несколько мгновений, потом сказала:
— Шел бы лучше в дом. В поту весь.
— Ничего.
— Не-е, брат, — горячо запротестовал Андрей Арефьевич, — этак не пойдет. Одет легко, охватит тебя сейчас в момент, — и весь мой труд насмарку. Иди-ка, в самом деле, ложись. Если уж хочешь поправиться, то надо отлежаться ненадежней.
— Да брось, ты, дед, — отмахнулся тот. — Хватит со мной валандаться. Лежать, лежать....С ума сойдешь. Ни рожна мне не сделается — точно чую.
— Чует он. Да не умеете вы нынче чуять-то. Ну как вот уговорить тебя? Такая болезнь — это ведь не шутка, организму надо попрочней за силу взяться. Было б хоть во что одеться потеплей.
Варя вдруг молча пошла к дому.
— Ты... — окончательно всполошился старик. — Куда ты, Варятка?
— Да сейчас, — обернулась она на ходу. — Есть там у меня...
Покопавшись у крыльца в сумке, Варя быстро вернулась, держа в руке что-то серое.
— Надевай-ка вот, Евгений Сергеич, — с едва заметной усмешкой протянула парню. — По-моему, должен подойти.
Это был свитер — правда, сильно поношенный, вытертый местами, но вполне еще годный, да к тому ж, кажется, шерстяной.
— Мне? — удивленно смотрел парень. — Ты... Зачем?
— Да надевай, хватит уж.
Продолжая недоумевать, он натянул свитер поверх робы.
— Ну вот, — сказала Варя, — в самый раз. Копай теперь, будь героем, если уж так охота.
— Хм... — оглядел он себя смущенно, по-детски даже как-то. — За что это мне? Где взяла-то?
— Какая тебе разница?
— Ну... спасибо. А... курева захватить не догадалась случайно?
— Силен. Еще и курево ему подавай. Но так уж и быть — случайно догадалась.
— Да ты что?! Правда, что ль?
Не отвечая, Варя опять пошла к дому.
— Во, — сказал парню Андрей Арефьевич, — я же тебе говорил: Варятка — она еще понадежней меня будет.
— Да ничего ты мне не говорил.
— От те! — рассмеявшись, хлопнул его по плечу старик. — А мне уж прямо кажется, что говорил...
— Выдал ты номер, дед Андрей. Зачем было скрывать-то? У меня глаза на лоб — гляжу, стоит дама... Да еще знает имя-отчество. Пойми, какая бурда мне сразу в голову полезла. Тут, дед, могло...
— Могло. Серьезное получилось дело. Слава Богу, обошлось. А открой я тебе про Варю, — ушел бы ведь?
— Ушел бы, точно. На "авось" мне полагаться нельзя. Она... Кто она тебе хоть?
— Слыхал же — дедой зовет.
— Но ты рассказывал... детей-то вроде не было. Тогда откуда внучка, с облака, что ль, свалилась?
— Тут, брат... После как-нибудь поясню. Короче, своя она мне. Да ищ, может, и получше своей.
Варя принесла пачку сигарет, спички, и парень сел на меже рядом с оружием, закурил.
— Тебе бы не надо на землю-то, — попытался остеречь Андрей Арефьевич. — Прохватит ведь, не окреп еще.
Но тот продолжал сидеть, затягиваясь жадно раз за разом и блаженно посматривая на них.
— Ух, ты, — сказал он удивленно, — голова кружится, аж поплыло все. И вы плывете, — И рассмеялся: — Прямо косею, елки-палки...
— Ну, Евгений Сергеич, — усмехнулась Варя, — теперь ты у нас настоящий... разбойник, все у тебя есть.
Тот мгновенно посерьезнел.
— Не надоело еще? — глянул жестко. — Запомни: я разбойником никогда не был. И прекращай эти свои... Заладила — Евгений Сергеич, Евгений Сергеич... Женька я.
— Вот спасибо-то. Слава тебе, Господи.
— А язычок у тебя, девушка... Жгучий слишком язычок.
— Какой есть, другого не имеем.
— Ты уж, Варятка, — вмешался примиряюще Андрей Арефьевич, — в самом деле... Так тебя и тащит сбивать настроение без толку. А ты, Женя, не придавай внимания, у них это бывает.
Евгений докурил сигарету до самого фильтра, загасил о землю и пошел, молча взял лопату, начал копать. Варя постояла немного, глядя с недоверием на его работу, но потом-таки склонилась над бороздой, стала собирать в ведра картошку. Андрей Арефьевич потоптался возле них, словно обездоленный, потрепал за холку Васька — мол, не нужны мы тут с тобой — и поплелся к дому. Но вскоре опять появился на огороде — с двумя ведрами в руках, принялся набирать в них просохший на целлофановом полотне картофель.
— Ну, деда! — увидев, крикнула Варя. — Сколько можно, зачем ты опять? Я сама потом перетаскаю.
— Да по половинке набираю-то. — в голосе старика звучала обида. — Под силу же мне. Запрещает и запрещает, сама и сама она...
Пришлось ей смириться.
— Чего ты дергаешь старика? — тихо сказал Евгений. — Пусть шевелится помаленьку, если хочется.
— Тебя забыла спросить. — Она помолчала немного, подавляя, видимо, раздражение. — У деда болезнь, ясно? И от тяжелого дела ему становится плохо.
— Вот оно что... Какая же болезнь-то?
— А тебе не все равно?
— Хм, вопросик... Он же меня с того света выволок.
— Вот и радуйся.
— Да, с тобой тут нарадуешься...
— Ну тогда молчи.
— Слушай, — прекратив копать, выпрямился он, — что я тебе сделал плохого?
— А хорошего-то чего сделал? — Варя, не глядя на него, продолжала быстро подбирать с борозды картошку. — Или, может, у тебя считается хорошим таскаться по лесам с вооружением и наставлять его на первого встречного?
— Конечно, я таскаюсь... — голос у Евгения сделался глухим. — Только надо разобраться, почему я таскаюсь. И ты, девушка, кончай меня щипать. Шустрые граждане судьи и без тебя найдутся, общиплют в момент. А что нынче так вышло — извиняй уж, не знал я о тебе. Деду назвался Андреем, а тут вдруг возникает неизвестно откуда бойкая дамочка, которая знает мое настоящее имя-отчество... Тут... наверно, можно понять-то.
Варя не отвечала, даже не подняла головы.
Долго работали молча. Слышались лишь звонкие стуки картофелин о стенки ведер, шелест сухой коры — Рыжок действительно явился откуда-то и прыгал забавно по жердям прясла — да тяжелое прерывистое дыхание Евгения. Наверное, ему было нелегко — щеки запали, лицо приобрело известковый оттенок, и пот катился с него градом. Однако он копал и копал, не останавливаясь. Андрей Арефьевич, который таскал в подпол картошку, поглядывая на парня, сокрушенно покачал головой, но уговаривать и не пытался — видно было, что бесполезно.
Варя вдруг не выдержала:
— Куда гонишь-то, как на пожар? Отдохни. И... нечего злиться.
Евгений разогнулся с трудом, вытер лицо рукавом и, отдышавшись немного, усмехнулся:
— Да я-то не злюсь.
Она сходила, высыпала из ведер картошку и опять склонилась над бороздой.
— А в газете... — спросил он, — чего там про меня пишут? В какой газете-то?
— И в районной, и в областной. Что есть, то и пишут. Убежал из заключения, вооруженный. Сколько лет, как звать. Ну и это... приметы перечислены, фотографии две штуки. И потом пишут... Опасный ты. Просят сообщить.
— Конечно, — усмехнулся он, — для них я очень опасный. Ну, и что ж ты не сообщила?
— Да надо было бы, если уж тебе так охота. А если честно... — Варя выпрямилась, отряхнула руки и посмотрела ему прямо в глаза. — Прав ты давеча был — и без меня судья найдется. Коль есть грех — ответа все равно не минуешь. А мы... У нас с дедой... совсем другое в жизни дело.
— Какое же оно у вас такое?
— Жалко, что до сих пор не понял.
Варя опять принялась собирать картошку в ведра, а он стоял, опершись на лопату, смотрел молча, как ловко снуют ее руки. Потом спросил:
— А свитер этот, сигареты... У мужа, что ль взяла?
— Нет у меня никакого мужа, — сердито глянула она снизу. — Не беспокойся, никто о тебе больше не знает. И хватит выпытывать. Копать — так копай давай.
— На тебя не угодишь. То отдохни, то копай...
— Да отдыхай сколько хочешь. А болтать... Как будто не видит, что неохота мне разговаривать.
... Постепенно парень притерпелся к работе, и когда завершали, чувствовал себя уже гораздо лучше — видимо, переборол-таки организм основную слабость, начал осваиваться с нагрузкой. Взялись все вместе таскать в подпол картошку, и Евгению показалось, что носить ее ведрами неспоро, долго.
— Дал бы, дед, какую-нибудь... — попросил он. — Мешок, что ли. А то бегаю с этими наперстками — одна суета.
— Да не надо бы тебе совсем таскать. Гляди-ка — разохотился, герой. Не знаешь ты, брат, меры и слушать никого не хочешь — вот беда твоя. Сейчас в горячке перетрудишь себя, а завтра скажется.
Но парень настоял на своем — стал носить картофель в мешке, насыпая по три, а то и по четыре ведра.
— Упрямство... — вздохнул сокрушенно старик. — И самому тяжело, и другим плохо.
Варя молчала.
10
Когда она выкладывала из сумки на стол продукты, Евгений кивнул Андрею Арефьевичу с усмешкой:
— Шофер-то этот тебе подвозит?
— Дак... — виновато улыбнулся тот. — Ясное дело — этот.
— Не умеешь врать-то, дед. Я враз прочуял — что-то не так.
— Хм, вроде складно врал.
— Да нет, чувствительно было. Потому и торчал я все время настороже.
Варя вдруг вынула из сумки бутылку водки.
— Ух, ты, — удивился Андрей Арефьевич. — Это, брат Варятка... по какому же случаю?
— Премию мне дали, деда. Ну и картошку вот вырыли. И потом... возьму, думаю, может, нужна... для лечения.
— Ох, нужна, — засуетился старик. — Хорошо, Варятка, угадала. Счас мы... Перво-наперво разотрем его покрепче. — И приказал парню: — Ну-ка, живо давай снимай с себя.
— Да зачем добро-то переводить? — запротестовал тот. Он лежал на кровати, укрывшись полушубком, и чувствовалось, что его познабливает. — Лучше внутрь употребить.
— Употребишь и вовнутрь. Счас подогреем кровь и снаружи, и с нутра, забегает она повеселей. Ох, вовремя! Глядишь, еще и обойдется — не затянет тебя, упрямца, обратно в болезнь.
Откупорив бутылку, он отлил немного водки в кружку. Потом, вспомнив о чем-то, устремился в сени, принес оттуда какие-то длинные корешки, спешно начал кромсать их на столе ножом. Намельчил горстку и, отбавив из бутылки теперь уже в стеклянную банку, побольше, бросил корешки туда. Водка сразу же начала приобретать приятный рубиновый цвет.
— А это тебе особый нутряной подогрев, — бормотал старик. — Пока то да се — успеет хоть малость настояться.
Обрабатывал он парня щедро — плескал из кружки на ладонь еще и еще, до тех пор втирал, пока водка не впиталась в тело вся досуха.
— Хорошо, дед, — постанывал от удовольствия тот. — Уф, хорошо... А запах... Я уж, считай, и забыл этот запах.
— Хорошо ему... — ворчал Андрей Арефьевич. — Так-то оно, разлюбезный. А тебе все кажется, что плохого желают, Фома ты несуговорный...
Евгений после растирания начал потихоньку задремывать.
Варя молча готовила обед, и старик тоже прилег, зная, что все равно она делать больше ничего не позволит. Лежал, и приятно было чувствовать их присутствие, слышать, как временами начинает посапывать на кровати парень, как Варя стучит ножом, быстро нарезая лук. "Да, хорошо... — думал он медленно. — Вроде бы все получается по-человечески..."
Потом Варя позвала их за стол, но прежде, чем сели, протянула Евгению что-то завернутое в газету:
— На-ка вот глянь, подойдут или нет.
Он взял, развернул удивленно. В свертке оказались дешевые, под джинсы, брюки, клетчатая поношенная рубашка.
— Откуда? — в коричневых глазах его, как и в прошлый раз, когда Варя отдавала ему свитер, промелькнуло что-то растерянно-детское. — Зачем еще и это-то?
— Да примеряй. Опять он со своими вопросами...
И Варя вышла из избы.
Брюки подошли, лишь немного широки были в поясе.
— Ничего, — успокоил Андрей Арефьевич. — Это ты от болезни съехал телом. Поправишься, и придутся впору.
А рубаха оказалась в самый раз. Варя вернулась, глянула мельком и, хотя не сказала ни слова, осталась, видимо, довольна.
— За какие же это заслуги? — неуверенно обращаясь к ней, пожал плечами Евгений. — Свитер да еще вот...
— Если уж так интересует, — ответила она, — могу сказать. А то, пожалуй, и вправду подумаешь, будто особые заслуги у тебя, за которые надо осыпать благодеяниями. Просто... сумела догадаться, что в тюремном-то, в летнем, дальше скрываться не с руки — опасно да и холодно. Ну и... придется кого-нибудь ограбить, раздеть где-либо на дороге. Или у деда взять... хоть и размер маловат. А у деды ничего лишнего нету. Вот и поехала на толкучку —
думаю, все меньше будет греха, и... уйдет, может, поскорей.
После этих слов тихо стало в избе, слышалось лишь, как тикают ходики и Анфиса лакает из банки возле печки. Парень, сунув руки в карманы новых брюк, смотрел теперь Варе под ноги, и челюсти его были стиснуты плотно, скулы слегка порозовели.
— Ну, Варятка, — сказал Андрей Арефьевич, — ты уж прямо... не в лоб, а по лбу.
— Но ведь он же допытывается — откуда, как да почему. Мне, значит, что же — врать, будто я из любви да жалости позаботиться о нем решила?
— Правильно решила, — не отрывая взгляда от пола, глухо произнес Евгений. — Я уже не раз думал, как мне быть насчет шмоток. И... помогла крепко, спасибо тебе. Расплачусь за все, знай. Если ... доживу.
— Да не нужны мне никакие твои расплаты...
— Только уходи поскорей, — усмехнувшись, перебил он. — Так что ль?
— За стол скорей садитесь, — с нажимом сказала Варя. — А то остывает все.
Сели наконец за стол, она заполнила большую миску свежими пахучими щами, поставила ее на середку. Андрей Арефьевич взялся разливать по старинным граненым стаканчикам водку. Себе и Варе налил из бутылки, а Евгению — рубиновой, из банки.
— Мне чего-то опять... — улыбнулся тот, — благодеяние. Какая-то особая.
— Для пущего нутряного сугреву, — строго сказал старик. — Для страховки. Ну, браты мои, — поднял он свой стаканчик, — давайте-ка почеканимся. Чтоб, значит... все было хорошо.
Звякнув стопками, выпили, стали молча есть из общей посудины щи. Когда управились с ними, Андрей Арефьевич опять взялся за бутылку, и Варя предупредила:
— Тебе, деда, хватит. И мне... половиночку. А то еще идти да ехать.
— А вот и налью себе! — озорно плеснул он в свой стаканчик несколько капель. — Вот и не послушаюсь командиршу! А, каково?
И радостно, по-детски, рассмеялся. Варя с Евгением переглянулись и рассмеялись тоже.
Выпили еще, и обед продолжался уже с разговорами. Старик сетовал, что картошка родится год от года все хуже, даже здесь, в лесу, земля стала хворать, а как же тогда в людных местах... Варя выкладывала деревенские новости. Рассказала про Семена Шурикова, который загрузил ночью лодку кирпичом на той стороне озеера, где строили дом какому-то городскому начальнику, а когда греб обратно, то лодка на самой середине ушла из-под него на дно вместе с грузом, и он едва выплыл на свой береге одними веслами. А потом, отогреваясь в бане самогонкой, напился с расстройства и остаток ночи стоял на берегу на коленях и орал: "Водяной, зараза! Отдай мою лодку, отдай кирпич! Отдай! Я лодку целый месяц делал, а кирпича мне тоже положено!"
Евгений слушал все это молча, усмехался временами, но заметно было, что свои у него, отдельные от их разговора, мысли. Он сунул в рот сигарету, хотел прикурить, но тут же опомнился, встал, чтобы выйти на крыльцо.
— Да кури здесь, — сказал Андрей Арефьевич. — В окно вытянет.
Варя приоткрыла окно.
Парень чиркнул спичкой и, шумно выдохнув дым в сторону, заговорил вдруг:
— А я... Понял, что скрывать от вас... Короче, зря скрываю. Небось, подумаете: окосел, мол, вот и понесло. Конечно, с непривычки есть малость. Но... не из-за этого. От души говорю: сто лет уж не верил никому, а вам верю. Обоим.
— Ну, спасибо, — сказала Варя. — По виду-то — до тридцати, наверно, еще жить да жить, а не верит уж сто лет.
— А ты не перебивай, строгая, — выставил он ладонь. — У меня честный порыв. И знай: бывает, когда человеку начинает казаться, что не верит он никому в четыре раза дольше, чем живет на свете. Вот. Рванул я, значит, из мест... не столь отдаленных, как их называют, второй месяц в бегах... Да это вы знаете. — Чувствовалось, что каждое слово дастся ему с трудом. — Ну и... дошел до крантов, если бы не ты, дед Андрей, то... Я понимаю. Хотел подольше никому не лезть на глаза, до осени, думаю себе, прокантуюсь как-нибудь без людей, а иначе — один только контакт, и... точка. А там, глядишь, парок повыйдет из них, начнут привыкать к тому, что не выныриваю нигде, и розыск будет уже не тот. Мне... У меня такая штука — попадаться никак нельзя. Хватит, живым я им больше не дамся. Вот какое, значит, дело...
— Ты... убил? — тихо спросил старик.
— Я?! — удивленно ткнул себя в грудь большим пальцем парень. И, посмотрев на Варю, застывшую напряженно, потом опять на Андрея Арефьевича, рассмеялся вдруг облегченно: — А-а, вон оно что... Да никого я не убивал, ничего мокрого за мной нету. И не грабил сроду, честное слово. Воровать приходилось. Я не скрываю — было. Да и то... чтоб не квакнуться окончательно с голоду. Ну... и дрался, конечно. Тут уж... Отмахнуться-то надо уметь, а то могут и стоптать... в сплошную грязь... Не-ет, я не убивал. Только вот... когда заболел, заковылял на карачках, когда стал зубами за жизнь, за свободу цепляться, то... Тут уж я не знаю... Окрысилось во мне от бессилия, остервенело что-то. Не знаю, наверно, и мог бы... Такая была во мне горячка...
— А это... — кивнул Андрей Арефьевич на автомат с подсумком, пристроенные на кровати у стены. — Коль уж пошло у нас дело на откровенность, то... Что же — в подарок тебе вручили?
— Это... Пришлось... Выключил я его малость. Иначе было нельзя.
— Кого выключил?
— Ну... вэвэшника, солдата.
— Он, что — приемник, что ль? Как понять — выключил-то?
— По чердаку маленько. Да теперь уж, небось, бегает вовсю, замаливает потерю оружия и бдительности. А может, определили на зону, — усмехнулся он, — уже в другой форме. — И кивнул на свою робу, висящую на спинке кровати. — В такой вот. Пускай хлебнет, каково в ней.
— Ты... — растерянно смотрела Варя. — Почему ты... так? Устроил человеку беду и даже... радуешься. Он ведь солдат, его мать, отец, небось, ждут со службы...
— Пропадлина — вот он кто. Эх... Да если уж начал, расскажу. У нас к одному долгосрочнику приехал на свиданку отец. И привез ему денег, полторы ^ысячи. С деньгами в лагере жить можно, вот и решил, значит, поддержать сына. А ведь так-то просто не отдашь их ни в коем случае — не положено, строгость большая. И во время свиданки как-то сумел отец сделать намек — указал на этого солдата: дескать, вон тому вручил я деньги, полторы, он тебе
передаст. Потом уехал отец, проходит день, другой, третий... Солдатик ни гу-гу. Тогда выбрал мужик подходящую минутку и говорит ему: "Чего ж ты, давай деньги-то. Пять сотен можешь себе оставить". А тот вытаращился: "Какие деньги?! Ну-ка, живо вали в строй!" И автоматом — швырь в грудь. Короче, присвоил. Отец-то старый совсем, живет один, без помощи, — по копеечке, видать, собирал, а эта сучара... Хоть бы уж начальству отнес, проявил служебный долг, и положили бы деньги на счет или выслали старику. Так нет же... Но Бог есть — у меня момент выпал
прямо на этого гаденыша...
Евгений замолчал, дважды затянулся поглубже дымом.
— Какой момент? — спросила Варя.
— Ну... Ушел-то я... когда именно он был рядом, за мою охрану отвечал.
— А если бы другой был?
— Нет, при другом не получилось бы момента.
— Да о каком ты все моменте-то? — сумрачно сдвинула Варя брови. — Момент, момент... Объясни по-человечески.
— Тут... такое дело. Всем, кто торчит на зоне — ну, в лагере, значит, — да и каждому любому, наверно, тоже, почему-то кажется, что уйти невозможно. А я поглядел-прикинул и вижу — вполне бывают моменты. Нечасто, но бывают. Только надо его точно определить — этот момент. И не терять ни секунды. Действовать быстро, как молния. То есть надо мигом решиться. У меня, видать, талант — всем нутром засечь момент. И решиться — тоже, наверно, талант. Потому что моменты, может, и сечет каждый, но решиться умеет мало кто. Ну а тут... Копали мы траншею возле зоны — требовалось заменить худую трубу. Казалось бы; куда там — открытое место, вышки-пулеметы... Рядом офицер и этот краснопупик. Я поначалу и в уме-то не вел. Эх, думаю, сволота, присвоил плачевные деньги, а еще солдат, служит Родине. Попался мне в траншее под лопату удобный камень — вот, кумекаю, сдернуть бы тебя, козла, сюда и камешком-то по колпаку угостить. Выглянул из траншеи — валит здоровущая грозовая туча, черная аж вся. И дождик уже накрапывает. А неподалеку железная дорога, и поезд виден — какие-то цистерны сплошь, приближается на бешеном ходу, четко так стучит по рельсам. И, смотрю, офицерик исчез куда-то — отлучился, наверно, ненадолго и козелка этого с нами одного оставил. А тот прямо надо мной, тоже глазеет на тучу, землица из-под сапога в траншею осыпается. И просквозило меня — момент. Зыркнул на вышки — там Спокойно, ни гу-гу. И рванул я его к себе, мигом приласкал внизу камешком. Вполне бесшумно получилось. Мужики глаза вытаращили — четверо нас было, — а я им: "Копай, не гоношись". Хоп, хоп, краснопупика по карманам — нигде нет денег. Тогда я за автомат, ремень с подсумком и ножом сдернул с него. Все это — секунды. И успел ребятам сказать: "Братцы, нету при нем ни куска, где-то припрятал денежки, гнида. Так и передайте Вершку. А я пошел, не поминайте лихом". Вымахнул из траншеи и рванул изо всех моих сил прямиком к железной дороге. Поезд ближе, ближе, и дождь — как ливанет! Эх, думаю, только бы не поскользнуться. Через рельсы проскочить успел метрах в пяти от электровоза ( и загромыхал состав за спиной, заслонил меня надежно — длиннющий был. И что тут началось! Ливень сплошным потоком, ветер дикий крутит его и треплет, и молнии режут, слепят кругом, гром лупит со страшной силой. И кажется, что все это целит в меня, а я бегу сквозь сумасшедшую муть, оскальзываюсь, падаю и опять бегу, мокрый, измочаленный в пух и прах. Через лесополосу, потом через поле и забираю все влево, влево, чтобы уйти подальше в сторону, где меньше будут искать. Лужи, болота, грязь, а я рву и рву напролом. Овраг какой-то пересек — вода по нему, будто речка, шурует, потом лес начался. Обезумел, рычу самому себе: "Не останавливаться, только вперед!" И не останавливался — чесал и чесал по лесу. Где бегом, где как. Гроза давно уж стихла, высохло все, а мне не до отдыха, даже на секунду не задержался, чтоб передохнуть, пер и пер. Долго я бежал — до тех пор, пока не попала под ноги какая-то хворостина. Запахал мордой по земле и встать уже не смог — сил больше не было. И одно только сумел понять, с землею-то поцеловавшись, — сумерки уже. Так и уснул. Очнулся на рассвете — холодно, плохо... Ну... двинулся дальше, сориентировался помаленьку. Вышел к шоссе, стал пробираться вдоль него — на удалении, конечно. По лесу днем, а открытые места — ночами. Ел все, что попадется под руку, — ягоды разные, щавель. Картошку — она тогда мелкая совсем была — выкапывал в полях в сумерках. Однажды даже залез в огород на краю какого-то села, надрал редиски, луку. Только бы, думаю, подольше не встретиться ни с кем. Сильно одичал, любой человек вдали врагом казался. А потом заболел — дожди меня доконали, сырость... Вот, значит... это и есть момент...
Он умолк и сидел, неподвижно глядя в одну точку. Молчали Варя с Андреем Арефьевичем. Они почему-то избегали смотреть друг на друга.
— Да-а, — вздохнув тяжко, произнес наконец старик, — довелось, братец, хлебнуть тебе... Хорошо, что открылся — намного легче теперь будет. И... может, я, конечно, чересчур любопытничаю, но... хочу все-таки спросить: за что же ты там сидел-то?
— За побег.
— Как так? И до этого, значит, сидел?
— Сидел.
— И тогда, выходит, убег?
— Ага, ушел в побег. Взяли.
— От те раз. Ты, брат, прямо.. Час от часу не легче. Ну, а тогда-то за что посадили?
— Опять же за побег.
— Ну и ну... — вконец опешил Андрей Арефьевич. — Это сколько же раз...
— В третий раз ухожу. Бог троицу любит. И больше не дамся им — хватит.
Варя смотрела на Евгения, не мигая, уголки глаз се, направленные к вискам, опустившись, застыли скорбно.
— Ты... — продолжал старик расспрашивать парня, — зачем же это так? Ей Богу, охота мне понять.
— Да у меня... Как тут получше объяснить... Свободная болезнь у меня.
— Чего? Что еще за болезнь такая?
— Ну... болею, значит, свободой, не могу без нее никак. Там, за заборами, за проволокой... Тоска душит, обида. Не выношу там — орет все во мне, вопит. Почему, думаю, с какой стати швырнули меня торчать сюда, почему водят под дулом, могут пнуть, запереть, оставить без жратвы? Я человек — чую в себе, что я человек, а приравняли к гадам, паскудам, гнидам, которых не корми хлебом, только дай поиздеваться над тем, кто послабей. Конечно, есть люди и на зоне, хоть и мало, но... все равно я не выдерживал. И уходил в бега. Раз такое дело, думаю, отобрали мою свободу, то я верну ее сам — ногами, руками, зубами... кровью, а верну! Вот... Чего тут еще объяснять?
— Ух, хо-хо, хо-хо... — покачал головой Андрей Арефьевич. — И судьбина же тебе досталась, парень, и упрямства у тебя... Ну, а все-таки... в первый-то раз посадили за что же?
— Да ни за что, считай. В том-то и дело, оттуда оно и пошло. Был бы виноват целиком и полностью — отсидел бы свое спокойно, и точка. А меня... Да вы не поверите, небось. Нашему брату мало кто верит — и правильно. Каждый почти, вышедший с зоны, распишет тебе, какой он обиженный, как несправедливо пострадал... А я не расписываю, я честно... Своротил скулу, но ведь за дело же, правильно своротил. Никто не хотел защитить мое... — он с силой стукнул себя в грудь... — человеческое. Окрутили такой подлянкой, что... Э-э, да хватит уж, и без того натрекал я вам
целый воз.
И опять некоторое время сидели молча. Варя сосредоточенно катала по столу хлебный шарик.
— Может, выпьешь еще маленько? — предложил Андрей Арефьевич Евгению. — Осталась твоя лечебная-то.
— Да нет уж, не стоит. И так веселья хоть отбавляй.
"Да, парень, — думал старик, — выходит, коверкало тебя, мяло нещадно... А приверженности особой к выпивке, видать, не имеешь — это заметно. Это хорошо, слава Богу..."
— Вы не думайте, — сказал Евгений, — я скоро уйду. Может... через денек-другой.
— Никто тебя не гонит, — ответил Андрей Арефьевич. — Живи, сколько хочешь. Ты твердо решил — не даваться-то им больше?
— Железно решил. Хватит с меня.
— Ну, тогда никуда тебе сейчас идти нельзя. После первых же двух ночей повтор тебя свалит. И выйдет одна только беда. Месяц надо, чтоб взяться по-настоящему за силу. Не меньше месяца, понял? Так что набирайся сил и обдумывай все свое получше. А там... может, и забудут они.
— Они не забудут.
— А коль так, то тем паче — нужно себя покрепче подготовить.
— Месяц... Да я тут, сидя на одном месте, за месяц-то с ума сойду.
— Не сойдешь, а наоборот... Запомни: здесь волшебное место. И потом — куда идти, ждут, что ли, где?
— Идти... Есть куда. Только... тяжело туда будет пробираться. Может, и не ждут, но... там-то уж я пригожусь, точно.
— Далеко это?
— Далеко.
— Значит, опять же нельзя спешить. Долгая дорога много силы возьмет.
— Да, возьмет, видать, много...
— Хватит уж дутье-то разводить, — сказала Варя. — Обиделся. Поставил бы себя на наше место. Там, в газете-то... любого кинет в дрожь. И — не упрямься давай, тебе дело говорят.
— Да я... — смутился Евгений, — не обижаюсь ничуть, еще чего... Только... как говорится, пора и честь знать. Я же вижу — дед совсем замотался со мной. И... нахлебником-то быть...
— Не будь. Тут дела хватает — понял, наверно, нынче. Деда помогал тебе, а теперь ты помогай — все ему будет полегче. — Варя поднялась из-за стола. — Ну, мне время идти, а то темнота захватит в дороге.
И стала молча собирать в свою колесную суму все грязное для стирки. Потом отломила от буханки кусок хлеба для Ленки и присела на табуретку, держа хлеб на коленях, задумчиво глядя в одну точку перед собой.
— Ты чего закручинилась-то? — тихо спросил Андрей Арефьевич.
— Да так, — вздохнула она. — Уходить неохота. А все ж таки пора. Ладно, я денька через три... Не кисните тут.
Андрей Арефьевич пошел, как всегда, проводить. Поднявшись тяжело, потащился следом за ними и Евгений. Заметно было — его вяжет усталость, и каждый шаг дается с трудом.
— Куда ты, — запротестовал старик. — Ложись, а то... качает вон даже.
— Я немного.
— Тогда хоть на плечи накинь, чтоб не охватило.
И парень послушно поплелся в избу, накинул полушубок. На крыльце он сказал Варе:
— Еще раз... спасибо тебе.
— Да не надо мне никаких спасиб, — поморщилась она.
Ленка ждала во дворе. Варя отдала оленихе хлеб с руки, погладила ее, потрепала за уши ласково и заспешила со своей сумой к жердяным воротцам. Васек бдительно бежал впереди. Андрей Арефьевич едва успевал за ними. За изгородью Варя оглянулась, и Евгений махнул с крыльца рукой. Она кивнула в ответ. И вскоре их уже не было видно за деревьями.
Быстро надвигался вечер. Тоскливо и нудно кричала временами вдалеке какая-то непонятная птица. Евгений зябко стянул на груди борта старого потертого полушубка и, вобрав голову в плечи, присел на перило. Ленка подошла к ступенькам и уставила на него свой влажный темный взгляд, в котором было что-то сиротское, бередящее душу. Несколько мгновений они — большой, измученный человек и красивое доверчивое животное — смотрели друг другу в глаза, словно делясь каждый своей печалью, потом он пошел в дом, взял с тарелки кусок хлеба и принес ей. Олениха понюхала хлеб на ладони, но есть не стала, отошла от крыльца.
Вернулись Андрей Арефьевич с Васьком. Васек был хмур и сразу же улегся отрешенно возле своей конуры.
— Вот, — усмехнувшись с горечью, пожаловался старику Евгений, — даю ей хлеба, а она у меня почему-то не берет.
— Э-э, брат, — ответил тот.:— Ленка резаный не возьмет. Для нее хлеб обязательно ломать надо.
— Это почему же?
— Чует, видать, не выносит запаха металла. Может, помнит с детства.
11
Ночью Андрея Арефьевича разбудил лихой, с ветром, дождь. Налетали порыв за порывом, лес шумел тревожно, и капли дождя временами дробили в стекла обильной осыпью. "Господи, — подумал старик, — как с картошкой-то мы управились хорошо. Лежит сухая в подполе, слава тебе, Господи". Он хотел встать, глянуть на часы — долго ли до рассвета, но побоялся, что еще и парень проснется. А тот спросил неожиданно:
— Тоже не спишь, дед Андрей?
Старик вздрогнул и тут же вдруг ощутил приглушенную пугающую боль в глубине тела. "Ну, ожило под дождичек, — упало у него сердце. — Теперь начнет грызть опять. Эх, мало оно там, во мне подремало..."
— Не сплю, — ответил он. — Думаю вот — картошку-то мы как успели...
— Да, успели вовремя.
— А ты чего же кукуешь? Тебе должно спаться под непогодь-то.
— Отключился рано — выспался, наверно. И потом... шум этот лесной... На душе от него тревожно. Я давно не сплю. И... насчет Вари все думаю. Так ведь и не сказал ты, кто она тебе, откуда взялась.
Старик встал молча и зашлепал по полу босыми ногами — взял спички, подошел к стене и осветил часы. Было четверть шестого. Он положил коробку со спичками на место, улегся опять и молчал еще некоторое время.
—- Расскажу я тебе про Варю, — заговорил наконец. — Только ты, брат, того... Потнесись с понятием, держи при себе. Дело такое — здесь надо побережней. Учти.
— Чего-то уж больно таинственно.
— Как там ни есть, а если я расскажу, то ты виду ей не подавай, что знаешь.
— Ладно.
И Андрей Арефьевич рассказал.
Было это шесть лет назад. Отправился он тогда за черникой к дальнему озеру, и на подходе к месту Васек зачуял вдруг человека. Андрей Арефьевич успокоил собаку и по лесниковской своей выучке решил подойти скрытно, с расстояния сначала посмотреть — кто там есть и какими делами занимается. И неожиданно увидел возле озера девушку, молоденькую совсем. Стояла она на коленях у самой воды и, кланяясь медленно, издавала какие-то непонятные звуки, словно молилась. В руке девушка держала небольшую корзиночку, и когда кланялась, то взмахивала ею и била обессиленно по земле.
Удивленный этой картиной, Андрей Арефьевич сперва никак не мог взять в толк, что же такое творится с нею, почему девушка ведет себя столь странным образом. Мелькнула даже мысль: наверно, сумасшедшая. Он пробрался потихоньку поближе, и все стало ясно. Она плакала. Не чувствуя, наверно, себя, видя сплошную черноту вместо чистого и светлого окружающего мира — жутко рыдала, безутешно. Андрей Арефьевич замер, потрясенный, и не мог двинуться с места: это сколько же надо причинить горя, какую обиду нанести, чтоб человек, да еще в ранних летах, когда только смеяться да радоваться, забрался в лесную глушь и так страшно убивался?
Он смотрел из-за дерева, словно прикованный, а девушка тем временем поднялась с колен и, по-прежнему рыдая, медленно пошла в воду — прямо в юбчонке своей зеленой, в цветастой кофточке. И корзиночку продолжала держать в руке. Она заходила все глубже и била корзиночкой по воде, била.
Только тут дошло до Андрея Арефьевича, что девушка хочет утопиться. Он ринулся сквозь кусты к озеру и закричал:
— Не смей! Остановись сейчас же!
Она вздрогнула, обернулась и, увидев его, выронила корзиночку. И заспешила в .горячке — бросилась еще дальше в глубину, исчезла под водой. Осталась на поверхности лишь одна корзиночка.
— Васек! — приказал Андрей Арефьевич. — Вперед, выручай!
Живо туда, человек тонет!
И собака сообразила мгновенно — кинулась в воду, поплыла к тому месту, где нырнула девушка. А он, не мешкая, скинул с себя обувку, пиджак и устремился следом, хоть и пловец-то из него тогда был уже никудышный — сам запросто мог пойти ко дну. Вряд ли Она утонет сразу, — думал, — обязательно должно вытолкнуть. И не ошибся — показалась из воды цветастая кофточка, и Васек подплыл, вцепился в нее зубами, стал тащить к берегу. Он-то как раз в самой силе находился в те времена, настырность в любом деле большую проявлял.
Девушка нахлебаться как следует еще не успела, была в сознании и, поняв, что ее тащат, стала отбрыкиваться. Но тут подплыл и Андрей Арефьевич, и уж как им подвезло — один только Бог о том ведает, но сумели-таки вдвоем выволочь ее на берег. Она отбивалась и здесь, рвалась обратно в воду. Тогда Андрей Арефьевич, обессиленный вконец, упал на нее и прижимал всем телом к земле до тех пор, пока девушка не затихла. Васек тем временем сплавал опять, приволок в зубах и корзиночку.
А потом Андрей Арефьевич вел ее к себе в избушку. Крепко держал за руку и все боялся, как бы не вырвалась, не убежала. Девушка плакала — теперь уже тихо, и было жалко смотреть на нее, мокрую, измученную каким-то своим горем и неудачной попыткой утопиться. От жалости Андрей Арефьевич не выдерживал и, останавливаясь, приглаживал ее свисающие надо лбом мокрые волосы.
— Не плачь, дочка, — успокаивал он. — Пройдет твое горе, вот увидишь — пройдет. И будешь ты жить хорошо, лучше всех, будешь жить — верь мне.
Она не отвечала — не произнесла ни единого слова, и ему подумалось: а может, девушка глухонемая?
В избушке он быстро приготовил отвар из трав и кореньев, который дает человеку покой и глубокий сон, напоил им девушку. Она уже не противилась, принимала все покорно. И молчала по-прежнему. И Андрей Арефьевич не расспрашивал ни о чем, лишь успокаивал хорошими добрыми словами. Потом уложил ее спать, и девушка проспала долго — остаток дня, ночь и еще целый день. Когда она проснулась, Андрей Арефьевич сказал:
— Я баню истопил, ступай попарься. Только парься как следует, чтоб семь потов сошло.
Он знал, что банный пар не только из тела выгоняет плохое, но и душу очищает тоже — на свет Божий начинаешь смотреть уже словно бы другими глазами. Девушка послушалась — пошла в баню. Вернулась она оттуда румяная, усталая. Опустилась на табуретку и долго сидела неподвижно, глядя в одну точку перед собой. Потом спросила:
— Можно мне еще полежать?
Это были первые ее слова.
— А почему ж нельзя? — ответил Андрей Арефьевич. — Поедим вот вместе, чайку попьем лечебного, освежающего — и ложись, правильно.
Она пожевала немного, чаю попила и легла. И опять спала долго — до утра. Проснувшись, девушка посмотрела на Андрея Арефьевича, словно прося у него защиты, и сказала:
— Не могу... Не хочу я туда идти.
— Куда?
— В деревню.
— А какая деревня-то?
— Озеринка.
— Ух, ты. Да я ведь тоже оттуда.
— Ага, вы, значит, тот самый, который жить остался в лесу...
— Я самый и есть. Дед Андрей.
— А меня Варей зовут. Не могу я туда...
— Ну и не ходи. Оставайся и живи, сколько хочешь. Тут хорошо, посмотришь, какая благодать. Только вот... искать-то не будут тебя?
— Некому меня искать.
И Варя осталась. Она больше не лежала и не сидела, сложа руки, — стала помогать Андрею Арефьевичу в любом деле по дому, и получалось у них все так хорошо и просто, будто они давным-давно приспособились друг к другу, и даже слов не требовалось, чтоб понять одному, чего хочет другой. Словно Варя выросла рядом с Андреем Арефьевичем и воспитана была им. Она вымыла в избе полы, и стены, и потолок, вычистила до блеска каждую мелочь, выстирала не только постельное белье и одежду, но и каждую мало-мальски пригодную тряпочку.
Однажды вечером Варя сидела, сидела молча и заплакала вдруг опять.
— Ну зачем ты? — расстроился Андрей Арефьевич. — Не терзай себя. Пройдет все, уладится — вот увидишь.
— А что у меня пройдет-то — ты хоть знаешь? Я как раз... хочу рассказать. Только вот язык не поворачивается. Ох, тошно вспоминать, не могу...
— Да, может, и не надо, коль такое дело-то?
— Надо. Ты меня спасаешь, душу мне отдаешь, а я буду скрывать? Вот я тебе расскажу, дорогой ты мой деда...
Тяжкая вышла у Вари история. Отца ее, как оказалось, Андрей Арефьевич хорошо знал. Ловкий, справедливый был мужик Николай Зарядин, не из последних в деревне. Мастер на все руки, бригаду полевую много лет возглавлял. Обидная выпала ему гибель. Лежал Николай под комбайном, подтягивал там что-то, а двигатель работал. Подошли,с другой стороны любопытные ребятишки, забрались в кабину, думая, что никого при машине нет, и, рванув комбайн с места, переехали человека.
И осталась Варя совсем одна, поскольку мать ее, Алевтина, умерла еще раньше от тяжелой болезни крови, а из родителей Николая и Алевтины тоже никого уже не было на свете. Отцы у обоих погибли на фронте, а матери, надорвав без мужиков жилы, убрались, не успев даже повозиться как следует с внуками. Варе едва исполнилось пятнадцать лет, когда не стало отца. Горе на нее обрушилось непомерное, но девочка все же не потеряла голову от него. Надо как-то жить, — решила она, — придется, наверно, устраиваться на ферму, если, конечно, возьмут, не станут придираться к возрасту. А учиться в вечерней. Ее не пугала никакая женская работа — ухаживая за больной матерью, Варя с малых лет приучилась ко всему, была в доме за хозяйку.
На ферму ее взяли, и тогда же принялась обхаживать девчонку тетка Палага, сестра покойной Алевтины. Была она вековуха, нелюдимая, злая, а тут вдруг появилась откуда-то в ней сердобольность, начала Палага уговаривать Варю: дескать, иди жить ко мне, вдвоем-то легче станет. А дом твой продадим давай, все равно не суметь тебе его обиходить в таком-то несерьезном возрасте, при работе да учебе.
Посоветоваться Варе было не с кем, она подумала да и согласилась. Покупателя на дом тетка Палага сразу же нашла, и быстро продали. Сначала жилось Варе у тетки вроде бы неплохо, потом пошло хуже и хуже. Палага придиралась к любой мелочи, чем только не попрекала. Терпела девчонка и год, и другой, и третий и поняла наконец, что обманула ее тетка. Да и люди говорили: ох, мол, крепко тебя Палага умыла. Раньше-то не подсказал никто, а теперь только чтобы сольцы посыпать на рану. Деньги от продажи дома Палага положила на свою сберкнижку, и когда Варя заговорила о них, тетка такое устроила возмущение, такую развела арифметику — куда и сколько потрачено, что получалось, будто давно уж не осталось от тех денег ни гроша.
Стала Варя просить квартиру в колхозе, но ей сказали: и кроме тебя, мол, нуждается много людей, да к тому ж семейных, а ты хоть и молода совсем, а уже некрасиво как-то поступаешь — продала хороший дом, а теперь просишь жилье у колхоза, двойную выгоду хочешь иметь. Варя чувствовала: доказывать, что денег от продажи дома она и в глаза-то не видела, — бесполезное дело. Прекрасно ведь понимают все, но учитывать почему-то не желают, считают виноватой ее, Варю. И она молчала. К тому же и характер был отцовский — не умела жаловаться. На очередь, однако, поставили— в память о былых заслугах отца перед колхозом.
А потом уж случилась и главная беда.
Мимо деревни тянули куда-то газопровод, и был у газовщиков неподалеку лагерь — вагончики, в которых они жили, и даже магазинчик свой с хорошим снабжением. Дорога на ферму, где работала Варя, проходила близ лагеря газовщиков, и частенько, завидев доярок, веселые зубастые ребята отпускали такие шуточки, что Варе казалось, будто у нее не только щеки, но и нутро все от стыда краснеет.
И вот однажды возвращалась она с фермы поздним вечером одна — пришлось задержаться из-за отелившейся коровы. Газовщики сидели вкруговую на траве и выпивали — потные, разгоряченные. Стали звать ее к себе, предлагали выпить. Варя даже головы не повернула в их сторону — шагала себе и шагала, стараясь миновать лагерь поскорей. Тогда один из них, рыжий, с широким темным лицом, парень, вскочил и преградил дорогу, схватил ее за руку: "Пойдем, дорогуша, с нами весело. Чего упрямишься? Пошли, не пожалеешь". Девушка вырвала руку и хотела бежать, но он облапил ее и начал тискать. Варя изо всех сил отбивалась, старалась освободиться — рубаху на нем разодрала, расцарапала парню щеку. Но на помощь к нему бросился еще один, и они вдруг потащили ее в кусты, повалили там.
И газовщики изнасиловали Варю — страшно, паскудно. Отбил ее у обезумевших мужиков их начальник. Он помог девушке прийти немного в себя — водой на нее брызгал, потом довел до окраины Озеринки.
Утром она подняться с постели не могла — лежала без движения, закрывшись подушкой. Тетка Палага кричала, что пора на работу, но Варя сказала ей: "Не подходи близко. Убью". И та испугалась — никогда ничего подобного от племянницы не слыхала раньше. А к вечеру заявился Тигунов — колхозный партийный секретарь. Он попросил Палагу удалиться и стал ходить по избе, выговаривать Варе: "Ты что это делаешь-то, девка? Если родителей нет, присмотреть за тобой некому, то, значит, можно на всю катушку? Давай прекращай, а то доиграешься до худого — точно тебе говорю". "Что вам от меня надо?" — спросила она. "К газовщикам кончай шляться — вот что. Посмотри, на кого похожа — губы-то корова, наверно, жевала у тебя? С виду вроде тихоня, а чертей, оказывается, водится — ого-го..." "Да вы, — задохнулась Варя. — Почему вы так смеете? Я же ведь... Они же надо мной..."
Но Тигунов оборвал се — хватит, дескать, темнить, все я знаю. Был у меня начальник газовщиков, предупреждал насчет тебя. Давно туда шляешься по ночам, переспала чуть ли не с каждым. У человека терпение уже на нуле — боится, как бы не вышло неприятности для коллектива.
И Варя бросилась на Тигунова с кулаками. Била, не помня себя, — и по лицу, и по плечам, и по спине, нос ему разбила. Секретарь еле вырвался. Она не показывалась из дома несколько дней. Мозг ее совсем перестал мыслить, не слушались ни руки, ни ноги. Приходил еще кто-то, но Варя спрятала голову под подушкой, ничего не видела, не слышала. Потом что-то все-таки стало подталкивать изнутри: ферма, работа ждет, ругать за прогулы будут.
И утром, не имея в душе никакого сознания, кроме этого туманного, Варя направилась туда, где собирались доярки перед тем, как вместе идти на ферму. И едва только увидела женщин, и те увидели ее, все тело словно пламенем опалило — мозг включился, заработал лихорадочно, высветилась каждая мелочь. И сразу ясно стало по взглядам, по ухмылкам доярок: они знают то, что знает Тигунов, и думают так же.
И Варя не пошла к ним, вернулась домой. В воротах она столкнулась с Палагой. Та отскочила, точно от чумовой, и пробормотала горестно: "Господи, и надо же было приютить мне такую потаскуху..."
Посидела Варя немного на кухне, положив руки на стол и опустив на них голову, потом взяла кор'зиночку и отправилась в лес. Зачем понадобилась ей эта корзиночка, она и сама не знала, пото¬му что вовсе не по ягоды собралась, а хотела уйти из деревни, чтоб не видеть ни домов ее, ни людей, не слышать ни единого человеческого голоса.
Она шла и шла по лесу напрямик, продираясь сквозь чащобы, садилась иногда на пенек или поваленное дерево .и отдыхала бездумно, а потом опять шла, не зная, куда и зачем, не ощущая времени. Наконец вышла Варя к незнакомому тихому озеру. Плавали тут в воде кувшинки, покачивался на легком ветерке прибрежный тростничок, было красиво, покойно и благостно. И все это подняло вдруг у нее в душе невыносимую боль — нет, кричала душа, вовсе не так в мире, нет в нем ни покоя, ни красоты, а только подлость, жестокость, равнодушие. Рыдания душили ее, и в одно кратчайшее мгновение девушка решила, что хорошо ей здесь будет, если скроется она от мира под толщей тихой прохладной воды. Вот тогда уж без обмана — и покой тебе, и благодать...
В тот самый момент и подоспел Андрей Арефьевич.
Прожила Варя на кордоне около двух недель и ни разу больше не вспомнила про деревню, не тянуло ее туда совсем. Он, однако, переживал, видя, как неудобно обходиться ей в одной и той же одежде, и понимая, что, наверно, в Озеринке немалый переполох из-за пропавшей девушки. Надо бы оповестить, думалось, — жива, мол, и здорова. Чтоб успокоились, а то ведь ищут, небось.
— Ты все ж таки, может, наведалась бы в деревню-то, — сказал осторожно, — взяла бы свои вещички. А то переодеться даже не во что, плохо тебе так.
— Я... — сразу же напряглась Варя. — Меня ноги туда не понесут. Лучше в лохмотьях буду ходить, а туда... Пойми уж, деда...
И в глазах проступили слезы.
— Понимаю, — погладил ее по плечу Андрей Арефьевич, — чего ж тут не понять. Но... может, вместе нам сходить? Мне как раз надо там к одному человеку. Со мной-то пойдешь? В самом деле ведь — даже бельишка смены у тебя нету.
— С тобой... — начала успокаиваться понемногу Варя, — пойду.
В Озеринку они пришли к вечеру.
Смотрели на них деревенские удивленно и сразу же исчезали молча — делиться новостью с другими, как полагал Андрей Арефьевич. Дескать, объявилась Варька-то Зарядина. "Делитесь, делитесь", — сумрачно усмехался он внутренне. Так, под взглядами, и довел ее до Палагиного дома. Варя пошла собирать свои вещички, а Андрей Арефьевич направился к председателю колхоза, не сказав ей, куда идет, пообещав, что минут через сорок вернется сюда же, к воротам.
Председатель Виктор Прокофьевич оказался, по счастью, на месте. Был он давним председателем, к Андрею Арефьевичу относился хорошо. И тот поведал ему обо всем.
— Такую страшную обиду, — сказал, — нанесли человеку, и заступиться за него некому. Молодая ведь душа-то, чистая, всем нам грех за нее будет.
— Эх... — сокрушенно качал головой Виктор Прокофьевич, — дела проклятые, дела... Крутишься, как белка в колесе, праведником себя считаешь, а глядишь, и действительно в аду кипеть придется. И чего уж тут оправдываться — упустил по-свински, не поинтересовался по-настоящему. А надо было, ох, как надо — ведь это же Николая Зарядина дочка, осталась одна, без поддержки, без помощи. И вот еще ужасное такое дело...
И они кое-что решили вместе.
Потом Андрей Арефьевич зашел в магазин, закупил все необходимое из продуктов и для домашнего обихода. В магазине было несколько баб — они, переглядываясь заговорщически, жадно наблюдали за ним. Наконец Воробьиха, самая злая на язык, не выдержала.
— Где же это ты, Арефьич, пропащую-то нашу отыскал? Спасибо тебе, а то мы тут с ног сбились совсем. Круги она, конечно, давать умеет, но чего-то уж... больно большой прочертила.
— Бог ее ко мне послал, — спокойно ответил он. — Чтоб от вас подальше.
— Чем же мы перед нею так провинились? Из наших-то вроде... никто ее не трогал.
— Трогали. Она сирота. А вы легковерные дьяволу и трудноверные Богу. За это и спросится. От этого и беды-то все.
Бабы уставились друг на друга недоуменно, а он сложил покупки в рюкзак, надел его и молча вышел из магазина.
Шагали они с Варей до околицы опять же под взглядами. А на дороге, ведущей к шоссе, увидели председательскую легковушку, стоящую у обочины. Когда поровнялись с нею, Виктор Прокофьевич открыл дверцу:
— Садитесь.
Он был один.
Варя растерялась, попятилась было, но председатель вышел из машины, взял у нее сумку и едва ль не силой усадил девушку на место рядом со своим водительским. Андрей Арефьевич устроился сзади — у него гулко стучало сердце.
— А теперь поговорим, — усевшись за руль, сказал Виктор Прокофьевич. Он помолчал немного, подбирая, наверно, слова поудобней. — Знаю, Варя, как страшно тебя обидели. Что же ты ко мне-то не пришла сразу? Разобрались бы, взяли, кого надо, к ногтю... А то не вник я, старый дурак, по-настоящему, и получается... Плохо, короче. Ты уж, дочка, прости меня. Прости, что только вот сейчас... Ну и, значит... сграбастаем мы за хипок этих паскудников. Чтоб три шкуры с них... чтоб... беспощадно. Свету белого не взвидят, гады. Но... нужна, Варя, твоя помощь.
Взгляд ее заметался, она затравленно глянула на Андрея Арефьсвича, потом на председателя и рванулась вдруг, хотела выскочить из машины. Но Виктор Прокофьевич успел схватить Варю за плечо, притянул к себе и держал так до тех пор, пока не почувствовал, что девушка успокивается.
Она сидела теперь поникшая, тускло смотрела под ноги.
— Я понимаю, — начал опять председатель, — тяжко тебе об этом вспоминать, тяжело с этим вязаться. Но... чтобы возбудить уголовное дело, надо...
— Ничего не надо, — тихо сказала Варя. — Пускай живут.
— Что ж, значит, оставить таких подонков гулять по белу свету?
— Пускай гуляют. Спросится.
И Андрей Арефьевич вздрогнул внутренне, вспомнив, как то же самое слрво — спросится — бросил недавно бабам в магазине.
— Выходит, не желаешь категорически? — продолжал председатель. — Но ведь...
— Не желаю.
И Варя обернулась, словно бы ища поддержки у Андрея Арефьевича.
— Правильно, дочка, — сказал он. — Хватит с тебя. От этого легче не будет.
— Ну, тогда что ж... — тяжело вздохнул Виктор Прокофьевич.
— Ладно, коли так. Я на них сам управу найду. А с тобой, Варя... давай-ка мы вот как договоримся. Ты уж меня не бросай — прошу. Сама знаешь — каждые руки, в колхозе на счету. А у тебя руки хорошие, отцовские. Я отпуск тебе оформлю — дней сорок, и отдыхай пока у Андрея Арефьевича, приходи в себя по-настоящему. Постарайся уж простить нас, грешных. И на людей... Люди есть люди. Придет время — поймут. Ну, поехали, значит?
— Поехали, — сказал Андрей Арефьевич.
Виктор Прокофьевич промчал их по шоссе и, свернув на лес¬ную дорогу, ведущую к кордону, рискуя застрять, вез до тех пор, пока можно было ехать — дальше мешали завалы. Прощаясь, он сказал Варе:
— А мы тем временем насчет жилья покумекаем. Придумаем что-нибудь.
И шагали Андрей Арефьевич с Варей к кордону молча, ни сло¬вом не вспоминая о встрече с председателем, будто решено у них было все раз и навсегда.
Продолжила Варя свое житье на кордоне и по-прежнему помогала она старику в каждом деле. Домик у них прямо-таки преобразился — веселым стал и внутри, и снаружи, даже крылечко состряпали вместе, и Варя, как заправский плотник, доски строгала. Хорошо, покойно было рядом с нею Андрею Арефьевичу, и он даже подумал: наверно, и впрямь привел сюда Варю сам Господь Бог — послал в награду ему за все горькое и тяжкое, что довелось испытать в жизни.
И Варе тоже было хорошо. Душа се постепенно возвращалась на место, девушка стала улыбаться, шутила уже иногда. И сильно полюбила она кордон, окрестности его, прикипела сердцем к каждой мелочи тут, не говоря уж об Анфисе, Ваське — участнике ее спасения. Ленки и Рыжка тогда еще не было. И все здесь словно бы отвечало ей любовью, легко принимало се. Подходила, к примеру, Варя к калиновому кусту, разросшемуся возле баньки, и казалось Андрею Арефьевичу, будто куст этот радуется — пробегает по листьям особый какой-то трепет. И название — "волшебное место" дала кордону Варя.
Председатель явился за нею сам. Оставил машину перед зава¬лами и шел пешком километра четыре — дело для него не такое уж и привычное.
— Поедем, Варюха, — сказал он. — Отпуск твой кончился. Да к тому ж надо тебе обживать квартиру — хорошую выделили, удобную.
Варя переглянулась с Андреем Арефьевичем и поняла: нужно ехать. Собиралась вроде спокойно, но перед самым уходом не выдержала — обняв его, расплакалась вдруг.
— Деда, — захлебывалась она слезами, — будь моим родным, прошу тебя — будь. Никого у меня больше нету, один только ты. Я... приходить стану... не оставлю никогда.
— Что ты, что ты... Господи, Боже мой... — растерянно гладил он ее по вздрагивающей спине. — Я и так твой родной, родней нас с тобой нынче, может, и нету никого. И знай: дед Арефьич всегда ждет. И волшебное место тоже ждет, все тебя тут понимает и любит...
Председатель, глядя на них, смахнул слезу и крепко прижал зубами нижнюю губу.
Неизвестно, какую работу провел Виктор Прокофьевич, только стали в деревне относиться к Варе по-иному — жалеть принялись, заботиться. Подступали бабы с услугами, но она не принимала ни от кого ничего и почти ни с кем не разговаривала, больше молчала. Ни газовщиков, тех, что надругались над нею, ни их начальника не было больше на трассе, приехали совсем другие — вежливые и пьющие мало. Эти даже помогали колхозу — какие-то там коммуникации проложили в неурочное время.
И образовалась у Вари такая жизнь, что близко к своей душе она уже не подпускала в деревне никого — ни молодого, ни старого, люди для нее словно бы перестали существовать вовсе. Варя жила, работала среди них, но глядела мимо, сквозь. И многим не по себе становилось от такого ее взгляда. Пожалуй, лишь один человек — председатель Виктор Прокофьевич ощущал, что видит она его, а не пустое место.
Работала Варя очень хорошо —гораздо лучше многих других, потому что делала все с неравнодушным сердцем, с полным старанием. Со всякой трудностью она привыкла справляться сама, а если помогал кто-то, то опять же молчала, как бы смиряясь с неизбежностью.
И каждую неделю добиралась Варя до кордона с неизменной колесной сумой, вела тут все женские порядки, помогала Андрею Арефьевичу в любой, зачастую даже и сугубо мужской работе. И отпуска свои от первого до последнего дня она проводила только здесь. На кордоне Варя и смеялась, и поговорить любила от души, словно там, в деревне, было у нее какое-то временное, вынужденное пристанище среди чужих, а тут — родной человек, родной дом, все родное. И душу ее занимало по-настоящему только это.
— Вот, значит, тебе про Варю, — закончил свой рассказ Андрей Арефьевич. — Знай теперь. Только знай аккуратно, не повреди, гляди, сердце-то ей словом каким неосторожным. Тут, брат, дело тонкое...
Евгений молчал.
Продолжал шумными наскоками гулять по лесу ветер, по-прежнему хлестал в окна дождь.
— Ты не уснул ли? — спросил старик.
— Нет.
12
Ненастило второй день, и парню стало хуже — его знобило, во сне он временами горячечно бормотал что-то. Андрей Арефьевич тоже в основном лежал — нездоровилось и ему. Грызло, подъедало изнутри, посылая, словно по тонким невидимым ниточкам, болезненное нытье во все уголки тела. Он, однако, пересиливал себя — вставал, кормил кур, Ленку, Васька и Анфису, не забывая и о Рыжке, появлявшемся время от времени. И продолжал давать лекарственные снадобья Евгению. Дела не Бог весть какие тяжкие, однако быстро утомляли и они. Хорошо, хоть оставалась еще еда, сготовленная Варей.
— Говорил я тебе, — ворчал на своем топчане старик. — Рано вылезать на огород-то, отлежаться надо ненадежней. А ты полез, никакого угомону... Вот и достукался — корежит опять. Нисколько ты моего труда не уважаешь.
— Уважаю, дед, зря ты так. И нечего тебе беспокоиться. Видать, остатки из меня вышибает. Будто сверху она сопротивляется, болезнь-то, а нутро бодрое, силу в. нем уже настоящую чувствую. Чую, что скоро буду на ногах прочно.
— Ох, ты, чуятель. Поостерегся бы загадывать-то.
— Точно говорю. Вот увидишь. Ты лучше сам-то поберегайся. Если дело какое — скажи, я сделаю. А то... неважнецки тебе, гляжу.
— Все у меня важнецки, — раздражался Андрей Арефьевич оттого, что заметно, оказывается, со стороны. — Выдумывает лежит...
— Варя в такую погоду, наверно, не придет, — сказал вдруг Евгений.
— Да еще рановато ей вроде.
— А знаешь, дед Андрей... Давай впустим Васька.
— Вон чего. Собаке во дворе место, а в избе какая от нее служба?
— Ну... разреши уж разок-то. Плохо же там одному — дождик да ветер.
— Ты, Женька, прям... как маленький. Вынь ему да положь. Впускай, чего ж теперь с тобой поделаешь.
Парень, встал и, накинув на голое тело полушубок, пошел в сенцы.
— Штаны-то надень хоть! — всполошился старик. — Охватит же опять, глупота ты упрямая.
— А, ничего, — отмахнулся тот.
Выйдя на крыльцо, Евгений позвал собаку, и она мигом оказалась возле Него. Когда Васек осторожно, все еще не веря, что позволяют, ступил в избу, Анфиса, которая лежала возле печки, вскочила и, выгнув спину дугой, подняв шерсть на загривке дыбом, уставилась на него округлившимися зелеными глазами, словно гипнотизируя. Рыжок на шкафу зацвыркал возмущенно, задергал своим пушистым хвостом.
— Интересное получается дело, — покачал головой Евгений.
— Там, на дворе, они вроде бы все свои, а здесь... Пришел Васек в тепло к ним, и гляди-ка ты — как на чужого.
— Да нет, — сказал Андрей Арефьевич, — ничего. Это они с непривычки. Свое ведь у каждого место.
Васек, виновато и в то же время радостно повиливая хвостом, подошел к нему, и старик погладил собаку, потрепал за шею:
— Явился, баловник? Ну, ладно, давай грейся, коль так.
И вскоре Васек уже спал, блаженно растянувшись возле кровати Евгения. И тот спал тоже — его свесившаяся рука касалась головы собаки. "Надо же... — подумал Андрей Арефьевич. — В душе у парня чего-то того... Тепла, видать, охота душе-то". И, может, от этой мысли, от вида их, спящих, а может, еще по какой причине, но через некоторое время стало ему гораздо легче — отступила вглубь, убрала свои нити боль.
И сам он незаметно уснул.
А утром с ласковым теплом светило солнце, и стояла вокруг благодатная тишина, слышно было даже, как, шурша, опадает с деревьев лист. "Ну, — подумал Андрей Арефьевич, — это слава Богу, это теперь постоит". Он понял, что пришло бабье лето.
Боль не беспокоила, и старик с настроением принялся за дела. Потом проснулся Евгений, сел на кровати и потянулся с хрустом.
— Ну-у, дед, я тебе говорил, что конец моим болячкам. Давай какой-либо общественно полезный труд, а то буду деревья с корнем дергать.
— Дурное дело нехитрое. А труд... Найдем труд. Вот позавтракаем сейчас, и можно дрова попилить — давно уж лежат возле сарайчика. Только ты больно-то героя из себя не строй. Состроил уж один раз. Тебе надо еще беречься да беречься.
... Дрова были нетолстые — Андрей Арефьевич старался выбирать в окрестностях валежины, которые и погрузить на двухколесную тележку можно без натуги, и везти под силу. По три-четыре бревешечка возил, и набиралось за лето с избытком. Пилить их, да еще вдвоем, одно удовольствие, однако Евгений, как оказалось, сроду не имел дела с двуручной пилой. Он с силой тащил ее на себя и отдавал тоже слишком усердно — пила застревала в резе и гнулась. С таким напарником старик быстро умаялся.
— Да не тащи дуром-то, — вышел он из терпения. — Ты вникня. Пила двуручная — так? Пилят два человека. А ты таскаешь меня туда-сюда, словно .пилишь один. Надо, чтоб двое в одно — понял? Даже и не рукой нужно действовать, а душой. Рукой придерживаешь, а душой посылаешь пилу в нужный момент ко мне. А я в нужный момент — к тебе. И получается, что сама она пилит, а мы только так, направляем полегоньку. Когда две души в одно, то идет легче легкого. Ну, ясно тебе или нет?
— Да на словах-то ясно, — смотрел виновато Евгений. — А на деле чего-то вот никак.
— А это... такой уж ты, видать, по характеру. Соединение произвесть с другой душой — трудная для тебя задача. У вас, похоже, у многих нынче подобный настрой — все сам да с усам, а человека рядом во внимание не берете, хоть и делаете общее с ним дело. Вот Варятка — та как-то умеет потрафить, та ловит с лету.
— Варятка, Варятка... — пробормотал раздраженно парень. — Гляди-ка ты — примерная. Сам ведь рассказывал — только с тобой она в одно-то, а среди остальных людей тоже "с усам". И потом... Как там ни слету, а в любом деле нужна практика. Варе, может, с детства приходилось пилить, а я... где мне? В детдоме не доводилось — там у нас отопление паровое было. Не только пилить, а помню вот... после ПТУ стал я жить в рабочем общежитии, и взял меня мандраж: как же теперь питаться? Даже чай заваривать не умел — всегда ведь пил его готовый, заваренный уже.
Попросить кого-нибудь, чтоб научили, — стыдно, думаю, засмеют. Пошел я, значит, на кухню, ухнул в чайник целую пачку индийского, залил водой и вскипятил. И, само собой, пить потом не стал — чернота, горько. А в лагерях... там такую пилу не особо-то и доверят — боятся, что пустят ее на ножи.
— Практика — оно, конечно... — несколько опешил Андрей Арефьевич. — Это дело наиважнейшее, прав ты. Вот мы с тобой маленько поучились, и вроде уже идет получше.
Некоторое время пилили молча, потом старик сокрушенно покачал головой и сказал:
— А все-таки странно мне. Странная получается штуковина.
— Чего тебе странно-то?
— Ну сам посуди: вырос человек, выходит в мир Божий, а пилу в руках не держал, не знает, как по-настоящему перепилить дерево, даже чай заваривать его не научили. А вот автомат... Ты только не обижайся — я по душе, взяло меня за душу. Небось, и тогда, после ПТУ, дай тебе автомат — и сумел бы управиться с ним как
положено.
— Конечно, сумел бы. Что ж тут хитрого? В училище военный кабинет был, военрук.
— Вот я и говорю. Для тебя тут ничего хитрого, хотя не простая машина-то — автомат, для убийства людей предназначен. Здесь надо и прицел точно установить, и патрон дослать, и прицелиться,
спуск нажать правильно. И все это ты умеешь. Значит, что же — идет в мир человек, готовый... чтоб мог убить человека же. А чтобы он мог умело прокормить себя или другого... Или хоть вот пилить с другим в одно... Такое вроде и не обязательно. Страшное получается дело. Самому-то тебе неужели не удивительно?
— Ничего мне не удивительно, дед. Мне тошно.
— И... наверно, много нынче таких.
— Много. Гораздо больше, чем таких, как Варя.
Евгений помрачнел, и Андрею Арефьевичу тоже стало не по себе, он жалел уже, что затеял этот нелегкий разговор.
Понемногу, однако, дело у них налаживалось — парень приноровился, не выбивался больше из ритма, и потекла работа легко, отрадно.
— Ну, брат, — сказал старик, — зря я, видать, на тебя напустился. Сумел ты ухватить ноту — эк поется-то у нас.
— А ты думал, мы лыком шиты? — задорно улыбнулся тот. — А то все Варятка у него, Варятка...
— Выходит, обмишурился я. Так что извиняй уж.
Ленка подошла к Андрею Арефьевичу и толкнула его легонько лбом в бок.
— Ага, — перестав пилить, повернулся он к ней, — прямо посреди дела подавай тебе внимания и ласки. Избаловал я тебя — вот что.
И стал почесывать ей шею. Ленка от удовольствия задирала голову все выше, а Васек сидел рядом и, помахивая хвостом, внимательно наблюдал за этим действом — завидовал, а может радовался за олениху. Пребывала неподалеку и кошка — лежала, вроде бы безучастно, возле сарая на колоде, предназначенной для рубки сучьев и всего прочего. А глянув кругом, неожиданно обнаружил Евгений и Рыжка — тот качался на ветке молодого клена, стоящего между сараем и домом. Большие желтые листья срывались с этой ветки и, медленно кружась, опускались на землю. Белка вдруг спрыгнула с дерева, и куры, которые бродили под ним, бросились от испуга врассыпную.
— А куры, — спросил Евгений, — наверно, опасно им тут? Может ведь лиса стибрить или еще какой-либо зверь.
— Да нет, брат, за Васьком они как за каменной стеной. Где собакой пахнет, туда лиса не пойдет. А если пойдет, то не сдобровать ей — чутье у него отменное. Старик шутливо оттолкнул олениху и оглядел все вокруг просветленным теплым взглядом. Ничто не напоминало о недавней непогоде, словно вовсе и не было вчера ни дождя, ни порывистого ветра. Тихо роняли чуткий лист разомлевшие на солнце деревья, расцвеченные осенними красками, едва ощутимый ветерок проносил над огородом стоймя паутину. И притягивала к себе душу, волновала чистая небесная синева, распростертая над лесом.
— Господи, — вздохнул Андрей Арефьевич, — как хорошо все устроено на свете для человека. И как плохо человек устраивает для всего. Любую непомерную сложность кидается делать враз и делает — хребет себе ломает, а делает. К примеру, здоровенную какую-нибудь плотину или быструю леталку, чтоб сигануть от земли подальше. А самое простое и выгодное — любовь к ближнему — не может постигнуть, хоть ты убейся. Неужто так и... никогда? Ох, жалко...
— Интересный ты, дед, — усмехнулся Евгений. — Пожалуй, я таких дедов еще не видал.
— Старый я — чего тут интересного? Жизнь кончается, уж больно охота, чтоб зажили хоть маленько по-человечески. Вот тебе и весь интерес.
Потом, когда пилили опять, «поинтересовался парень насчет кордона: почему все здесь — государственная, наверно, собственность — осталось за Андреем Арефьевичем, несмотря на то, что он давно уже на пенсии, не лесник. И старик рассказал, какую баталию пришлось в свое время выдержать.
Перед тем, как выйти ему на пенсию, решили кордоны ликвидировать — дескать, неудобно людям постоянно жить в лесу, в отрыве, и пришла пора проявлять о них заботу. Обеспечат мотоциклом, и пускай себе едет лесник проверять угодья из своей деревни или с центральной усадьбы лесничества, если там получит жилье, хватит ему ноги мять. Андрей Арефьевич отказался — мне, мол, хорошо и так: не надо никакого мотоцикла, на ногах сподручней. А на пенсию если выйду, то службу лесниковскую не брошу и платы за это никакой с лесничества брать не стану — пусть считается, что отрабатываю за избу. Хотя, в общем-то, давно уж за нее отработал, находясь пол-жизни на службе при такой-то невеликой зарплате. Да к тому же и сил, и всего другого вложено в дом намного больше, чем его постройка.
И что тут началось! Уламывали и так и разэтак — мы, мол, не имеем права нарушать директиву, и ты обязан подчиниться ей, тебе же делают как лучше. Он пытался доказать: ведь кордон для меня родное место — вон сколько лет прожито здесь. Дерево, отрезанное от корней, сохнет, и с человеком происходит то же самое. И главное — дело-то ничуть не пострадает, если не тронусь я отсюда никуда. Мытарили до самой пенсии, а потом и вовсе заявили: не нужна нам твоя дальнейшая работа, ты для нас теперь никто, а потому и выметайся быстренько с казенного места. Отчаялся вконец — неужто идти к Веронии на поклон? Это какая же лакомая добыча будет для нее и Федьки, для деревенских...
— Наверно, кто-либо из начальников под дачу себе хотел приспособить? — спросил Евгений.
— Да в том-то и дело, что нет. Если бы под дачу, может, и не так было бы обидно. Просто снести хотели, ликвидировать жилое место — и точка. Бес в человеке сидел — в лесничем нашем. Я тогда в первый раз как следует задумался: сколько же на русской земле таких, в которых восседает бес... Простая тебе штука — жизнь-то наша, она ведь состоит из нас, из людей. А кое-кому бес замазывает глаза, заслоняет ему людей-то. Такой выполняет вроде свою работу, изо всех сил старается, а на самом-то деле бесовскую — ломает человеческую душу, судьбу. И не видит, совсем не замечает этого. Сломает — и доволен. Успех у него — победа. А в жизни-то образуется дырка. Одному сломал — дыра в жизни, другому — еще дыра. Вся наша жизнь в дырах, куда ни прислонись — проваливаешься... Вот и в Веронии... тоже, считаю, бес. И в начальнике газовщиков, который на Варю напраслину возвел, и в Тигунове, парторге, тоже,..
— Ну и что дальше — с кордоном-то?
— С кордоном... Опять же выручил Трофимыч Буланов, друг мой. Который печку мне в бане клал — кажись, говорил я тебе про него. Неимоверного томления был человек.
— Это как понять?
— А так — всегда он, бывало, томится, когда другому рядом плохо, переживает за все и за всех, любая мелочь берет его за бока. Вот уж поистине — имел в душе Бога. Я тогда, кордон-то свой отстаивая, до самого донышка силы вымотал, махнул уж, считай, рукой. А Трофимыч не поленился — поехал в область, сумел там пробиться к начальнику в управлении. И рассказал ему: есть, мол, у нас лесник такой, Ловелин, и вот как его хотят обидеть. Удивился начальник: что же, дескать, плохого, коль человек привержен к лесу, и пожелал там остаться? Пускай себе живет и
работает, если хочет. А не хочет — отдыхает пусть, заслужил. И опять же польза — свой человек в лесу, все лишний раз присмотрит, сигнал какой-нибудь даст насчет безобразий. Вот, значит... У этого, может, и Бога особого не имелось в душе, но и беса не было тоже. И позвонил он прямо при Трофимыче, отругал нашего лесничего крепко. Ну, и отстали. И еще я работал целых семь лет, потом уж притомился.
— Ты на пенсии, а лес-то теперь охраняет здесь кто-нибудь по-настоящему? ,
— Да, почитай, и нету никакой охраны.
— Почему ж так?
— Года два назад передали этот угол заповеднику. А у них там людей мало пока, почти и не дотягиваются толком сюда, на окраину. И потом знают, что я здесь — какая-никакая, а все же острастка. И про Лешку Хлудякова знают — что он и себе, и другим в мой край дорогу закрыл. Заглядывает изредка Козлятьев, егерь. Был как-то по весне.
— Сейчас-то не заглянет?
— Не бойся. Придет если только по пороше.
Васек вдруг взвизгнул радостно и со всех ног бросился к жердяным, воротцам — во двор входила Варя. На сей раз почему-то не было при ней колесной сумы, несла она в руке лишь целлофановый пакет, в котором виднелось немного грибов. И с собакой, как обычно, "здороваться" не стала, отстранила ее:
— Погоди, Васек, погоди.
Старик сразу почуял неладное.
— Пошли в дом, — сказала Варя. — Поговорить надо.
Евгений поднял автомат, подсумок, которые лежали неподалеку, и она, глянув мельком, помрачнела еще больше. Однако промолчала.
13
В избе Варя присела на табуретку возле стола и, переводя дух, напряженно вздохнула.
— Ну, — поторопил Андрей Арефьевич, — говори Давай. Чего-то напужала ты нас.
Она вздохнула опять, опустила на пол пакет с грибами и сказа¬ла Евгению:
— Тебя ищут.
— Кто? — в нем подобралось все мгновенно, шевельнулись крылья красивого прямого носа, и лицо вытянулось слегка, закаменело. — И где?
Варя рассказала.
Сегодня утром явился к ней посыльный из сельсовета — срочно, мол, вызывает председатель. Она пошла. Возле сельсовета стоял новенький зеленый "УАЗ", а в кабинете председателя кроме него были еще люди — Червоннов, участковый, в форме и при кобуре своей, и трое незнакомых в штатском. У этих Варя тоже увидела оружие — такое, как у Евгения, только покороче. "Вот, Зарядина, — сказал председатель, — поговорить с тобой хотят". Она испугалась. "Мы тут узнали случайно, — обратился к ней один из незнакомых, который был постарше, — что у тебя вроде бы родственник в лесу живет. Или... кто он там тебе..." "Деда мой, — ответила Варя. — Точно, живет в лесу, на девятом кордоне". "А ты бываешь у него?" "Почти каждую неделю. Недавно вот была, два дня назад". "Ну и... не заметила ничего особенного?" " А что там может быть особого? Кордон — он и.есть кордон. И деда... живет как жил". Мужчина внимательно смотрел на нее, и остальные тоже не спускали глаз. Он помолчал немного и продолжал:
"Тут, видишь ли, дело такое... Ты, может, слышала — бежал из мест заключения опасный преступник. В газетах писали. Читала, может?" "Читала". "Вот, значит. Месяц назад в лесу, неподалеку от сто восемьдесят второго километра шоссе, видели человека. Видели, правда, на довольно большом расстоянии, но приметы вроде
совпадают. И с той поры больше не выныривал. Есть предположение, что скрывается где-нибудь в здешней округе. Может, конечно, и ушел, давно уж в других краях, но все-таки решили мы взять под контроль каждое жилое место в лесах. А тут вдруг выясняется, — мужчина улыбнулся, — что кордон-то ваш тю-тю. Нет его у нас на карте. Давай-ка уж покажи, где прячется твой дед". Он вынул карту и развернул на столе, помог Варе сориентироваться на ней.
Дали карандаш и попросили обозначить дорогу, ведущую от шоссе к кордону, сам кордон. Узнав, какая мера длины принимается тут за километр, Варя все им начертила. "Это у нас значит... — склонился над картой один из тех, что были помоложе, — двадцать первый квадрат". "А где сто восемьдесят второй километр?" — спросила Варя. Ей показали. "Не так уж и далеко, — сказала она. — За такое время давно мог бы набрести на кордон. Все-таки...
целый месяц". "Тут не угадаешь, — ответил старший. — Может, вообще не появится, а вдруг завтра его туда занесет или через неделю. Поэтому и надо быть готовыми".
— Та-ак ... — Евгений встал резко и, сложив руки на груди, прошелся туда-сюда по избе. — На квадраты, значит, разбили... Ладно, надо уходить.
— Нечего тебе уходить, — сказала Варя. — Я их завтра сюда приведу.
Он повернулся к ней и замер, коричневые глаза стали совсем темными — расширились зрачки.
— Ты что? Неужто заложила меня? И... хочешь, чтобы я их тут дождался?
— Ты, Варятка... — поражение смотрел на нее и Андрей Арефьевич. — В самом деле... зачем они здесь нужны?
— Куда ты сейчас пойдешь? — сказала Варя, обращаясь к Евгению. В голосе ее дрожала обида. — Лишь одному кому-нибудь стоит увидеть тебя — и попадешься. Каким осторожным ни будь, а от каждого глаза не спрячешься, глаз много. Даже ведь и не подозревал, что тебя видели, а они уже знают — скрываешься где- то здесь. И надо... привести их сюда. Пусть убедятся по- настоящему, никого чужого нет. Переждешь в лесу, а уйдут — вернешься. А потом-то они уж вряд ли появятся — будут надеяться на лас с дедой. Я в сельсовет сообщать стану: ходила, мол, на кордон, все там нормально, никого и ничего. А то сразу — заложили его... Если б заложила, теперь бы уж в машине у них сидел.
И Евгений, и Андрей Арефьевич молчали, ошеломленно глядя на нее.
— Жень, — опомнившись наконец, первым обрел дар речи старик, — а ведь, кажись, дело она предлагает. Только и выход-то — ни шагу отсюда, выждать время. Они сомнение, вишь, имеют: не выныривает — может, здесь, может, давно не здесь. А не вынырнешь еще, к примеру; месяц, глядишь, и успокоятся: ушел, дескать.
— Успокоятся... Да, пожалуй, и вправду никуда сейчас не сунешься. Залетишь враз. Но сколько же мне здесь торчать-то? Месяц это... с ума сойти...
— А неохота торчать, — нервно усмехнулась Варя, — тогда ступай залетай. Заложенный ты наш.
— Да не обижайся уж, — избегая смотреть на нее, сказал Евгений. — Тут святой психанет. Ты чего ж, договорилась уже с ними? Насчет завтра-то?
— Ну вы ведь не хотите слушать. Перебили, свое понесли — закладывают вас.
— Не обижайся, говорю. Напылил — и унесло ее, пыль-то. Извини... раз уж такое дело. Рассказывай давай.
Когда там, в сельсовете, закончили с картой, Варя была ни жива ни мертва — думала, что они сразу же отправятся на кордон. Ее спросили: "Ты в ближайшее время не собираешься туда?" "Да я... недавно же оттуда. — И вдруг Варю осенило. — А теперь... напугали меня, страшно за деду. Вы сейчас... куда поедете?" Старший повернулся к своим: "В урочище Бельское-то собирались — наведаемся? Надо бы посмотреть расположение на всякий случай. "Надо заглянуть", — ответили ему. "Едем в урочище Вель¬ское, — сказал он Варе. — А ты что хотела?" "Я хотела... Может, вы завтра... на кордон? И меня возьмете. А то боюсь — вдруг и в самом деле... Без меня-то еще и не найдете — дорога глухая, развилки есть, завалы. Поговорили бы с дедой, объяснили ему, как себя лучше вести, если что..." "Та-ак... Завтра... — задумался старший. — Не мешало бы, конечно, заглянуть и туда. Подготовить действительно старика, проинструктировать вас обоих. Чтоб и там у нас полный ажур... Тоже нужно бы, а?" — опять обратился он к своим. И решил, не дожидаясь ответа: "Ладно. Заедем завтра за тобой в восемь утра. Идет?" "Идет. Только вот... с работы мне..." "Отпросим тебя с работы, не беспокойся". Варя пошла домой и, увидев на улице старуху Девяткину, сидящую на скамейке возле своего палисадника, подсела к ней, хотя и не любила говорить ни с кем, заговорила — сейчас уже и не помнит, о чем. А сама все посматривала на сельсовет. Приезжие вскоре вышли, уселись в машину и укатили. Варя, забежав домой, взяла целлофановый пакет и направилась к лесу, но не через околицу, как обычно, а задами, потом оврагом — совсем с другой стороны. К шоссе она выбралась довольно далеко от поворота на Озеринку. И тут некоторое время наблюдала из леса, не решаясь голосовать — боялась, как бы те не проехали мимо и не узнали ее. Но наконец отважилась выйти на трассу, остановила попутный грузовик. И когда шофер высадил ее, то почти бежала к кордону, успевая срывать на ходу и класть в пакет грибы, попадавшиеся на глухой лесной дороге.
— Ну, ты... — пытался подыскать слова парень. — Прямо и не знаю... Для меня так еще никто... И не видели тебя, значит?
— Да вроде нет. А может, случайно и попалась кому на глаза. Ты-то, наверно, тоже думал, что не замечен нигде. Но у меня вот, — с усмешкой кивнула Варя на пакет, — за грибами я ходила. Супу грибного захотелось.
— Ей Богу... Спасибо тебе.
— Не надо, — сказала она тихо. — Тут кроме тебя еще и деда есть, ему бы тоже, наверно, не поздоровилось. А если уж о твоем... — Варя вдруг заговорила громче, и голос ее задрожал, — если хочешь нам добра, то пойми ты нас... по-честному. Мы ведь тоже... преступление на себя берем. И... время у меня пока есть, на дойку успею. Расскажи уж до конца, вправду ты не виноват или... может, наврал нам тогда. За что тебя в первый-то раз посадили? Только честно. В такой момент... не бери греха на душу, а то... тяжелый будет грех. Я, когда шла сюда, решила: пусть расскажет.
Коль уж пошло на то — в душе у нас должно быть... Чтоб все ясно, и никакого сомнения.
Андрей Арефьевич молчал, упрятав глаза под седыми бровями, однако же видно было —- он одобряет сказанное ею.
— Да я... — парень сел и, беспомощно как-то устроив на коленях свои большие руки, тяжело вздохнул. — Ничего я вам не убавил, не прибавил. Как рассказал, так оно и есть. И ты поверь... — он поднял голову и пристально посмотрел на Варю. — Вот ей Богу: с вами мне почему-то ничуть даже и не врется. И расскажу, чего тут скрывать. Только лучше уж с самого начала. А то я о вас знаю все, а вы... — поняв, что проговорился, он беспокойно перевел
взгляд на старика и покраснел с досады на самого себя. — В смысле... о тебе, дед, все знаю, ты мне рассказывал... Ну, значит, и обо мне знайте тоже.
Они слушали, кажется, вовсе и не заметив этой его досады, и Евгений продолжал:
— Кого ни спроси, откуда он вышел на свет Божий, и любой скажет: из утробы матери. А мне насчет матери сказать нечего, у меня точные сведения только о том, что появился я из посылочного ящика.
— Как так? — оторопел Андрей Арефьевич.
У Вари от удивления приподнялись уголки глаз возле висков. '
— А очень даже просто, — усмехнулся Евгений.
Действительно, обнаружили его, грудного, в посылочном ящике на почте. Ящик этот оставил кто-то на столе. Хорошо хоть, что папа с мамой — или одна мама, кто их там знает, — не прибили крышку и адрес не написали на ней чей-нибудь, а то заслали бы такую посылочку в далекие края, и получили бы там, вынули из ящика маленький трупик. А может, и вынимать не стали бы — зачем на гробик-то тратиться, он, считай, — готовый. Наверно, побоялись отправлять — чего доброго, заплачет сыночек во время оформления посылки, запросит маминого молочка.
Имя и отчество дали ему в доме ребенка. Неизвестно, в честь кого назвали, наверно, просто понравилось сочетание — Евгений Сергеевич. А происхождение фамилии вполне понятно — Найденов. А потом детдом. Особо плохого ничего о нем не скажешь — жили там дружно, хотя и не всегда, сыты были вроде, одеты. Ну били, бывало, в холодную комнату запирали. Запомнилось что — очень мало "можно" и очень много "нельзя". Так оно и дальше пошло по жизни, словно прилипло. И болезненная зависть — завидовали тем, у кого все же имелись мать или отец, пусть даже лишенные родительских прав, пьяницы или преступники. Тетя Клава запомнилась — самая добрая из всех служащих детдома. Каждого она жалела, успокаивала, каждого чем-либо выручала. Когда был в первом побеге, то, проголодавшись вконец, разыскал ее, и тетя Клава подкармливала целых две недели, принося еду в условное место, не выдала его никому. В ПТУ на токаря учился, нравилось. И говорили, что у него большие способности. Но там же укрепил и детдомовское умение драться — без этого было никак нельзя: забьют, затравят. Когда пришел на завод, поначалу все шло пучком, хорошо то есть. А потом часть его, Женькиной, выработки мастер приноровился приписывать своему дружку, который работал на том же станке, только в другую смену. А однажды дружок этот запорол по пьянке станок — новый совсем, зарубежный. Женька пришел на смену, включил, ничего не подозревая, — и грохот страшный, искры во все стороны. И начал мастер валить на него. В цехе почти каждый усек, как оно было на самом деле, а некоторые и доподлинно знали. Но помалкивали — боялись мастера. От него же заработок зависит, да и рыльце у многих в пуху из-за прогулов и выпивки. Может, еще и заступились бы — наверно надо было потерпеть. Из рабочих кое-кто, начальник цеха относились к Женьке вроде неплохо, в профкоме или парткоме, глядишь, разобрались бы. Но мастер орал, оскорблял, а потом и вовсе начал выталкивать — катись, дескать, с глаз долой, я все видел, разберемся и без тебя. И Женька не выдержал — уделал его прямо тут же. Сильно избил, беспощадно. И когда бил, за мастера тоже никто не вступился. Лишь позже нашлись заступники — старались на суде. Так вот и сел.
Евгений замолчал. Желваки упруго ходили на его резко очерченных скулах. Потом он вздохнул прерывисто и продолжал:
— А о лагерях — чего о них... Одно скажу: паскудного там за мной не водилось, выживал без сучьих повадок. Вот в побег уходил когда... Эх, да если уж по честности, то по честности. В бегах было — и воровал, и даже... приходилось грабить. Два раза. На темной улице, помню... Пожилой шел мужик, а я голодный, как подзаборная собака. Подвалил к нему : "Дай двадцать рублей, жрать не на что". Он испугался: "У меня двадцать не наберется". "Давай сколько есть". Руки у него трясутся, выгреб все, что имелось — восемь рэ с копейками. Хм... помнится до сих пор сумма-то. А во второй раз — женщина встретилась, сумка у нее с продуктами, и кошелек в сумке оказался — четвертной в нем и тоже копейки. Вот... И воровал... опять же только для прокорма, ведь иначе-то — кранты. Меня и взяли в побеге в первый раз — на воровстве этом кормсжном влопался. Сдыхал с голоду, и потерял всякую осторожность — поперся, дурак, на вокзал. В буфете, гляжу, пирожные — прямо на прилавке лежат. А у меня голова мутится, плывет все. Покрутился, покрутился рядом и — хватъ потихоньку. Буфетчица заметила, как заорет. Но пирожное проглотить успел-таки... Еще с веревки во дворе как-то... из одежды кое-что. На окраине города. Одет-то был наполовину в лагерное, ну а... чтоб не мозолить в таком виде глаза... А чтоб там на дело ходить с ворами или другой какой уголовной сволочью... Это никогда. Я на них в лагере хорошо насмотрелся и невзлюбил их сильно. Лучше возле бродяг. Они, ворье-то, не раз хотели захомутать-затянуть меня в подручные да подучить, но ничего у них не вышло. Паспорт обещали, потом били смертным боем, думал — конец. И они думали, что конец, потому и отцепились. А я отлежался у бродяг в подвале и сумел перебраться подальше — в другой город. Я вам честно. Хотите верьте, хотите нет, вот...
И он вдруг перекрестился.
Некоторое время сидели все трое, словно связанные общим каким-то оцепенением, не глядя друг на друга. Потом Андрей Арефьевич спросил:
— Ну вот... убегаешь ты, к примеру. И какая же у тебя надежда?
— В первый раз когда сидел, подал жалобу. Пришла бумага — смотрели, дескать, осужден правильно, для отмены приговора нет оснований. Подаю выше — то же самое. Тогда и надумал уйти в побег. Мыслил по-дурацки: убегу, мол, и прорвусь к самому главному начальнику — к судье или прокурору. Расскажу истинную правду — ведь в деле-то перевернуто все, наврано, и узнать об этом он может от одного только меня. И пересмотрят, отпустят. Ох, дурак был... Хорошо, хоть умных людей довелось встретить, когда кантовался в бегах. Бродяга один, инженер в прошлом, все
мне разложил по полочкам. Это же, говорит, форменным идиотом надо быть — бежать из лагеря для того, чтобы самого себя привести обратно в лагерь с добавлением срока.
— Ну, а потом-то?
— А потом началась свободная болезнь, Я уж говорил. Талант почуял в себе — правильно засечь момент. Ладно, думаю, вы меня будете сажать, а я буду уходить в побег. Как ни охраняйте, а все равно уйду. Лучше во время погони пулю схлопотать, чем торчать в вашей распроклятой зоне, куда засунули несправедливо. Азарт появился, будто в интересной и опасной игре. И только вот в этот раз... В этот раз я цапнул момент не просто так, не с бухты-барахты. Заранее хорошенько все пообдумал — куда и как мне на воле... Помог кое-кто. Теперь есть надежда. Только надо изо всех сил стараться не залететь. Из кожи вылезть, а проскочить, просочиться. Чую, тяжело будет. Сейчас пока цветочки... А вообще-то не угадаешь — может, как раз дальше хорошее везение пойдет.
Андрею Арефьевичу хотелось узнать, что же за место такое, где Евгений надеется и от розыска спастись, и жизнь свою вроде бы устроить, и почему настолько трудно туда пробраться, но спросить он все же постеснялся.
И Варя спросила совсем о другом:
— А когда поймают... Ругаются, наверно?
— И бьют.
— Бьют? Сильно?
— Они умеют бить.
И опять молчали — слышно было, как жужжит, запутавшись где-то в паутине, муха.
— 0-ох... — вздохнула Варя. — Камень на душе. Легче он стал или тяжельше — не пойму никак. Вроде бы полегче. Господи, забыла совсем... — Она достала из кармана куртки и положила на стол пачку сигарет. — Ладно, мне надо идти. А вы тут... чтобы никакого следа. И ты, Женя... — в первый раз назвала его по имени, — наверно, лучше все-таки к ночи спрятаться. Кто их знает — надумают еще да и заедут за мной на рассвете. Возьми с собой потеплей.
— Не беспокойся, — ответил он. — Уж чего-чего, а прятаться...
— Ночи-то теперь холодные, — с досадой пробормотал старик. — И дождик шел два дня — земля не просохла как следует. Лечишь, лечишь, и опять двадцать пять...
Вечером Андрей Арефьевич накормил парня, вместе прибрали в избе и во дворе так, чтоб ни единая мелочь не выдала недавнее присутствие тут второго мужчины, и пошли к дальнему озеру.
Евгений напряженно приглядывался ко всему — старался запомнить дорогу. Дороги как таковой не было, когда-то пролегала здесь тропа, но со временем заросла она, и лишь кое-где оставались едва уловимые признаки ее. Парень тащил под мышкой перехваченный солдатским ремнем тюк — полушубок и ватное одеяло. На ремне были и подсумок с магазинами, нож. Автомат болтался у него за плечом.
Андрей Арефьевич захватил с собой топор, а в старой матерчатой сумке нес еду — сваренные вкрутую яйца, несколько картофелин, лук, соль и хлеб. Вдруг пробудут эти завтрашние долго.
Васек, рыская в зарослях, бежал впереди.
Вышли к левому краю озера, где оно переходило в узкое болото, поросшее по берегам густым тальником, а в середине — высоким камышом. Место это казалось непролазным, однако, когда Андрей Арефьевич раздвинул кусты, обнаружилась старая гать. Жерди хоть и погнили, но вполне держали еще.
— Моя работа, — сказал он. — И кроме нас с Варяткой вряд ли кто знает этот переход.
Потом они выбрали на противоположном берегу озера, подальше от воды, хорошее уютное местечко. Тут стояла огромная развесистая ель, а вокруг заслонял все частый подрост. Старик хотел делать шалаш, срубил было первую орешину для каркаса, но Евгений отговорил — и без того под елью словно под крышей.
— А если дождик? — беспокоился дед. — Застудишься ведь опять.
— Ты же вроде брал целлофановое полотно.
— Взял, вот оно. Думал, шалаш-то сначала накрыть, а уж потом ветками.
— Не надо. Если начнется дождь, целлофаном и укроюсь. Или пристрою его сверху на сучьях. А то шалаш еще... Только лишние следы.
— Тоже верно.
Наломали побольше лапника, устроили под елью постель.
Потом сидели вместе над озером. Евгений курил. Берег здесь был довольно высокий, выдавался в виде мыса, и потому хорошо просматривалось с него все водное пространство, противоположная пологая сторона.
— Тут тебе надежно будет, — сказал Андрей Арефьевич. — Любой шорох, любой треск оттуда слыхать, и потом водой ты отгорожен. А отсюда, с тылу, не появится никто — там чаща и путей-то никаких. Завтра, когда уйдут эти, я за тобой притопаю. А если Варя останется, то пошлю ее — скажу, чтоб "ау" крикнула потихоньку.
Смеркалось. Тепло было и тихо, даже "толкли" комары. Озерная гладь простиралась чистым застывшим зеркалом, неподвижно лежали на ней опавшие желтые листья. Даже собаку заворожила эта тишина — Васек сидел впереди, застыв, как изваяние, смотрел на воду.
— Благодать, — вздохнул старик. — И, скажу тебе, теплая будет ночь, слава Богу.
Когда они ушли, парень долго еще сидел на том же месте. Вот, думал он, когда-то дед спасал тут Варю, а теперь помогает ему... Сгустилась вокруг тьма, высыпали на небе яркие, крупные по-осеннему звезды.
Евгений представил себе, как старик идет сейчас через темный лес, цепляясь за ветки и спотыкаясь о сучья, попавшие под ноги, как войдет в пустую избу и станет зажигать на ощупь лампу. И сжалось, тонко заныло сердце.
14
Проснулся он, словно от толчка, — рванулся и сел, не понимая, где находится. А когда понял, то сразу же ощутил в душе беспокойство. Глянул на карманные часы, которые оставил ему дед, — четверть восьмого. Выбравшись из-под ели, Евгений внимательно осмотрел из-за кустов противоположный берег и только после этого спустился по крутому откосу к воде. Плеснув несколько раз в лицо, он вытерся рукавом свитера, скользнул взглядом вокруг еще раз и полез обратно, вернулся к своему логову.
Есть не хотелось. Евгений лег, закинув руки под голову, но тут же сел, а потом и поднялся. "Да... — размышлял он, — вечером одни мысли, а утром совсем другие. И дела утром могут быть совсем другие. Надо... береженого Бог бережет". Перепоясавшись поверх свитера ремнем с ножом и подсумком, взял автомат и, стараясь ступать бесшумно, направился вдоль берега к гати.
Хороший опять начинался день, солнце щедро золотило верхи лиственных деревьев. Перебравшись через болото, Евгений несколько растерял из виду признаки бывшей тропы, по которой шли с дедом с кордона, и уже начал было сомневаться: может, в сторо-ну забрал, вовсе не туда нарезает? Но потом увидел наконец громадную разлапистую ель — ее-то он хорошо запомнил — и несколько успокоился. Эта ель и нужна была ему — еще вчера, когда проходил мимо, подумалось, что если залезть на нее, то, наверное, кордон будет виден. А теперь думалось и другое: если пойдут туда, за озеро, то никто его тут, наверху, не заметит.
Шел уже девятый час. Он передвинул подсумок с магазинами назад, перекинув автоматный ремень через плечо, устроил оружие за спиной стволом вниз и полез. Лезть было нетяжело, лишь внизу оказалось несколько сухих сучьев, которые цеплялись за одежду и могли не выдержать его тяжести, а потом пошло нормально, словно по лестнице.
Действительно, в прогал между деревьями открывалась немалая часть кордона — хорошо видны были жердяные воротца, дом и почти половина двора, горка напиленных вчера дров возле сарая. Виднелись во дворе куры, Ленка за пределами кордона трепала возле изгороди какой-то зеленый еще куст. "Метров, наверно, полтораста, — прикинул Евгений, — может, больше".
Он расположился поудобнее — сел на один из сучьев к стволу вплотную, а за другой, над собою, уцепился рукой. Могучее дерево заметно покачивалось. "Надо же, — подумал Евгений, -— такая громадина, и ветер едва заметный, а качается". Продолжая наблюдать из-под навеса ветвей, он увидел вдруг старика — тот вышел из дома и направился к воротцам. Постояв немного возле них, дед вернулся к крыльцу и тяжело опустился на нижнюю ступеньку. Появился откуда-то Васек, подбежал к нему, и старик стал гладить собаку, наверно, разговаривал с ней. И опять сжалось у парня сердце. Он почувствовал досаду на самого себя: "Чего я сюда залез, сижу, как дятел?.."
Слезать, однако, было уже нельзя — вдруг они подходят сейчас, и нашумишь на свою шею. Но ждать пришлось долго. Затекли руки и ноги, устала спина. Накапливалась нервозность. Дед тоже не находил себе места — то исчезал в избе, то снова возвращался во двор, подходил к воротцам. Но вот он затоптался растерянно, остановился посреди двора, и Евгений понял: наверно, идут. И точно — появилась вскоре в зоне видимости Варя с колесной сумой, а за ней трое мужчин. Шли они гуськом, на приличном расстоянии друг от друга. "Хм, опасаются, — подумал Евгений, — настороже..." У двоих.он разглядел оружие — укороченные автоматы.
Васек бросился к незнакомым с лаем, Ленка затрусила в сторону вдоль изгороди и пропала из виду. Варя уговаривала, сдерживала собаку, но без толку — гости явно пришлись Ваську не по вкусу. И только деду удалось успокоить его. И лай, и обрывки разговора долетали до Евгения, но слова он разбирал лишь некоторые.
Мужчина, который шел первым, приблизился к старику, пожал ему руку. А двое других, с автоматами, будто бы от нечего делать, стали разглядывать двор, постройки. Один из них подошел к куче напиленных дров. "Хорошо, хоть двор догадались вымести вчера, — подумал Евгений, — и там, где пилили, завалили с противоположной стороны чурбаками, словно дед работал в одиночку. Это все он догадался, вот же старый... И даже рейку свою прибил опять к ручкам пилы. И шмотье лагерное сожгли в печке — правильно сделали. Да, непохоже вроде, чтоб затевалось тут что-то..."
Варя стояла рядом с дедом и мужчиной, который был, наверно, главным — вели втроем какой-то разговор. Потом она потащила свою колесную суму в избу, и дед с этим главным пошли за ней. А те двое остались во дворе. Васек опять начал с лаем бросаться на них, и старик появился на крыльце, отругал собаку, погрозил ей пальцем. Когда он вернулся в дом, парни с автоматами разошлись в разные стороны. Тот, что повыше, направился к огороду — на баньку, наверное, глянуть, и там его не стало видно, мешали деревья, а другой задержался у клена, между сараем и домом, осмотрел все внимательно и двинулся дальше, за сарай — решил, видать, и оттуда обследовать подходы-выходы.
"Серьезно изучают дислокацию, — усмехнулся одними губами Евгений. — С такими, если сядут на хвост, не соскучишься". Через некоторое время они появились вместе со стороны огорода и остановились напротив крыльца. Высокий закурил. Похоже, ничего подозрительного парни не обнаружили.
Евгений усмехнулся опять и стал потихоньку менять положение тела — встал на сук, который был под ногами, и обнял ствол ели. Правой рукой передвинул автомат из-за спины на грудь и, перехватив цевье оружия из-за дерева левой, снял с шеи ремень. Потом, прижавшись щекой к чешуйчатой жесткой коре, установил прицел. Те все стояли, разговаривали между собой. И он прицелился в них. Несмотря на неудобства, опора-таки была неплохая, автомат даже не водило ничуть. "Вот, — думал он, — одна только длинная очередь... Да не трону я вас, живите себе, омонщики-догонщики. Только посидите маленько на мушке — я-то у вашего брата на мушке сидел".
Вышли из дома главный, Варя и дед, и Евгений опустил оружие. Надев на шею ремень, сдвинул автомат опять на спину, уселся как раньше. Некоторое время они стояли во дворе все вместе, разговаривали о чем-то, потом главный быстро зашагал к воротцам и, уцепившись слева от них за верхнюю жердь, стал дергать ее. Оторвав один конец и опустив его на землю, он повернулся к остальным, стал объяснять им что-то. Потом поднял жердь и приткнул на место. "Интересно... — хмыкнул Евгений. — Зачем же изгородь-то ломать?!"
Наконец гости потянулись со двора, пошла с ними и Варя. Направлялись в ту сторону, откуда появились. "А ведь там где-нибудь машина стоит, оставили, наверно, перед завалами, — подумал он. — Эх, жалко, что не умею водить. А то бы поискали вы меня, голуби... А Варя-то почему с ними опять? Если уезжает, взяла бы сумку, а она ее вроде не взяла. Проводить, может, решила?.."
Дед стоял во дворе, некоторое время смотрел им вслед, потом побрел устало к крыльцу, в который уж раз опустился на нижнюю ступеньку. И снова подбежала к нему собака, старик стал гладить ее. "Жалеет деда Васек-то, — ощутил Евгений в душе все ту же щемящую горечь. — А я вот... так еще и не научился жалеть его".
Он продолжал наблюдать, оглядывая время от времени и близлежащую местность: а вдруг дадут крюка и появятся здесь, на пути к озеру... Никто, однако, не появлялся. Но вот собака стремглав кинулась через двор к воротцам, и вскоре показалась в зоне видимости Варя. Васек, встав на задние лапы, пытался, как всегда, лизнуть ее в лицо, но она на этот раз уделила ему ласки меньше обычного — прошла и села рядом с дедом.
Спустившись с дерева, Евгений направился обратно к озеру. Смутно, ущербно было на душе. Через некоторое время он понял, что сбился с пути — не встречалось ни единого признака тропы, все казалось незнакомым, нехоженым. Свернул влево, думая, что именно там должны обнаружиться какие-нибудь ориентиры, но ничего не обнаруживалось, лес тут выглядел и вовсе чужим. "На¬верно, переборщил, где-нибудь пересек вчерашний путь", — решил он. И начал забирать теперь уж вправо. А вскоре и последнюю уверенность потерял, стал блуждать по-настоящему. Переполняла сердце тревога.
И вдруг совсем неподалеку хрустнула сухая ветка. Он замер. Кто-то шел по лесу. Ощущая хлынувший мгновенно по всему телу жар, Евгений тихонько сдвинул на автомате предохранитель, осторожно взвел оружие. Сделав несколько быстрых, бесшумных по-кошачьи, шагов наперерез идущему, он припал к стволу дерева, стал высматривать. И увидел Варю — она проходила мимо, буквально в десятке метров от него. Напряжение сменилось в нем теплым радостным чувством и Евгений окликнул негромко:
— Варятка!
Девушка вздрогнула, застыла на мгновение, потом, приложив руку к груди, медленно повернулась к нему:
— Ой, Господи... Как ты меня напугал... — И сразу вскинула удивленно брови, уголки ее глаз распрямились. — А ты... почему здесь? Деда сказал, что ты там...
— Я, Варвара... Николаевна, — сдерживая улыбку, ответил он,— понял вот сейчас: когда человек не верит, то... начинает блуждать.
— Хм, разговоры у тебя какие-то...
— А где путь... ну, тропа эта, которая туда, к озеру?
— Да вот я на ней стою. Ты чего в самом деле?
— Надо же, — рассмеялся он, — значит, крутился где-то тут — считай, на одном месте. Заблудился я, Варя...
— Но зачем ты здесь-то ходишь? — продолжала недоумевать она. — Оттуда, что ли , идешь?
— Я давно оттуда. Видел с дерева и гостей, и все — от и до. А потом заблудился.
— Видел, значит? — промелькнул в ее глазах испуг. — А если бы сучок сломался? Если бы они услыхали? Разве так можно — под носом у них... Тебя же деда специально спрятал, чтоб никакой опасности, а ты... Глупый ты, вот что я скажу.
— Да усеки, Варя, не до конца поверил-то я вам. Вот и попёрся проверять, кабы да чего бы...
— Не до конца, выходит... — уголки ее глаз опустились. — Это зря. Мы... уж казалось бы... Но... и понять тоже можно. В твоем положении... Наверно, сидел там, за озером, как на иголках.
— Так ты и не обижаешься, что ли?
— Конечно, маленько обидно. Только... обошлось ведь все, и слава Богу.
— Ну... — он набрал полную грудь воздуха и выдохнул с шумом, — и ладно, раз такая петрушка. Будем считать, что обошлось. Пошли, заберем за озером вещи. А то не найду я тут без тебя ни черта.
Пока шли туда, а потом обратно, Варя порассказала о "гостях".
— Они вообще-то не особенно подозревают тут. Предполагают, что прошел ты вдоль шоссейки дальше. А сюда приезжали на всякий случай — посмотреть, как расположено, если, к примеру, придется... Сказали деде: коль явится, то надо, мол, с ним по-хорошему — не злить ничем, чего ни попросит, все дать. А я и думаю себе: мы с ним по-хорошему, догадались и без вас. — Она улыбнулась. — Сказали, чтоб деда для меня сигнал устроил. Иду я, скажем, на кордон — и вижу издалека сигнал. Значит, явился ты, находишься там, у деды. И тогда надо мне поворачивать обратно, сообщить в сельсовет. И просто так сообщать велели после каждого прихода сюда — была, дескать, все нормально.
— А изгородь-то зачем они ломали?
— А это вот как раз показывали сигнал, — рассмеялась Варя.
— Издалека, мол, видно. Оторвана с одной стороны жердь — значит, преступник на кордоне, а на месте она — преступника нету.
— Интересно... — засмеялся и Евгений. — А если я, предположим, увижу, как дед отрывает жердь? Неужели буду сидеть и думать спокойно: Бог с ним, его изгородь и пускай себе ломает? Догадался бы ведь сразу: чего-то тут не то.
— Ну, ты за дураков-то их не считай. Умные, видать; мужики, глядят насквозь. Это они только так, для наглядного примера жердь-то. А потом посоветовали: придумайте себе сигнал понадежней, чтоб, в случае чего, у преступника ни малейшего подозрения.
На подходе к кордону Евгений вдруг замедлил шаг и махнул рукой:
— Погоди.
Она остановилась, удивленно глядя на него, а он стал наблюдать из-за ветвей за двором и домом. Во дворе стояла Ленка.
— Ты чего? — не поняла Варя. — В чем дело-то?
— Чего, чего... Привычки мой волчьи — вот чего. Разве не могут эти умные вернуться?
— С какой стати...
— Сама же сказала — глядят насквозь. А если углядели где-нибудь во дворе след моего сапога или еще что-либо усекли? Сделали вид: порядок, дескать, пошли мы, спасибо вам. А сами потом... врасплох. Может быть или нет?
— Я ...как-то и не подумала.
— А я вот подумал. Конечно, — усмехнулся он криво, — наверно, похоже на болезнь... Похоже ведь?
— Не знаю...
— Да сам чувствую. Но без такой болезни мне, видать, сейчас нельзя. Хм, добавка к той, к свободной...
— Тогда... пойду сначала одна. Выйду на крыльцо и махну тебе.
— Это если там никого постороннего. А если есть? — Евгений улыбнулся. — Только уж не отрывай жердь-то.
Варя тоже улыбнулась, но через силу как-то, словно принудила себя.
— Если кто есть, то махать не буду, сразу обратно в дом.
— Давай. И знаешь, что? Может, не стоит говорить деду, что приходил я сюда, видел все с дерева. Боюсь... как бы не обиделся.
Она помолчала .немного и ответила:
— Пожалуй, правильно, лучше не говорить.
Из дома Варя вышла сразу же, махнула. Появился на крыльце и дед. Евгений поднял свернутое одеяло с полушубком, снял с суч¬ка сумку с нетронутой едой и пошел к ним. Радостно встречал его возле двора Васек.
Андрей Арефьевич был подавлен, сумрачен — сказалось, видно, пережитое напряжение.
— Что же не ел-то? — покачал он головой, выкладывая из сумки принесенную Евгением обратно еду. — Не притронулся да¬же. Со вчерашнего вечера ведь, а сейчас уж обед. — И махнул рукой: — А хотя и сам-то я... ;
— И мне только вот захотелось есть, — усмехнулась Варя. — Тоже со вчерашнего ни крошки. Собрались одни голодовщики.
Ладно, я сейчас быстро.
Евгений помог ей — начистил картошки. Выходило это у него ловко — кожура вилась из-под ножа тонкой длинной стружкой.
— Где научился-то? — спросила Варя. — Прямо-таки мастер.,
— Да где ж еще — в казенных домах. Я ее там горы перечистил.
А Варя обед готовила столь же умело — казалось, будто вовсе и не затрачивает никаких усилий, получается все само собой. Старался помочь и Андрей Арефьевич — с нервозной поспешностью брался то за одно, то за другое. Она по привычке протестовала, но старик почему-то упрямился нынче, молча продолжал свое. Варя не понимала, что с ним такое, и оттого беспокоилась, приглядывалась пристально время от времени. Было не по себе и парню, который тоже подмечал в деде непривычную перемену.
И обедали как-то пасмурно — разговор не клеился, больше молчали. Евгений наконец не выдержал:
— Дед!
Тот вздрогнул:
— Господи, Боже мой... Всегда ты меня пугаешь.
— Я всех пугаю — видать, это моя специальность. Скажи: ты чего нынче такой?
— Какой?
— Ну... словно не рад, что умные автоматчики ушли отсюда ни с чем.
— Да ты... Я... — старик растерялся, рука у него задрожала, и суп из ложки пролился на стол. — Неужто так думаешь? Зря-то уж не обижай. Я рад — обошлось, слава Богу.
— А что же тогда с тобой? Может, самочувствие плохое, заболел? Скажи нам, а то... Варя вон тоже, вижу, переживает. :
— Да Бог с ним, с самочувствием, не хуже оно и не лучше.
Просто... забота всякая. Остался тут один, и... полезло в голову.
— Ты уж, деда, в самом деле... — сказала Варя. — Зачем молчишь-то? Объясни.
– Объяснять... — Андрей Арефьевич положил ложку и глядел в стол перед собой. — Тяжелая это задача. Ладно, коль так оно выходит... — поднял он голову. — Раз на то пошло, я тебя, Женя, спросить хочу: теперь-то, наверно, все мы тут проверенные? Веришь ты нам до конца?
Евгений оторопел: неужели видел его дед на дереве? Или Варя сказала-таки? Он глянул на нее и понял, что нет, не говорила.
— Конечно, верю. Вы... вон сколько для меня сделали. Только к чему такой вопрос-то?
— К тому, чтоб не думал ничего худого, открылся душой... как своим. Помнишь, ты говорил — мол, мне бы лишь прорваться туда, там нужен буду... И вообще... устроюсь, дескать...
— Ну, говорил.
— Вот я и хочу спросить: ты... за границу хочешь?
— А, вон оно что... — коротко рассмеялся Евгений. — Нет, дед Андрей, не за границу.
— Ты только не подумай... — от волнения старик начал теребить край клеенки, которой был застелен стол.,— А то еще подумаешь, будто те настропалили, и я для них выспрашиваю.
— Не подумаю. Я тебя понял. Не бойся, дед, я по-хорошему понимаю. Ты... выручил, спас. Вы ради меня на все пошли, и если что — вас тоже... не похвалят. И теперь... Короче — тебе стало важно, куда твоего спасенного вынесет. К тому же автомат при мне. Важно... выстрелит он или нет.
— Ты правильно понял, сынок, — Андрей Арефьевич начал успокаиваться, но руки у него все же подрагивали. — И скажи: выстрелит или нет?
— Не знаю пока. Но... наверно, выстрелит.
— Но куда же все-таки собрался-то? Не таись, мы ведь...
— Чего мне от вас таиться, я уж все, считай, о себе выложил. В Южную Осетию мне надо прорваться.
— Это... на Кавказе. Да там ведь война.
— Правильно, там стреляют. А ты откуда знаешь? У тебя же тут ни газет, ни радио.
— У меня приемничек есть. Варятке вот спасибо — подарила ко Дню Победы. Я по нему слушаю все, и про Южную Осетию слыхал. В шкафу вон стоит — батарейки совсем выдохлись. И ты;.. Зачем ты туда, с какой стати?
И Евгений рассказал.
В лагере он подружился с одним хорошим парнем, осетином по имени Хазби. Осетин этот сразу понял "свободную болезнь" Евгения, единственный, может, из всех почуял, что тот обязательно опять уйдет в побег. Кое-чем Евгений поделился с ним, и Хазби покачал головой: дескать, зачем без пользы бегать, надо с пользой бегать. И дал понять: мол, тоже хочу уйти, но уходить лучше поодиночкё. Евгений тоже так думал, да и хорошо знал по опыту. Если удастся удачно прорваться, сказал Хазби, то пробивайся к нам в Южную Осетию, там помогут. Будешь настоящее мужское дело делать. Южная Осетия не хочет с Грузией, хочет с Северной Осетией, которая с Россией. А грузины не дают — села жгут, виноградники топчут, убивают даже стариков и детей. Надо защищать осетинскую землю, людей. Осетинам пользу принесешь — России пользу принесешь. Иди туда, зачем бегать без толку? Документы дадут, возьмешь другую фамилию. Какая тебе разница, если и эта фамилия придуманная. У нас не выдадут никогда. И Хазби назвал адрес, помог заучить несколько осетинских слов. • Придешь по этому адресу, объяснил он, произнесешь слова — и примут, все сделают как надо. Гораздо лучше будет — посоветовал, — если придешь с оружием. Там, глядишь, и встретимся.
— Так ты, значит, солдата-то, — сказала Варя, — чтобы с оружием?
— Да нет, — положил он руку на сердце. — Вот честное слово. И в уме не вел — как же, дотянешься у них до оружия. Такой уж получился момент, так вышло.
— Чего тебе там делать, в Осетии-то? — опять заволновался Андрей Арефьевич — едва не опрокинул кружку с чаем.
— У них свои счеты, разберутся без тебя. Это же... все равно, что в чужую семью лезть. Или... два соседа дерутся, а третий лезет заступаться за кого-нибудь из них. И они оба начинают валтузить того самого, заступника. Пойми ты.
— А куда мне деваться? Здесь меня будут гонять и травить, как паршивую собаку, пока не загонят обратно в лагерь. А я... все, хватит. В лагерь я больше не ходок. Лучше пулю схлопотать, чем... Все, с этим решено. А там... хоть людей защитить. И... за Россию...
— За Россию... Эх, ты, глупеныш. За Россию крови пролито — идешь, под ногами хлюпает. Я не о той, с немцами, та святая, хоть и ее могло быть поменьше. А вот когда свои свою... И чего добились? Живой хорошей крови совсем почти не стало, а ведь она... главное. Добились бы, может, если б, наоборот, сберегали ее, каждую капельку. А нынче... Нынче Россию-то спасать — именно кровожадность в себе глушить надо большой колотушкой да наплевательство паскудное выколачивать, при котором для человека все одно — что кровь, что помои... Ты, к примеру, через дебри страшные людские, через большие страдания прошел, и... скажи мне: есть на тебе кровь?
— На мне? Ну... дрался, пускал кое-кому вместе с соплями.
— Драться — мы все дрались. Но ведь не убил?
— Я же говорил...
— Тогда ты богатый человек — если прошел через такое, и нет на тебе крови. Это богатство хранить нужно всячески, только оно и вывезет. А ты хочешь туда пробраться с автоматом и в один момент пустить свою душу на распыл. И чужие души... губить. Я хоть и старый, а зря не скажу — запомни: нынче России кроволюбы не нужны, они ей только горя добавят. Нужны как раз те, которые... через страдания пропущены, а кровью и наплевательством
на ближнего себя не замарали, и с дьяволом в себе хоть как-то, а боролись. И укрепляются... с прицелом на добро.
— Да нет же у меня другого выхода. Ну? Где он? Может, ты знаешь или еще кто?
— Бог знает.
— Бог знает, а я не знаю.
— Плохо, значит, спрашивал у него. А видать, и совсем не спрашивал. Эх...
Андрей Арефьевич поднялся и вышел вдруг из избы.
Варя сидела, глядя в одну точку, а потом тоже встала и начала молча убирать посуду. Вылез из-за стола и Евгений, взял сигареты, пошел на крыльцо. Старик сидел там. Парень закурил и присел рядом.
— В голову лезет всякое, — сказал Андрей Арефьевич. — Давеча ты послал Варятку вперед, чтоб глянула, нет ли тут кого, а я подумал: а ведь вправду могут... Старшой ихний чего-то уж больно присматривался в избе. А сейчас вот сижу, и предчувствие какое-то... Может, лучше пошли бы вы с Варяткой куда-нибудь. Грибов бы, что ли, пособирали — ночи теплые, должны быть грибы.
— Да я уж тут наследить успел.
— Подмету опять двор. И в избе тоже устрою повнимательней.
И лягу — чего-то полежать клонит.
... Грибов Евгений совсем не знал и нес Варе в кораинку поган¬ки в основном — они яркой своей расцветкой привлекали его внимание больше, чем все остальные. Ей и смешно было, что человек ничуть не разбирается в грибах, и в то же время подступала жа-лость, когда он, растерянно выслушав ее разъяснения, вынужден был выбрасывать плоды своих трудов. Однако попадались ему и белые, подосиновики. Евгений запомнил, что грибы эти самые лучшие, и глядя, с какой радостью несет он их ей, Варя опять же испытывала жалостно-щемящее чувство, словно при виде счастливого от первого своего открытия ребенка.
Ушли они километра за полтора — здесь был высокий стройный березняк, и рябило в глазах от белизны стволов. Манило дальше и дальше меж них по устланной желтым листом земле, и временами сердце замирало вдруг от щедрого солнечно-березового света.
Васька не взяли — Андрей Арефьевич оставил его на случай, если появятся те, чтоб предупредить лаем.
Автомат Евгений таскал с собой.
— А если они, к примеру, выйдут из-за деревьев, — спросила Варя, — ты что же — стрелять начнешь?
— Не знаю. Знаю лишь одно: больше я им не дамся.
— Но ведь они тоже будут стрелять. Могут в меня попасть, а мне надо ходить к деде. И ты... неужели тебе все равно, только бы не даться?
— Не знаю я, Варя, — болезненно поморщился он. — Не знаю я ничего, и не спрашивай ты меня об этом.
Грибов попадалось много, и, набрав полную корзину, они вышли к кордону возле озерка, которое лежало позади огорода. Тут, у прясла, стояла скамейка, врытая в землю, — Евгений впервые увидел ее. Варя подошла к скамейке и молча села.
Он поставил корзинку с грибами и сквозь ветви стоящих на огороде вишен внимательно присмотрелся к дому и двору. Ленка чесалась о стойку крыльца, все вроде было спокойно. А по огороду уже мчался к ним Васек — зачуял. Он проскочил между вишен, перелетел через — жердь прясла мимо Евгения и бросился к Варе. Она стала гладить, собаку, ласково трепать за уши. Евгений подошел и сел рядом.
Сидели без единого слова и смотрели, как, убирая с воды золо¬тистый блеск, уходит за вершины деревьев солнце. Потом он спросил:
— А дед... Какая у него болезнь?
— Чувствую, что какая-то тяжелая. Он мне не говорит. — Варя помолчала немного и тоже спросила: — А ты... мне кажется, знаешь обо мне все. Деда, наверно, рассказал?
Евгений отвел взгляд и тут же опять глянул на нее.
— Неохота врать. Знаю. Только ... не надо на деда за это обижаться.
— Да чего уж тут... если... нас у него теперь двое.
Сидели и слушали осеннюю тишину еще некоторое время, и вдруг он спросил:
— Варь... положи руку мне на плечо.
— Зачем? — вскинула она голову.
— Хоть маленько... чтоб потеплей...
— Ты... тебе холодно?
— Холодно.
И, вглядевшись в его лицо, Варя осторожно положила ему на плечо руку.
15
На удивление продолжали стоять дни — сухие, теплые, совсем почти без ветра. Андрей Арефьевич с Евгением допилили дрова, и старик терпеливо учил его, показывал, как надо колоть их — не умел парень и этого.
— Я в кино видал, — сказал Евгений, — там по-другому кололи. Топор вонзят в чурбак, перевернут и лупят обухом о колоду. И чурбак раскалывается.
— В кино он видал... — ворчал Андрей Арефьевич. — Господи, Боже мой. Глупых людей ты видал — и топор уродуют, и силы не жалеют. Топор-то, он для чего? Рубить — понял? Дрова если рубить, то поперек можно — нетолстые, сучки, к примеру. А повдоль-то их не рубят, а колют. Для этого колун предназначен. Вот погляди: гоп! И она идет на раскол. Попадай только точно, чтоб раскол шел между сучков. Сначала пополам чурку, потом половинки эти пополам. И не буздай ты, не гони колун в чурку со всей силой, а то половинки разлетаются в разные стороны — бегаешь за
ними. С чутьем бей — на какой чурбак сколько силы надо, чтоб он мягко разваливался. Душой действуй, а не дурной силой. Чутье пойдет — значит, научился.
Понемногу Евгений освоил и эту премудрость, и когда пошло "с чутьем", выпрямился, счастливый, посмотрел на старика:
— А хорошо... Приветливое какое-то дело.
— Гм, это ты удачно сказал. Я всегда любил дрова колоть, за уши, бывало, не оттащишь. Душа успокаивается. А сейчас уж, конечно, не то...
Потом Андрей Арефьевич решил обкосить возле озерца зеленую мягкую траву, чтоб не оставалась без толку в зиму — лучше Ленка съест. И опять Евгений учился. Здесь было посложней, попотеть пришлось как следует, однако докашивал он сам уже — и коса больше не втыкалась в землю, и траву приноровился хоть и не брить по-настоящему, но все-таки и не мять.
— Ну вот, — посмеялся старик, — женишься на деревенской — она на тебя не обидится. Хоть что-то да будешь уметь.
— На Варе, к примеру... — улыбнулся Евгений.
— На Варе... — помрачнел Андрей Арефьевич. — Варятке, конечно, пора бы, но... после того она к себе и близко никого не подпускает. Душа за нее болит... А от тебя чего — ты же у нас в Осетию собрался. Воин за Россию...
Пропала улыбка и у парня.
— Да, сижу здесь... — глядя под ноги, сказал он. — А давно бы пора сорваться. Скоро холода пойдут, тогда пробираться намного трудней будет, по опыту знаю.
— Куда тебе сейчас — они, небось, всех вокруг предупредили так же вот, как нас. Время нужно.
— Сейчас нельзя, это точно. Нутром, шкурой чую — если пойду, то обязательно залечу. Был бы бандюгой, — усмехнулся он, — тогда плевое дело. А тут... охота никого не зацепить.
— А Варятка-то... — помолчав, спросил Андрей Арефьевич, — чего ж, или нравится тебе?
— Варя, — поднял голову парень, — она ... Она своя.
Вечером, после дел, любили они посидеть за углом сарая. Старик поставил к стене два чурбака, и хорошо было тут, на предвечернем неярком солнышке. К тому же наиболее безопасно — если появится кто, то Васек залает, и стоит лишь пройти вдоль стены, перебраться через прясло, и ты уже в лесу. С автоматом Евгений не расставался, и это заметно сбивало настроение Андрею Арефьевичу.
Нынче повыдергали и убрали в подпол свеклу, морковь. Капусту старик оставил на грядках — сказал, что рановато пока ее рубить, пусть стоит себе, крепчает до заморозков. Потом заменили две подгнившие нижние жерди в прясле, доложили в поленницу дрова. И, управившись, пошли, привычно уже, за сарай, сели. Евгений поставил к стене автомат, закурил. И тяжело вздохнул — раз, другой.
— Ты чего-то нынче совсем смурной, — сказал старик. — Молчишь и молчишь весь день.
— Тоска у меня, дед. Мысли лезут всякие...
— Насчет Осетии, что ль?
— Да нет. И хватит ты о ней. Я вот... понять не могу, почему происходит такая жизнь.
— Какая?
— Ну, взять, к примеру, тебя. И эта твоя... Верондия, что ли, и деревенские ваши... Почему они с тобой так? Изжевали ведь и выплюнули.
— Жевать, может, и жевали, но не выплевывал никто. Сам ушел.
— Ладно, пускай сам, я не о том. Ни за что ведь, ни в чем ты перед ними не виноват.
— Кто знает...
— Да мне тут... для меня теперь все ясно в твоей душе и... говорю точно. С какой стати? И Варю тоже... Один только человек-то и нашелся — председатель этот, а другие... Козлы козлами. До края девчонку довели. А? Вот я насчет чего. И со мной та же история, и я жеваный. И опять же — за что? И нас... много таких. И жизнь кругом... Ты не думай, я хоть и мало пожил, но жизнь чуять научился снизу доверху и сверху донизу. И вижу, не обманешь меня — идет вокруг сволочное смыкание.
— Какое еще смыкание?
— Да те, которые наверху, и всякая беззаконная подлота. Они между собой... Короче, смыкаются, гужуются. Даже в лагере у нас хорошо видно. Начальство там... С теми, за кем покрупней дела, они поласковей, поглядывают на таких совсем по-другому. Дескать, я тебя понимаю, и ты меня понимаешь. И через них нас держат в руках. И мы, простые, терпим двойное издевательство — и от начальства, и от этих тузов козырных, у которых руки пахнут деньгами и кровью. И на воле... Я давно понял — на воле то же самое, только пошире во много раз. У верхних смыкание с любым жульем. Скажем, с директором торга, с начальником базы. А эти завязываются на сволочей пониже — завмаг там или завскладом, А уж те с настоящими оторвягами держат связь: толкнуть-продать, припугнуть кого, с дороги убрать. Смыкание от больших верхов до самой подлой швали. И все они нами правят — ясно? А мы?.. Мы под ними, как стая злых голодных собак. Питаться нам нечем — эти сомкнутые все к себе гребут, и... — Евгений усмехнулся зло, — пошло у нас питание друг другом. И кого в первую очередь с жирают? Кто лучше, кто с совестью — вот кого. Мешают ведь, значит, надо сожрать. Тебя сжирают, Варю сжирают, меня... то же самое, хоть я, может, и не из лучших. Все равно — жрут за то, что сожрать себя не даю. Так-то вот, дед. Ты не думай, кое над чем и я башку-то помучил. Только вот... гляжу и не понимаю: от каких причин, почему это происходит? Ну почему — можешь ты мне сказать?
— Могу, — ответил Андрей Арефьевич. — Сдвинут светильник.
— Чего?
— Светильник, говорю, сдвинут.
— Ты о чем? Какой еще, к чертям, светильник?
— Не чертенись. А вот пойдем-ка в дом — есть у меня книжка, я тебе прочитаю доподлинно. Пойдем, пойдем, если уж охота знать.
— Хм... Ну, пошли.
В избе старик вынул из шкафчика старую, довольно толстую и пожелтевшую от времени книгу без обложки и сразу раскрыл ее на нужной странице — там у него была закладка. Потом достал старые, скрепленные тонкой проволочкой очки и, нацепив их, прочитал: "Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься".
— Вот, — сказал Андрей Арефьевич. — Пришел и сдвинул. Тебе, наверно, непонятно?
— Тут... чего-то со смыслом. В темноте.мы, что ль?
— Я насчет этого так обдумал. Есть два света — один для глаз, а другой для души. Для глаз — вот он, кругом. При нем ты видишь меня, я — тебя, все окружающее видим. А для души свет — при том человеку становится ясно, кто ему родной, кто чужой, что хорошо, что плохо, что можно делать, а что нельзя. Ну и представь: взяли да и убрали его, который для души-то. И какая же получается штука? Мрак душевный получается. А во мраке родной кажется чужим, чужой — родным, хорошее за плохое принимается, а плохое — за хорошее. Самое вредное, к примеру, действие, а человек думает: только так, мол, действовать и надо. А самые нужные дела считает необязательными, даже позорными. Можно с чем сравнить: например, ночью много людей в избе, и стоит в середине свечка. И ты видишь, кто чей да какой он. А отнеси эту свечку в самый дальний угол — тогда тебе красивое лицо уродливой харей покажется, а брат твой — преступником, который хочет тебя погубить. И не узнаешь никого толком. Такое мое разумение.
— Интересно... А за что же светильник-то сдвинули?
— А здесь вот сказано: "... имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою".
— Первая любовь... Женщины-то при чем тут?
— Эх, Женька, поистине глупеныш ты. Самая первая-то любовь какая была у человека? Любовь к Богу, который его создал, к миру, к земле, ко всему сущему, Богом опять же созданному. А женщины — это уж потом. Написано же: "...вспомни, откуда ты ниспал, и покайся..." Дескать, забыл ты, кто тебе жизнь-то дал, забыл, что ему обязан всем, и пошел вертеть-крутить по-своему, гордыню великую нажил.— сам себе голова. Вернись, мол, к нему, попроси прощения и старайся привести себя к прежней праведности. А мы вернулись, попросили? Нет, не просим как следует, не покаялись. Вот за это и сдвинут светильник, за это и муки.
Парень не сказал больше ничего, снял сапоги и лег на кровать, закинув руки под голову. Андрей Арефьевич взял сковороду с картошкой, которую не доели утром, пошел в сенцы разогревать на керосинке. Потом вернулся, стал резать хлеб.
— Чего-то Вари долго нет, — подал наконец голос Евгений. — Может, завтра придет.
— Да прошло-то всего три дня. Рано ей, теперь если только в конце недели.
— Три дня? А мне уж кажется, что все пять. Чего-то совсем я заблудился.
За ужином не говорили почти ни о чем, и Евгений забывал иногда про еду, держа вилку перед собой, смотрел в окно неподвижным взглядом.
— Да, дед... — горько вздохнул он. — Остались мы, значит, без светильника.
— Не совсем. Он только сдвинут, Врем'я нам дадено. Если возьмемся за ум, не упустим — может, и придвинут его обратно.
— Я понимаю: покаяться, Бога полюбить, как раньше его любили, — это тебе не раз, два, и готово. Тут... надо много в себе перевернуть, начать по-другому. А светильник-то сдвинут — не знаешь, не видишь ведь ни бельмеса. Ну и куда, в какую сторону?
— Да очень просто. Ты больно не делай. На свете главное — не делать больно. Сделаешь — к примеру, хоть кошке, и она укусит. Тебе несут боль, а ты не надо, ты понимай. Ее ведь всяко можно причинить. Можно и словом, и твоим вот огнестрелом. Зачем? Схватишь кошку за ухо, укусит она — защиту, значит, предъявляет. А ты от нее умом отличаешься, ты защиту должен предъявлять по-другому. Отойди от того, кто обидел, старайся не держать на него сердца. Скрепи его, сердце-то, да отвлекись к тому, что святое, безгрешное. Возьми на руки ту же кошку, окажи ей добро, погладь. И она тебя полюбит, и тебе станет хорошо, легко. К тем, кто слабей, отойди, но в ком есть душа. И ты станешь сильней.
— Но у меня-то ведь... Я же изуродован сильно, не справляюсь.
— Что в тебе изуродовано? Ты здоровый, как бык.
— Как тебе получше объяснить... Душа-то с детских лет совсем другой взяла настрой. Иной раз и хочется подобрей сделаться, но... ни туда ни сюда. Задумаешься: да, много чего-то злюсь, плохо это, надо как-то получше себя держать. Тык-мык, и, глядишь, уж забыл про такие свои думы, сорвался опять крыть кого-нибудь, а то и со свету готов сжить.
— Во-во, это, наоборот, уж больно легко — со свету-то сживать. Это — раз плюнуть. Само собой делается — трахнул по башке, и порядок.
— Я и говорю — душа свернута в другую сторону. Уродство.
— Ты мне не говори, — нахмурил свои седые брови Андрей Арефьевич. — Твое уродство, оно такое же, как у всех почти нынче. Знаешь, на что похоже? Похоже на энтих... которые бегать умеют, словно угорелые, а сами сядут на паперти, ноги под себя подожмут по-хитрому — мы, мол, безногие. И просят: "Подайте убогому". Все нынче этак. Нас, дескать, мяли, жевали, мы уродованные и ничего не можем. Пожалейте, научите, подайте... на блюдечке. Некоторые даже говорят: ты, мама, будешь молиться, так помолись, чтобы и меня Бог простил. Помолись за него... Да кто нам подаст, кто за нас наши грехи отмолит? Лень повернуть свою силу на себя, лучше истратить ее — ближнему по башке дать. А ты возьми да и поверни. Да поучи душу-то как следует, а то и в бараний рог скрути ее, если не подчиняется. Вот это будет тебе дело так дело, вот тут-то придется потрудиться. Я сознаю — тяжело. Самое тяжелое на свете дело. Труд большой, но он и радость большую откроет. А вы... Господи, почему вы терпение позором-то считаете?
— Терпение... А что же ты сам-то не вытерпел? Продолжал бы жить с той язвой, и деревенские пусть бы и дальше тебя по костям разбирали и собирали. Ушел ведь сюда.
— Да, ушел... — вздохнул Андрей Арефьевич. ,—- Вроде правильно сделал — удалился от зла. Тут волшебное место, душа тут открывается Богу, а Бог — душе. А вот... в то же время будто говорит мне все кругом: надо бы, пожалуй, не так, надо бы поиначе. Я уж нынче как думаю: они, деревенские-то, может, и не осознанно, а чуяли... Угадывали — де-мол, зря связался с Веронией, лучше бы другому, хорошему человеку свою силу и заботу отдал, были ведь такие в Озеринке. И не прощали. Сначала не простили за то, что связался с нею, а потом за то, что не до конца претерпел. Люди... они и сами свой норов не всегда понимают, а в нем, похоже, в ихнем норове-то, справедливость какая-то все же имеется.
— Ну, ты уж, дед, совсем смешал себя неизвестно с чем. Справедливость у них... А у тебя, выходит, никакого достоинства не должно быть? И защищать ты его не должен — так, что ли?
— Сколько уж раз ты — гордость, достоинство... А я тебе скажу: понаблюдай как следует за человеком, который изо всех сил старается не потерять достоинства. И увидишь: именно тогда, когда он старается делать это изо всех сил, тут-то достоинство и начинает теряться. Так что мне на сей счет по-другому мыслится. Надо чуять и понимать свою вину в душе. Понимает ее человек — значит, и достоинство при нем, никуда не делось. Значит, и защищает он его, и бережет.
Андрей Арефьевич пошел во двор покормить на ночь Ленку, Васька. Парень тоже вышел, закурил на крыльце. Быстро вечерело. Старик постоял возле оленихи, наблюдая, как подбирает она своими мягкими губами и жует свекольную ботву, и поднялся на крыльцо, присел рядом с Евгением.
— Господи, — поблуждав кругом взглядом, вздохнул он, — как тут братством-то все полнится. Деревья стоят... словно думают о чем-то общем. Над вершиной елки звезда вон — далекая, а будто бы тутошняя она, будто родная всему. Ленка вот... Васек вроде бы должен бросаться на нее — охотник ведь, а он сидит рядом и думает, наверно: попробуй только кто-нибудь ее тронь...
— А люди... — сказал Евгений. — У людей что-то никак не получается...
— У людей с этим туговато. Да разве создашь братство, если соберешь всех под одну крышу и скажешь: "Вы братья". Не-ет, братство-то, оно не скоплением в стадо, не криками... Оно тихой одинокой думой достигается.
И долго еще сидели молча, пока совсем не стемнело.
Потом, когда легли спать, парень все ворочался с боку на бок, вздыхал. Кровать скрипела?
— Ты чего не угнездишься-то? — спросил Андрей Арефьевич.
Евгений не ответил, однако затих. А через некоторое время сказал:
— Я гляжу, дед, ты, как тот... Буланов, что ли, друг-то твой, который умер. Тоже... неимоверного томления.
— Ну, брат... Где мне до Трофимыча. Трофимыч был такой... таких уж и нету. А вообще-то что ж — томится, конечно, душа. Помирать скоро, вот и думаешь: каким образом оно все тут получится, каким путем пойдет? Кажется — помрешь, а все равно продолжишь там думать.
— И за что же тебе особенно-то беспокойно?
— Да за все. И вот... Ладно, сейчас разъясню. Мне жизнь... видится наподобие большого... великого растения. Ну... дерево, к примеру. Побеги, значит, ветви на нем. Раньше вроде как-то заботились — пустые ненужные побеги срезали, чтоб лучше развивались те, которые дают плоды. А потом пошло... Забросили, перерестали ухаживать. Вредные ветки разрослись, соки забирать стали только для себя. Плодов меньше и меньше, да и те никудышные. Настоящих полезных ветвей осталось, может, одна-другая. Теперь пришло время — чего-то вроде зашевелились, решили заняться, пообрезать. Но светильник-то сдвинут. И не особо стараемся, чтоб его обратно придвинули — это я уж говорил. Вот и боюсь: во мраке-то... какая-нибудь дурная голова... возьмут да и срежут последний плодовый побег. Тогда и второй светильник, который для глаз-то, тоже может сдвинуться, совсем станет темно... Парень молчал.
16
Утром через открытое окно Евгений услышал вдруг доносящийся из леса прерывистый шум двигателя.
— Кто-то на мотоцикле, — бросился он к висящему на спинке кровати автомату. — Ты же вроде говорил, что нельзя проехать сюда ни на чем.
— Да на мотоцикле-то, может, и проедешь... — растерялся Андрей Арефьевич. — Завалы если стороной с ним обходить.
Шум приближался, переходя временами в рев, и вскоре уже залился злым лаем Васек.
— Вот так номер, — замер с автоматом в руках Евгений. — Сторожился я, сторожился, а... может, и кордон-то уж давно окруен.
Он щелкнул затвором — дослал в ствол патрон. Потом приблизился сбоку, глянул. Как раз в это время человек на мотоцикле подъехал к воротцам и выключил мотор. Васек бешено бросался на него, тот начал отбиваться ногой.
— Чего ты стоишь? — зло сверкнув глазами, обернулся к старику парень. — Посмотри, что за деятель.
Андрей Арефьевич подошел, тоже стал вглядываться. Собака кидалась на приехавшего все злей, и, не выдержав ее натиска, он вдруг опрокинулся вместе с мотоциклом. И, прижатый к земле, замахал руками, завопил что есть силы:
— Андрюха! Туды твою мать, где ты там?! Вылезай скорей, а то сожрет ведь он меня.
— Господи, — сказал старик. — Это же Федька.
— Какой еще Федька? ,
— Да Веронии сын.
— Чего ему тут надо?
— Может, с нею что, а может... С похмелья он в любые дебри попрется. Мотоцикл откуда-то... Так. Быстро давай-ка в то окно. И... стой за углом. А когда подойду с ним к крыльцу, то можно в сарай — тогда уже не видно будет, как ты туда прошмыгнешь. Я крикну. Крикну тебе... "Васек, иди в сарай!" Лезь на сушило. А в лес лучше не суйся, мало ли чего... Я постараюсь быстро его спровадить. Пойду скорей, а то Васек там с него и штаны, и шкуру донизу спустит.
Андрей Арефьевич вышел, а Евгений оглядел все в избе внимательно, быстро убрал со стола на полку вторую миску с ложкой, кружку. Поправил впопыхах кровать и, схватив ремень с подсумком и ножом, повесив автомат на шею, распахнул окно и потихоньку вылез. Потом осторожно прикрыл за собою створки и притаился за углом дома. Слышно было, как дед усмиряет Васька, но тот еще лютился, лаял.
— Сколько можно звать-то тебя?! — злился на старика приехавший. — Убери, говорю, к чертям своего волкодава, он, зараза, мне руку прокусил!
— Нечего было махать руками!
Наконец Васек успокоился, и они заговорили приглушенно — слов уже нельзя было разобрать. А вскоре Евгений услышал громкое:
— Васек, иди в сарай!
Бесшумно преодолев расстояние между избой и сараем, он осмотрелся в полумраке, потом опоясался ремнем с магазинами и ножом и выглянул чуть-чуть. Крыльцо скрывал угол дома, ни деда, ни Федьки отсюда не было видно. Но стояли они там — доносились обрывки фраз. Андрей Арефьевич как будто убеждал в чем-то Федьку, а тот не соглашался, психовал. "Выжрать, наверно, охота, просит, — подумал Евгений. — Выйти бы сейчас и дать как следует по рогам, чтоб до мотоцикла, безрогий, кувыркался".
Он забрался по лестнице на сушило, стал смотреть, где туг получше устроиться. Справа — лежало сено, а слева... Ему сделалось не по себе — в левой стороне стоял, опираясь на стропилину, гроб, а к нему был прислонен крест, дубовый, наверно. "Неужели... — замерло сердце, — дед все это для себя?.. Конечно, а для кого же еще?" Несколько мгновений Евгений не мог двинуться с места — стоял и взирал оцепенело на суровые и в то же время будничные атрибуты смерти.
Потом он пробрался по сену в конец сушила и обнаружил здесь дверцу. Снял крючок и попробовал на всякий случай открыть — она распахнулась сразу же. Спрыгнуть если придется — не так уж и высоко, а лес в двух шагах. Разговора деда и Федьки с сушила не было слышно, а может, они зашли в избу. Евгений потрогал кровлю со стороны двора — старые, подгнившие кое-где драницы, и одна из них шевельнулась. Ему удалось немного сдвинуть драницу, образовалась щель. Через нее видны были двор, крыльцо. Действительно, наверно, дед увел Федьку в дом. Возле крыльца, все еще не в силах успокоиться, ходил туда-сюда один лишь Васек.
Парень лег на сено, положил рядом автомат. На душе было нехорошо, и не столько беспокоил его приезд Федьки, сидящего сейчас в доме, сколько угнетали стоящие за творилом гроб и крепкий дубовый крест.
Послышался со двора сдержанный кашель, и он увидел в щель спешащего к сараю деда. Евгений подполз к творилу, и когда старик вошел в сарай, то, глянув наверх, встретился с ним взглядом.
— Я ему там налил... — задыхаясь от волнения, зашептал Андрей Арефьевич. — Оставалось-то у нас... А мне, Женя, надо скорей в деревню. И, похоже, одним днем не обернуться. А ты тут хозяйствуй, корми всех — видал, наверно, как я-то делаю. И сам тоже... сготовишь там себе чего-нибудь. Только поосторожней будь, не горячись, если что. Ну, я пошел, а то, неровен час, вылезет еще, сюда попрется. Может... — обернулся старик у выхода, — Варя придет, если я задержусь.
Парень только раскрыл было рот, чтобы спросить, в чем дело, почему обязательно надо в деревню, но дед уже исчез. Через некоторое время .послышался со двора разговор. Евгений наблюдал в щель, как спустились с крыльца дед, а за ним Федька. Это был чернявый, сухостойного склада мужик в обвисшем темном пиджаке, с узкой проплешиной от лба до затылка. Сейчас он успокоился, держался с развязной насмешливостью:,"Сразу видать — гнида, — подумал парень. — Не зря у меня руки на него чешутся. Еще уронит деда где-нибудь в буреломе". И вторично появилось вдруг острое желание пойти и надавать пинков нахальному типу. А деду сказать: ты что, мол, с ума сошел — ехать на мотоцикле с таким паскудным недоделком? Он слышал, как старик приказывал Ваську:
— Сторожить! И чтоб никуда мне ни шагу! Крепко сторожить — понял?!
Васек сидел в позе "смирно", лишь едва помахивал хвостом: понял, дескать. •
Федька завел мотоцикл, и тот взревел на всю округу от предельно выкрученного газа. Дед неуклюже устроился на заднем сиденье, и резко рэанув с места, они замелькали между деревьев.
Парень слез с сушила и пошел к крыльцу. Собака радостно бросилась к нему.
— Ну вот, Васек, — опустившись на корточки, обнял ее Евгений. — Остались мы'с тобой за хозяев. Что бы это значило?
Не вернулся дед ни вечером, ни на следующий день. Не было и Вари. Усиливалась на душе тревога, выходя на крыльцо, Евгений прислушивался к каждому лесному звуку, к каждому шороху. Он старательно выполнял все, что велел старик, — готовил пойло Ленке, щедро кормил кур, Васька, Анфису. И белке, питавшейся большей частью самостоятельно, не забывал дать сухой грибок, когда та появлялась, — так частенько делал дед. Кончился хлеб, и Евгений стал размачивать сухари, которые лежали в мешочках на печке.
Время от времени приходила мысль: сколько можно торчать тут? Пора уходить и пробираться дальше, как задумано. Но глубинное чувство, на которое, умудренный опытом беглого, он привык полагаться, подсказывало: нет, сейчас ни в коем случае нельзя — опасно. И сразу лее начинал корить себя: люди из кожи вон лезли, вытащили из такой тяжкой болезни, укрывают-берегут — на преступление, можно сказать, пошли, а ты хочешь смыться по-тихому, будто глубоко плевать на них тебе. Что подумает Варя? Сказала же — нас теперь двое у деда. Даже Васек вот — как он посмотрит тебе вслед? Предатель, мол, а говорил — оба мы с тобой за хозяев. А дед? Наверно, ведь не так просто задерживается там — какая-нибудь вышла загвоздка, закорючка. И Вари нет. А вдруг он заболел в деревне, слег? У него же ведь тяжелая болезнь, и вдруг... не увижу его больше никогда? Тогда... где я еще встречу такого хорошего, родного деда?
С каждым часом возрастало в нем беспокойство, и Евгений старался как можно меньше находиться в доме. Подолгу сидел на скамейке за огородом или брал корзинку и уходил за грибами, не слишком удаляясь от кордона. Васька он оставлял сторожить, и тот слушался — с неохотой, но оставался. Возвращаясь, Евгений долго высматривал из-за кустов, не изменилось ли что во дворе, нет ли какой опасности. И только после этого шел к дому, но опять-таки с большой осторожностью — держа руку на автомате возле спускового крючка и прижимая оружие к боку. Наскучавшийся Васек радостно встречал его.
Грибов Евгений наносил много — складывал в сенцах, в уголке. Не было полной уверенности, что кроме хороших не принес и поганок, поэтому он брал из кучки лишь белые да подосиновики, которые запомнил основательно, и неумело жарил их на керосинке. А в остальных, надеялся, разберутся дед или Варя, когда придут.
Но они все не шли. Близился к концу уже третий день. Евгений сидел у озерка, и в душе у него царила полная сумятица: в чем дело, что там у них стряслось, и как же все-таки быть? Может, сидеть, ждать-то здесь — только беды дожидаться? Неопределенность в таком положении — самое опасное, он знал это по опыту. Если не придут к ночи Варя или дед, решил Евгений, то и нечего больше испытывать судьбу — утром пораньше надо уходить.
Васек на сей раз был с ним — сидел рядом серьезный и тихий. Чувствовал, видать, что Евгению сейчас не до него, да и сам, наверно, беспокоился, почему так долго нет ни деда, ни Вари,
Погода изменилась — к вечеру затянуло небо сплошной низкой облачностью, подул свежий ветер. Он порывами налетал на деревья, охапками срывая с них последние листья, а те долго и суматошно кружились в воздухе, прежде чем опуститься на воду. И сгоняло их все зыбкой рябью в дальний угол озерка — там накопилось обширное желтое покрывало.
Собака вдруг насторожилась и, подбежав к пряслу, стала вгля¬дываться в сторону двора. Хвост ее напряженно подрагивал. А в следующее мгновение, подвизгивая от нетерпения, Васек уже вихрем несся по огороду. Разглядел наконец в сумраке старика и Евгений — седая голова Андрея Арефьевича белела над воротцами. И парень тоже сорвался с места — забыв о всякой осторожности, лихо перемахнул через изгородь и бросился к деду напрямую. • Подбежав, Евгений растерялся: дед едва держался на ногах, был бледный, осунувшийся. Идти дальше он не мог — уцепившись за верхнюю перекладину, тяжело припал к воротцам. Сумка валялась у ног, буханка хлеба выпала из нее.
— Зачем ты... — рывком сдвинув автомат за спину, парень подхватил старика и осторожно повел к крыльцу. — Сумку еще какую-то... Неужели пешком шел?
— От шоссейки пешком... — едва слышно пролепетал Андрей Арефьевич. — Мне бы сейчас лечь. Боль... повсюду, в каждом уголке.
— Что же этот козел обратно-то не довез? Эх... зря я его тут землицы пожрать не заставил.
— Он... лежит, пьяный совсем. А ты... не надо, не ругайся.
В избе Евгений помог деду снять пиджак, быстро расшнуровав, сдернул с его ног старые стоптанные ботинки, и вскоре Андрей Арефьевич уже лежал на кровати, укрытый полушубком, смотрел на парня обостренным каким-то и очень ясным взглядом.
— А Варя где же? — опустился тот рядом на корточки. — Почему она тебя одного-то отпустила?
— Варя... уехала Варя.
— Куда?
— Послали учиться. Чего-то там... доить по-новому. В область... хороший какой-то совхоз. Она не хотела ехать, а я... настоял всурьез. Нельзя людей подводить. Скоро переделают на ферме... совсем другое оборудование. Надо уметь... дело есть дело.
— И надолго она?
— Недели... может, две. Ты не беспокойся. Про нормальную обстановку... ну... что у нас тут все в порядке... сообщать теперь не обязательно. Я в сельсовете был. Председатель сказал — возле Пореченского охотхозяйства... какой-то с оружием. Видели... тоже издалека. Думают, что ты, А был... браконьер, наверно. Значит, сюда им теперь... без надобности.
—А где оно, это охотхозяйство?
— Совсем в другой стороне. За шоссейкой... далеко.
— Что у тебя хоть болит-то? Сильно?
— Сильно. Кругом одна боль.
— Может, лекарство какое? Скажи, ты же знаешь. И поесть ведь надо тебе.
— Я... мы поели. Все как полагается. Ты сам-то здесь... на одной картошке. Сумка... Сумку у ворот оставили. Сходи принеси. Там кутья... все там. Помяни.
— Чего поминать, кого? — не понял Евгений. — Ты скажи, чем помочь. Есть же травы, корешки — мне-то готовил. И я тебе сварю враз, только объясни потихоньку.
— Сумку принеси, помяни.
— Да о чем ты? Кого поминать? Или уж умирать надумал? Я вот те умру.
— Разве я... не сказал? Верония... похоронил ведь ее.
— Так значит... — привстал от удивления парень, — ты хоронил...
— На руках у меня умерла. А похоронить путем... пять старух нашлось добрых и мужиков трое ... за водку. Варя кой-чем помогла. Если б ей не уезжать... Но ничего, справились. Все как полагается. Ты помяни. А то Васек... опередит враз. Там, в сумке-то... и мясное есть.
— Эх... Зачем тащил-то? Не тащил бы — может, и ничего.
— Помянуть надо. Святое дело.
Парень пошел за сумкой, и когда был уже у двери, Андрей Арефьевич позвал тихонько:
— Женя...
Тот обернулся.
А ведь покаялась, — сказал старик. — Перед самым концом... а покаялась. И я... попросил у нее прощения. Слава тебе, Господи.
Вернувшись в дом, Евгений увидел, что дед в забытьи. Губы его едва заметно шевелились — видимо, шептал что-то в бреду.
17
Лампа стояла на столе с прикрученным фитилем и освещала избу тусклым красноватым светом. Евгений лежал на топчане и думал: "Так-то вот оно... Пришлось нам с дедом поменяться местами..."
Он почти не спал. Окутывала временами вязкая дрема, но едва дед начинал опять стонать в бреду, все напрягалось у Евгения в душе, и, поднявшись с топчана, он брал лампу, подходил с нею к кровати. Дыхание старика было редким, словно бы рывками, и после каждого такого вздоха пробегала по его телу быстрая судорога. Временами он бормотал что-то, и Евгений различал отдельные слова, но так и не мог ни разу уловить связи между ними.
Очень хотелось хоть чем-нибудь помочь деду, но как это сделать, парень не знал. Сильного жара вроде бы не было, однако Евгений намочил в холодной воде полотенце и, свернув его, положил на лоб старику — может, все-таки станет легче. И, действительно, как будто полегчало — Андрей Арефьевич перестал * стонать. Но через некоторое время стоны возобновились, и сделалось парню от своего бессилия и вовсе муторно. "Если попробовать разбудить как-нибудь, привести его в себя? — думал он. — Может, сказал бы, чем облегчить... Но ведь кто знает, — а вдруг еще хуже станет ему. Нет, наверно, все же нельзя трогать:.."
От тоски и раздирающего душу бездействия Евгений вышел на крыльцо и позвал Васька. Собака ступила в избу осторожно — видно, сразу же поняла, что с хозяином беда. Подойдя к деду, Васек постоял немного в растерянности, а потом лизнул руку Анд¬рея Арефьевича, свесившуюся с кровати. И дед перестал вдруг стонать, а через мгновение произнес явственно:
— Пришел...
Но тут же опять забормотал несвязное, и собака легла рядом на полу, свернувшись, горестно положила голову на лапы. Очнулся Андрей Арефьевич на рассвете.
— Сынок... — произнес он едва слышно.
Евгений взлетел с топчана, словно подброшенный пружиной, склонился над ним. Старик лежал на спине, смотрел осознанно. Щеки у него ввалились глубоко, лицо казалось восковым.
— Дед... — от волнения у парня затряслись руки. — Деда... Слава Богу. Ты только погоди, не теряй больше сознания. Скажи: какую траву...
— Не пеле... — произнес тот. — Не пере... живай. Сха... Скажу. Там... на полке корешки... наверху... газете.
Бросившись к полке, Евгений сразу же нащупал сверток, развернул впопыхах.
— Ну? Сколько? Как?
— Три... Нет, шесть штук, шесть. Воды... на кело... синке пол... пол...
— Пол-литра?
Андрей Арефьевич показал глазами: правильно, мол. Потом он, хоть и с большим трудом, но сумел-таки объяснить, что надо корешки бросить в воду и довести до кипения, дать остыть под крышкой.
Евгений кинулся делать лекарство.
Дед продолжал удерживать в себе сознание и сильно мучился.
— Господи... — шептал он. — Как болит... Боль... боль... Наверно, много виноват... перед тобой, Боже мой правый... Прости...
Васек с грустными глазами сидел неподвижно возле кровати.
Отвар, как показалось Евгению, очень долго не остывал. Но наконец, приподняв деду голову, парень стал поить его и почувствовал всем своим существом, насколько мучительно для старика это, небольшое вроде бы, напряжение.
Выпил Андрей Арефьевич полкружки.
Через некоторое время стало заметно, что ему легче. А еще минут через двадцать он слабым голосом, но уже довольно внятно сказал:
— Теперь, Женя, слушай... Я, значит... скоро буду помирать. А ты, сынок... похорони уж меня.
— Да ты что, дед! — встрепенулся парень. — Тебе уже вот лучше. И даже не думай...
—Не надо, — перебил Андрей Арефьевич. — Ты слушай, а то времени мало. Легче мне — это ненадолго. Корешок такой — боль •приглушит, подымет кровь... А потом оно опять... У меня ведь... рак, видать, чего уж тут... И должен я тебе все обсказать.
— Но ведь... может быть..;
— Прошу тебя: слушай. Ничего не может быть — знаю. Вот. Перво-наперво достань из шкафа... там, в углу в самом... большой такой сверток. В новую простыню завернуто. Доставай.
Евгений открыл шкаф и, нащупав, достал оттуда то, что просил дед, положил на край стола.
— Вот, значит... — продолжал тот. — Здесь смертное — и постелить в гроб, и одеть меня. Гроб на сушиле. И крест тоже там. Да ты видел, наверно...
— Видел.
— Крест вообще-то не сразу надо ставить. Земля садиться будет... Но ты уж... лучше сейчас. А то... через полгода-то... кто знает... А в сарае, в левой стороне, стоят звенышки для оградки... прямо со столбиками. Только вкопать и соединить — это недолго. Без оградки-то... мало ли, еще кабаны зайдут, будут ворочать могилу мордами своими... И скамейка там готовая — тоже только врыть. Варе посидеть, и ты если... А могилу... Могилу копай на задах, возле вишен. Охота поближе к озерку лежать — там красиво. От вишен сюда метра три отступи... И... на восток лицо...
Чтоб, значит, ногами туда, где встаёт солнце. Глубиной... ну... делай по шею, нормально будет. Так... Теперь вникай, какой тебе надо соблюсти порядок.
И он обстоятельно, до мелочей, рассказал парню, как надо хоронить, как поминать.
С каждой минутой Андрей Арефьевич слабел — болезнь, видно, начала уже перерабатывать принятое лекарство, опять завладевала телом.
— Прости меня, сынок, Христа ради, — сказал он. — Прости... если я чего не так...
— Господи, — схватил его за руку парень. — Зачем ты, дед? Это мне надо... Может... если б не я... не притащился сюда, то ничего бы такого и не было. Это ты меня прости. Столько сил со мной истратил...
— Не надо. Я считаю... Бог тебя послал. И наоборот... продлил дни-то. Так что... не убивайся.
— Да ты же ведь жизнь мне спас. А сам...
— Я тебе спас жизнь, — попытался улыбнуться Андрей Арефьевич, — а ты меня... похоронишь. И мы с тобой... квиты будем, вот так-то.
У парня перехватило горло. Хотелось глотнуть воздуха, а вышел судорожный всхлип.
— Ну где... — сумел наконец произнести он, — где я еще найду такого родного деда?
— Не плачь, — из последних сил говорил старик. — Ты... сильный, большой. И... хорошо подумай о себе. Кровью себя... не надо, не пятнай. У... у... устоять стремись. И Варю... если устоишь... не забудь о ней. Помоги. Варятка... жалко... нету ее. Но... может, и лучше. Зачем ей... сердце рвать. Спаси тебя Бог. И давай... обнимемся. А то... кто знает... когда...
Андрей Арефьевич попытался поднять руку — она лишь шевельнулась, но не поднялась. Евгений склонился, осторожно взял деда за плечи и прижался щекой к его лицу. И понял, что тот плачет.
Вскоре старик уснул. Дышал он вроде бы помягче и больше не стонал.
За окнами было хмуро — лил дождь, и гулял в вершинах деревьев ветер. Евгений долго сидел у стола, ссутулившись, положив на колени свои большие руки, и смотрел на деда. Потом тяжело поднялся, пошел к топчану и лег. И тоже уснул почти сразу же, словно провалился в бездонную тьму.
Проснулся он внезапно, с испугом — словно кто-то громко гар¬кнул в ухо. Однако стояла тишина, отчетливо стучали ходики. Евгений вскочил и кинулся к кровати. Дед лежал на спине с закрытыми глазами и больше не дышал. Лицо было спокойным и строгим, ни малейшего следа недавних мучений не осталось в его чертах. Парень медленно опустился на пол, привалился к кровати спиной и, уставившись в одну точку, стал гладить сидящего рядом Васька.
Хоронил он деда на третий день, как тот просил.
Лежал Андрей Арефьевич в гробу одетый во все новое, вымытый, побритый и аккуратно причесанный. Лоб его покрывал бумажный венчик с ликом Спасителя и ангелами, а на груди, возле рук, Евгений пристроил иконку — тоже Спасителя. В правую руку, которая покоилась на левой, был вложен платок со свечой. Под образами, над головой деда, горела лампадка.
Евгений и сам не заметил, как от одиночества начал в эти дни разговаривать вслух — с дедом, с Васьком, с кошкой и с Ленкой тоже, когда кормил ее.
— Так... — вздохнул он. — Пора, дед. Ты не бойся, я вынесу осторожненько, даже не шевельнешься. .
Двери были распахнуты. Он сдвинул гроб на столе так, чтобы тот почти наполовину оказался над полом, потом подлез под него и стал за края потихоньку стаскивать к себе на спину. А когда почувствовал, что гроб уравновесился на спине, то понес его из избы, стараясь держать ровно, не задеть нигде. Выносил деда как положено — ногами вперед. В сенях Евгений развернулся удачно и вышел на крыльцо, спустился со своей ношей по ступенькам тоже с полным везением — даже не зацепил ничуть.
Во дворе, возле тележки, стояли две табуретки, и, опустившись потихоньку сначала на одно колено, потом на другое, он поставил на них гроб.
— Вот, дед, — распрямившись, вытер со лба пот Евгений. — Я тебе говорил, все у нас идет — лучше и не надо. Ну... — глянул он на Ленку, стоящую неподалеку, на Васька, который суетился беспокойно, словно желая чем-то помочь, — прощайтесь, братцы. И ты, дед... прощайся со своим домом.
Тележка была подперта чурбаками, стояла ровно. Евгений подхватил гроб снизу, а другой рукой обнял понадежней и бережно перенес на нее. Потом взял с крыльца крышку, пристроил сбоку.
— Ну, что ж, — откинув ногой чурбаки, встал он в оглобли, — поехали потихоньку.
И осторожно, стараясь не попадать на ямки, повез деда через огород к могиле. Васек бежал рядом.
У могилы уже все было готово, чтобы опустить в нее гроб поудобнее. По бокам, откинув землю, Евгений вбил крепкие колья, а к ним приколотил гвоздями перекладину. Еще один кол торчал с восточной стороны могилы. Два нетолстых бревешка лежали поперек над нею и два других —- на расчищенной земле за изголовьем. Он со всеми предосторожностями перенес гроб на эти катки и двигал понемногу, пока тот не оказался над могилой, под перекладиной.
Веревки, которые Евгений снял с гвоздя в сенцах, были принесены сюда заранее, и, пропустив их под гробом с обеих сторон, он собрал концы вместе, перекинул через перекладину. А потом натянул и намотал на кол, торчащий с восточной стороны, зафиксировал понадежней. А чтобы веревки, чего доброго, не соскользнули, пришлось вбить внизу возле них с четырех сторон по гвоздю.
— Не обижайся, дед, — говорил Евгений, вбивая эти гвозди. — Приходится тебя беспокоить. Но зато уж... чтоб все четко.
Когда приготовления были закончены, он положил молоток на горку земли, постоял с минуту, глядя, не упустил ли чего, и встал на колени перед гробом.
— Ну, дед... настала пора... Ты... уж ради Бога, не поминай меня лихом.
И поцеловал старика в лоб.
Васек, который сидел рядом, жалобно заскулил — наверно, все понимал. И показалось, что в глазах у собаки слезы.
Не поднимаясь с колен, парень посмотрел вокруг. Было тихо, ветер угомонился еще вчера, и деревья с голыми ветвями стояли уныло, скорбно. Потом он обратил взгляд к небу, отыскал между облаками просвет пошире и перекрестился. И произнес, направляя слова туда:
— Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Андрея.
Так велел дед.
Пропустив крышку между веревками, Евгений прибил ее. Вытащил из-под гроба бревешки, и тот завис над могилой. Затем он освободил на колу веревки и, взявшись за них, упершись в кол ногой, начал понемногу отпускать. Гроб медленно уходил вниз.
Когда Евгений закончил, день уже клонился к вечеру.
Поставив тележку в сарай, сложив там подсобные колья, бревешки и определив по местам инструмент, — он вернулся к могиле и оглядел все взыскательно. И пришел к выводу, что полный порядок — холмик оформлен аккуратно, крест будет стоять прочно, скамейка, оградка тоже в норме. И чисто, ровно вокруг — утоптал как следует, подмел метлой. Евгений зашел в оградку, опустился на скамейку и сказал:
— Говоришь, дед, квиты мы теперь?.. Да нет, наверно, еще не до конца...
Он постарался, чтоб помянули деда все. Курам насыпал полное корыто пшеницы — и помянут пусть, и останется на будущее. Кто знает, когда придет Варя. Ленке притащил с огорода больших крепких кочанов, нарубил топором помельче! Для белки разложил и на крыльце, и в сенях сушеные грибки — появится Рыжок и сразу найдет. А кошке с Васьком дал повкуснее поесть в избе.
К еде, которую принес Андрей Арефьевич в сумке с похорон Веронии, Евгений до сей поры не притрагивался, жевал машинально что под руку попадется, и она хорошо сохранилась в сенцах — и ночи, и дни стояли холодные. На столе у него были и кутья, и разогретые на керосинке щи, картошка с мясом, и компот, и бутылка водки стояла. Все у него было, чтоб помянуть по-настоящему — дед позаботился.
Евгений налил стопку и, положив на нее хлеб, поставил напротив. Потом налил себе, перекрестившись на иконы, выпил и стал есть. Водка подействовала сразу — разошлась по телу теплом, пригасила многодневное напряжение, и сердце словно бы разжа¬лось, выпустило из своей глубины что-то упругое, какой-то комок, который подкатил к горлу. Евгений жевал, стараясь подавить этот комок, но вдруг не выдержал — со стуком опустил на стол тяжелые кулаки и, упершись в них лбом, глухо зарыдал.
18
Утром, прибрав как следует в избе, он стащил с сушила побольше сена, чтобы Ленке хватило надолго, перепоясался ремнем с автоматнымы магазинами и ножом и долго искал бумагу и ручку. Потом обнаружил в шкафчике старую тетрадь, в которую были записаны молитвы, вырвал из нее чистый листок. В выдвижном ящике стола отыскался сломанный карандаш. Евгений очинил его, сел за стол и написал:
"Варя, наш дед умер. У него был рак, и ничего нельзя сделать. Похоронил я его возле вишен, он просил. Там увидишь. Похоронил хорошо, по правилам. Дед меня научил. Так что не беспокойся. Ты держись, теперь надо держаться. Я его помянул, все у меня было. А ты поминай на девять дней. И дальше тоже. И он просил, чтобы отслужили в церкви. Умер 29 сентября. На другой день, как сам пришел с похорон. Еле пришел с сумкой. Я тут всех накормил и еще дал в запас. Они тебя дождутся. А мне надо идти. Если сумею, то как-нибудь сообщу про себя. Прошу тебя об одном деле. Мне охота на память часы деда, которые карманные. Если не жалко, ты их сохрани. И знай: я расшибусь в лепешку, а сюда приду. А кто тебя обидит, тому враз вырву зоб. Береги тут все.
Евгений".
Он положил на письмо для надежности кухонный нож, потом взял автомат и оглядел избу в последний раз. Вроде все нормально — кучки еды для Анфисы разложены возле печки, вода тоже есть. Васек сейчас сыт, а потом найдет свое в сенцах — там и ему на первое время хватит.
Избяную дверь он оставил приоткрытой настолько, чтобы прошла только Анфиса, положил полено. А дверь в сени приоткрыл пошире — тут должен пролезть Васек. Кур собака сюда не пустит.
...Подойдя к могиле, Евгений опустился на скамейку и несколько минут сидел молча. Потом оглядел все вокруг кордона долгим взглядом и прикоснулся к холмику рукой:
— Пойду я, дед. Теперь мне время терять нельзя.
Когда вернулся во двор, Васек вознамерился было провожать, но Евгений приказал ему сразу же:
— Сторожить! Крепко сторожить, Васек! И деда, и Ленку, и... всех. Не надо, брат, со мной. Лишние проводы — лишние слезы. Ну... держитесь тут. Варя придет.
Собака все же проводила немного за воротца, а потом села на дороге и смотрела на него таким взглядом, от которого у Евгения опять подкатил к горлу комок.
— Сторожить! — пересилив себя, еще раз приказал он
А когда кордон скрылся из виду, то послышался вдруг оттуда раздирающий душу вой.
Дорога была старая, поросшая кое-где мелколесьем, местами лежали поперек нее упавшие от ветра, гниющие деревья. Иногда она разветвлялась, но ни разу Евгений не сбился с пути — тропа, проторенная Варей в обход завалов, надежно вела его. Заметны были даже следы колесной сумы. И возникал временами след мотоцикла. Шел Евгений, как ему показалось, больше часа, и вскоре завиднелось в прогал шоссе.
Он выбрался на насыпь и стал ждать. Показался вдали грузовик, и Евгений вышел на середину дороги, поднял автомат. Машина резко затормозила. Водитель, молодой парень, оказался неробкого десятка.
, — Чего на середку-то вылез? — сказал он. — Или жить надоело?
— Думал, увидишь оружие — проскочишь мимо.
— Куда тебе?
— В райцентр. Срочно надо.
Когда ехали, шофер покосился на автомат и спросил:
— Ловите, что ль, кого?
— Ловим.
— Я слыхал — убежал там один. Говорят — поймали.
— Молодцы. А у тебя сигаретки не найдется?
Парень дал сигарету, и, прикурив, Евгений с жадностью затянулся дымом.
— Видать, достается ногам-то? — водителя тянуло на разговор.
— Тяжелая, наверно, работенка.
— Тяжелая. Не дай Бог никому такой.
В райцентре Евгений сказал парню:
— Подбрось до милиции, а то я не знаю, где она здесь.
— Да ладно... — нехотя согласился тот. — Тут вообще-то недалеко.
Проехали по одной улице, свернули на другую, и водитель ука¬зал кивком вперед:
— Вон она, милиция. Во-он, метров пятьдесят, где мен... милиционеры-то стоят.
— Останови здесь.
Он шел по улице с автоматом за плечом, и люди замедляли шаг, пораженно смотрели на него. У райотдела, возле легковых машин, стояли трое милиционеров, обсуждали что-то со смехом. Увидев человека с оружием, с запасом магазинов и ножом на поясе, они умолкли и, застыв, словно парализованные, ждали чего-то. Евгений подошел и вдруг, сорвав с плеча автомат, направил на них и рявкнул:
— Ложись, ментура! Живо ложись! Лицом вниз и руки на голову!
Милиционеры попадали на землю.
— Ага, — усмехнулся он. — Тяжелая у вас работенка.
И, поднявшись по ступенькам, не обращая внимания на людей в коридоре, зашагал к дежурке. Там было двое. Евгений вошел к ним, молча положил на стол автомат, расстегнул ремень с подсумком и ножом.
Эти тоже, не двигаясь, смотрели удивленно.
— Ну чего уставились-то? — опять усмехнулся он. — Берите. А то еще раздумаю и понаделаю тут из вас дуршлагов.
Январь — июль 1991.
В журнале "Наш современник" печаталась под названием "ШРАМЫ"


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"






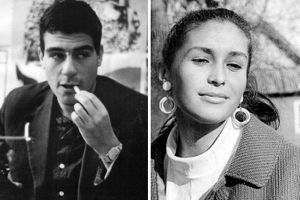
















































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский