Тимофей был очень старым, он прожил на белом свете около двадцати лет и понимал, что скоро придется умирать.
«Да, зажился я, зажился… – думалось ему время от времени. – Никакой радости не стало, таскаешься вялый, как тряпка, на забор влезть – и то больших трудов стоит, не говоря уж о настоящих делах…»
Рассуждать по-человечески вслух кот Тимофей не умел, он рассуждал только мысленно. Научился за долгую жизнь от людей их речам и свободно применял их в своих думах.
Люди – странные существа. Хоть и двигаются на двух ногах в стоячем высоком положении, хоть и знают всего уйму, умеют многое делать свободными руками, но не разумеют обыкновенной простой вещи: коты и кошки-то, живя возле них, привыкают понимать все, что говорят люди, и сами начинают мыслить по-ихнему, да к тому ж зачастую и поумней, чем иной из этих двуногих гордецов. У иного дури-то - глядеть и слушать стыдно.
Да, уж гордости, самомнения-то в них через край. Все, дескать, можем только мы, говорить по-нашему могут научиться только наши, человеческие, дети, а кошки, другие животные – собаки, к примеру, - это так себе, чушь, годятся лишь для того, чтоб мышей да крыс ловить, лаять, скулить да кусаться. Ох, чудаки, чудаки людишки… Неужели старый опытный кот глупее, чем человеческое дитя? Ведь я же и слова не хуже него освоить могу, я со своими четырьмя лапами и острыми когтями вспрыгну на забор и вижу намного больше, чем ты при твоем большом двуногом росте. А если залезу на крышу, то и вовсе небо мне ближе, видно все кругом, слышно, что соседи про тебя говорят. Рассказал бы я, но чего не могу, того не могу – это уж конечно. Да и наушничать мы, коты, по натуре не любители.
Так, примерно, размышлял кот Тимофей по поводу пренебрежения рода людского к остальным племенам животного мира.
Вслух он произносил только свое кошачье – густое внушительное «Нау!», да еще стало часто вырываться у него в последнее время негромкое печальное «Мру…». Вид у Тимофея был пока еще не столь уж и плачевный – крупное тело при первом взгляде не казалось дряблым, шерсть приятного светло-рыжего цвета свалялась лишь кое-где, а голова с небольшими ушами выглядела мудрой, в глазах светилась доброта, хотя хмурое выражение давно уже не сходило с его обличья. «Старость, - думал он. – Чего в ней хорошего? Умыться, облизать себя по-настоящему и то сил иногда нет. Вот и ворчу. Иной раз наладишься ворчать, никак себя не остановишь. На бабку Анну тоже вон жалко смотреть: ходит еле-еле, ставит-кладет все мимо, глаза-то уж видят плохо. Кому мы с нею такие нужны?... Да, жалко бабку Анну, к тому же она одна только, пожалуй и верит, что я ее понимаю… А все ж хорошо на свете-то, да-а, хорошо на свете…»
Тимофей жил в доме Анны, он родился и вырос тут. Муж бабкин умер давным-давно, когда Тимофея еще не было, дети ее – трое мужиков – разъехались по разным далеким местам и совсем почти забыли про мать, даже в летнее время редко когда наведывались. А если явятся бывало, – тошно от них. Пьют и пьют свою вонючую гадость. И бабке Анне тошно и ему, Тимофею, тоже – глаза бы не глядели. Младший вот только вроде еще ничего – и сердцем подобрей и пьет поменьше.
Бабка относилась к Тимофею с уважением – все-таки ведь единственная живая душа он при ней да к тому же не ворует, лучше честно, без нахальства, попросит поесть.
В юности Тимофей пробовал воровать. Но скоро понял, что ничего выгодного в этом нет. Нынче, к примеру, ты утащил у кого-либо из чулана кус свинины, нажрался с жадностью до отвала – и кум королю, сват министру. А завтра захватят тебя врасплох, шарахнут коромыслом по спине, и гуляй уродом. А кому нужен урод? Или того хуже – так треснут, что окончательно лапы врозь, закопают под забором, и точка. Котов, привыкших воровать, никто не любит, не уважает. Их уважали бы, может быть, если б они не сами мясо ели, а таскали хозяевам. А так что ж — доглядывают за подобными котами и хозяева, и соседи с особой зоркостью, и часто их лупят чем ни попадя.
Тимофей один раз схлопотал от соседа по загривку коромыслом — вскользь, правда, – другой раз получил увесистый удар половой тряпкой от бабки Анны, третий раз она его за ухо прилично оттрепала, и понял надежно: нет, так дело не пойдет, надо зарабатывать уважение. Он в то время только-только начинал усваивать человеческую речь. Лучше уж терпение иметь, решил тогда Тимофей, и попросить честно, причем, не крича назойливо «Нау!», а проникновенно глядя прямо в глаза и показывая лаской: я, мол, тебя люблю, никого у меня дороже нету, дай поесть. И дадут.
У бабки Анны он, таким образом, заработал уважение быстро, и с той поры она всегда давала ему поесть вовремя и уже даже пальцем не трогала никогда. А Тимофей, к чести своей, еще и мышей ловко ловил, с крысам расправлялся беспощадно. И обязательно приносил добычу в сени со двора: гляди, мол, бабка, я твои молоко-хлеб даром есть не собираюсь.
Постепенно бабка поверила, видать, что Тимофей хорошо понимает ее слова, и зауважала еще больше, стала делиться с ним своими печалями-горестями.
— Вот так-то, Тимоша, — говорила она. — Никому мы с тобой не нужны.
«Конечно, не нужны никому, — глядя ей в глаза, мысленно соглашался Тимофей. – Хорошо, хоть друг другу нужны».
– Дрова привезут, – продолжала бабка, – а испилить-исколоть их и некому. Бегай за каждым, нанимай за наши невеликие грошики, да и за грошики-то еще не больно идут, черствые стали люди.
«Черствые, заразы, – думал Тимофей в ответ. – В чужом дворе лучше никому на глаза не попадайся. Не крадешь, а хватаются за палку. Эх, бабка, испилил-исколол бы я твои дрова, да силы моей кошачьей на это не хватит».
И бабка Анна, словно слыша ответы Тимофея, гладила его по спине:
– Тимоша ты мой, Тимоша. Все-то понимаешь, по глазам вижу. Тоже ведь старый уж.
«А чего тут не понимать? – с сочувствием смотрел он. – Старость есть старость, понятное дело». И произносил вслух:
– Мру.
– Вот и я мру, Тимошенька, и я помаленьку мру.
Так они и жили.
Началась весна, и бабка экономила дрова, топила мало. И сама не отогревалась как следует, и Тимофею хотелось, чтоб хоть раз разомлели по-настоящему от тепла его старые кости. Когда бабка Анна ложилась спать, он забирался к ней на кровать и приваливался к ее боку. Кровь у обоих почти уже не грела, но все же несколько теплее становилось и коту и старухе.
И вот однажды ночью Тимофей почувствовал во сне, что от бабки Анны через одеяло идет не тепло, а холод, и проснулся, дрожа от озноба и тревоги. Он поцарапал там, где было под одеялом ее плечо, но бабка, обычно очень чуткая, даже не пошевелилась. Тогда Тимофей коснулся носом ее лица и сразу же понял: она больше не встанет с кровати, она умерла.
Тимофей долго сидел возле нее в темноте, вспоминал, как они жили столько лет душа в душу, старели вместе, как бабка Анна делилась с ним последним куском.
«Конечно, – думал он, – была бы у нее еще хоть какая-нибудь поддержка, хоть какой-либо дед завалящий. А то чего от меня – ни дрова я пилить-колоть не могу, ни доску приколотить к изгороди. Крыс-мышей ловить умел, это – да, поговорить со мною любила, а в целом-то мало я тебе помогал, ох мало, дорогая ты моя бабка Анна…»
И кот Тимофей заплакал. Плакать как и говорить, в открытую, по-человечески он не умел, плакал у себя внутри. Лег рядом с бабкой Анной, положил голову на лапы, и слезы текли у него в душе, долго не останавливались.
Потом наступил рассвет, и Тимофей начал пересиливать свое горе – предстояло решить, как быть дальше. Дверь закрыта, самому ее не открыть, а сообщить кому-то о смерти бабки Анны надо. Кому сообщить? Лучше, пожалуй, соседке бабке Любе. Но вот как сообщить?
Он еще раз посмотрел задумчиво в холодное лицо хозяйки и спрыгнул с кровати, пошел на кухню. Попробовал открыть дверь – потерся что было сил об нее спиной, на задних лапах даже приподнял, налегая, однако ничего не помогло. Тимофей посмотрел на окно – зимняя рама была еще не выставлена. Но форточка в ней оказалась открытой внутрь. «Во, – подумал Тимофей, – здесь надо попробовать. В молодости, помнится, не раз выпрыгивал наружу таким образом.»
От горя и отчаяния в нем прибыло силы, и Тимофей вскочил на стол, а оттуда скаканул в форточку, зацепился за узенький переплет. Потом, устроившись поудобней, толкнул внешнюю форточку лапой, и она сразу же открылась. «Слава тебе, Господи, – малость отлегло от сердца, – повезло». Он осторожно, тормозя когтями по стеклу, спрыгнул во двор, побежал к забору. Там невысоко между доской забора и чуланом бабки Любы был давний знакомый лаз, и Тимофей довольно легко преодолел его, оказался в соседнем дворе.
И тут только понял, что еще слишком рано, что бабка люба, которая тоже живет одна, причем даже без кота, без кошки, наверно еще спит. Тимофей тяжко поднялся на крылечко, сел у двери и стал ждать, с тоскою глядя в туманное весеннее небо. Где-то в следующем дворе раздался угрожающий вопль кота, ему ответил другой, некоторое время спустя, послышался вдалеке третий, искаженный страстью, похожий на голос человеческого ребенка.
«Гуляют мужики, – подумал Тимофей. – Одна любовь у них на уме, на все им сейчас наплевать. А тот, дальний, похоже, Виктора Дремова кот – правнук мой, кажись, в голосе чувствуется мое. Да-а, молодость… Тоже… было когда-то… А теперь вон какими приходится заниматься делами…»
Тоска его усиливалась, и Тимофей вдруг не выдержал.
– Нау-у! – плачуще закричал он. – Нау-у!
И в это время хлопнули в сенях избяной дверью, послышались шаги.
– Нау-у! – изо всех сил возопил Тимофей
– Да что ж это вы прямо в сени-то лезете? – возмущенно распахнула дверь на крылечко бабка Люба. – Спасу от вас нету!
Кот Тимофей сидел, не двигаясь с места, и смотрел прямо ей в глаза просящим отчаянным взглядом.
– Господи, – отшатнулась от этого взгляда бабка. – Тимофей, ты чего тут? Чего орешь под дверь? Кошки, сам знаешь, у меня нету, или уж умом тронулся на старости лет? Ступай домой, ступай нечего здесь орать.
– Н-нау! – не сводя с нее глаз, опять прокричал он. И кинувшись к лазу, обернулся, повторил оттуда: – Нау-у! Мру, мру…
– Да ты никак зовешь меня? – вроде бы начала понимать наконец бабка Люба. – Похоже ведь, за мной пришел, зовешь, а?
«Боже ты мой, – подумал с отчаянием Тимофей, – как же долго до нее доходит. Бабка Анна давно бы уж все поняла». Он позвал соседку еще раз и прыгнул через лаз на свой двор, больно ушиб бок.
Бабка Люба подошла к щели и посмотрела сквозь нее. Тимофей был уже на крыльце и дважды позвал ее оттуда.
– Зовет, – сказала бабка, – И вправду зовет. Видать, чегой-то у них там нехорошее получилось. Счас я, Тимофей, приду, счас оденусь – и мигом.
«Ну вот… – выходил из себя Тимофей. – Будешь теперь там валандаться…»
Она пришла через ворота – поскольку бабка Люба и бабка Анна были обе старыми и немощными, то они договорились в последнее время не запирать на ночь каждая свои ворота и двери, надеясь, что никто воровством не обидит, а если случится с какой-либо тяжкая болезнь или смерть, то другая тогда зайдет свободно да и обнаружит беду, и не придется ломать-корежить запоры.
– Мру, - негромко сказал Тимофей, встречая бабку Любу на крыльце. – Мр-ру…
– Да ты-то вроде еще не мрешь, – ответила она. – Ты пока еще через забор сигаешь. А вот с Анной, видать, чего-то плохо, чует мое сердце.
Она вошла торопливо в сени, и когда отворила дверь в избу, Тимофей проскочил вперед, повел ее прямо туда, где лежала бабка Анна. Соседка посмотрела на нее, коснулась осторожно щеки бабки Анны и с вытянувшимся, побледневшим лицом повернулась к иконам, стала быстро креститься:
– Упокой Господи, душу усопшей рабы твоей Анны, сотвори ей вечную память. Отмучилась, бедная, царствие ей небесное. Никогда мы с нею, бывало… за весь век ничего плохого…
И бабка Люба заплакала. Тимофей сидел возле нее и тоже смотрел на иконы. Соседка плакала и молилась еще некоторое время, потом вздохнула а и затопталась растерянно на месте, заметив рядом кота, сказала ему:
– Вот так, Тимофей, так-то вот оно. Подходит и наша очередь, все там будем.
«А то я без тебя не знаю», – раздраженно нахмурился душою Тимофей.
Потом бабка Люба сходила, позвала других старух, пришли еще какие-то дальние родственники бабки Анны и стали они все суетиться по дому, затопили печку. Тимофей залез на печку – там уже накапливалось настоящее тепло. От этого тепла сделалось коту еще грустней, он опять заплакал тихонько в своей душе. «Бабке Анне хоть разок, – думал Тимофей, – согреться бы вот так, по-настоящему, перед смертью…»
Покойную мыли теплой водой, обряжали, укладывали в гроб, монотонно читала одна из старух в переднем углу молитву, а Тимофей лежал на печи, смотрел на все это, слушал, и, погружаясь временами в тяжкую дрему, видел совсем другое – себя молодого, ловкого, бабку Анну шуструю еще, старательную и добрую.
На другой день приехали вечером двое старших сыновей бабки Анны – оба без жен и уже крепко выпившие. Они ходили по дому, говорили громче всех и заносчиво влезали во все дела. «Уже успели где-то нажраться, – хмуро думал Тимофей. – На похороны родной матери и то не могли приехать порядочными людьми, глаза бы на них не глядели…»
А ночью приехал и младший. Этот был с женой и совсем трезвый. Подойдя к матери, лежащей в гробу, он заплакал молча и уткнулся лбом в ее руки, сложенные на груди.
«Молодец, – оценил со вздохом Тимофей. – Хоть ты-то себя показал не свиньей, а человеком».
Готовили в печке поминальную еду. Пахло чем-то очень вкусным, но Тимофею, хотя он не ел уже два дня, ничего не хотелось. «Пускай уж управляются, нечего им мешать, а там видно будет», – решил он.
И вот наступил день похорон. Гроб с бабкой Анной подняли со стола и понесли наружу. И когда вышли все, кот Тимофей спустился с печки, выбрался потихоньку на крыльцо. И пошел позади людей за ворота, сел там в сторонке.
– Ты гляди-ка, – обернувшись заметила его плачущая бабка Люба. – Кот-то, Тимофей-то, а? Тоже ведь провожает. Господи ты Боже мой…
«Чего удивляется? – тускло думал Тимофей. – Мне бабка Анна была самая родная на свете, и я, может, был ей самый родной…»
Гроб с телом бабки Анны понесли на кладбище, а Тимофей все сидел у ворот и смотрел вслед. И опять текли у него в душе слезы. «Ничего, бабка Анна, – думал он. – Я тоже скоро помру. Может мы с тобой там еще и встретимся».
Тимофей много слышал о загробной жизни, не представлял только, как можно там существовать.
И он поплелся в дом – двери были открыты настеж, светило солнце, – забрался опять на печку и стал ждать, когда вернутся с кладбища. Несколько женщин продолжали заниматься делами – быстро сдвигали в передней столы, ставили скамейки, табуретки, носили еду.
Потом пришли все с кладбища, оставив там бабку Анну, и начали рассаживаться за столами. Одна из старух прочла необходимую молитву, пропели «Вечную память». «Тоже надо бы помянуть, чего ж это я?» – подумал Тимофей. Он слез с печки и сел на виду. И снова первой заметила его бабка Люба.
– Коту-то, – сказала она, – дайте тоже поесть. Голодный, небось, пускай помянет. Любила его Анна. Он ведь меня в дом-то привел, когда Анна отошла, он позвал, ей Богу. Смотрит в глаза жутко так и зовет, зовет. И провожать ее выходил за ворота, все понимает. Дайте ему, вишь смотрит – тоже охота помянуть благодетельницу-то.
И Тимофею дали поесть в уголке на кухне – младший сын бабки Анны сам проследил за этим. Помянув добрую свою хозяйку, Тимофей забрался снова на печку и от вкусной еды, от пережитого сразу же забылся крепким глухим сном.
Проснулся он от шума – дома остались лишь сыновья покойной хозяйки и жена младшего, их-то громкий разговор и разбудил Тимофея. Мужики были уже сильно пьяные, но все еще продолжали выпивать.
«Господи, – подумал с тоской Тимофей, и как это влезает в них столько поганой вонючки? Младший-то вроде еще ничего, жена за ним приглядывает, а эти… Приехали пьяные, на поминках жрали и все продолжают жрать. И никак не упадут – чугунные они, что ли?..»
Один из старших замычал что-то, пытаясь вроде запеть, но младший оборвал его:
– Прекрати! Забыл, что ли, зачем приехал?
– А чего? Мать, бывало, любила попеть. И… ничего. Она свое отжила, тут греха нету. Восемьдесят два года… Это, брат… Нам с тобой до такого не дожить.
– Не бойся, – сказал младший, – ты дольше проживешь.
«Точно, – поддержал его мысленно Тимофей. – Эта шкура дубовая, эта винная утроба и до ста лет доживет со своим невозможным свинством».
– А с домом-то, сказал самый старший, – надо чего-то делать.
– Нашел, о чем гадать, - икая с перепоя, ответил средний брат. – Продадим дом и поделим деньги. Жить-то здесь ты не будешь – так ведь?
– Скажешь тоже – жить здесь…
– Ну и вот. Тогда об чем же звук?
– А я бы не хотел продавать, – высказал свое мнение младший. – Можно сюда приезжать, отдыхать летом, ходить к матери на могилу… Все-таки выросли в этом доме, жалко его продавать.
– Фу ты-ну ты… Он будет отдыхать… Ну тогда гони нам две доли и отдыхай себе, сколько влезет.
– Да я думал – вы тоже…
– Он думал! Мы… Нам деньги нужны. Детишки-то – они отдыха не просят, они просят денежек.
«Ну и поганые же твари… – всею душою возмутился на печке Тимофей. – И где только они живут, в каком обществе, если не осталось в их утробах ни капли святого! Ох, паразиты… И главное – я для них словно не существую вовсе. Я тут прожил с бабкой Анной почти двадцать лет, разве нет в доме моей доли? Да сели по честности, то дом должен достаться младшему и мне. А от этих виноглотов бабка столько хлебнула горя, что им не только дом – им и щепки-то со двора ни одной давать нельзя. Но, – вздохнул сокрушенно Тимофей, – все равно обойдут они меня, поганцы, обойдут, это точно. Кто я для них? Я для них никто…»
– Отдали бы мы вам ваши две доли, сказала жена младшего. – Поднабрать только надо, и отдали бы. Может, подождете хоть года полтора?
– Хм, полтора… – усмехнулся старший. – За полтора года, дорогуша, знаешь, сколько водички утекает? Денежки-то – они нужны всем а бочку сразу.
– Ну, может, хоть год потерпите? – попросил младший. – Покупателя ведь тоже не больно-то сразу найдешь…
– Год? Потерпим, а? – старший хлопнул по плечу среднего. – Год-то нам – ничего.
– Для тебя, – сказал второй младшему, - мы, конечно… Чего ж для брата-то не потерпеть? Давай, действуй.
«Слава тебе Господи, – подумал Тимофей. – Может, хоть помру-то в своем доме».
Потом Тимофей уснул опять – переживание вконец обессилело его старый организм. Он спал всю ночь, а утром, очнувшись, понял, что братья собираются уезжать. Они выпили еще, поматерились без злости и стали уходить.
– Чего тут брать, – сказал старший, – старье одно, пускай остается. Да и народ здесь у нас не шибко вороватый.
– Конечно, – сказал средний – хрен ли тута. Жила мать, жила, а ничего не нажила. Ну и поехали.
«Сейчас все закроют, – испугался Тимофей, – и потом из дома не вылезешь».
Точно так они и сделали – захлопнули двери и вышли. Тимофей слез с печки и стал бродить по дому – думать, как же теперь быть. Ему сделалось тревожно: одно дело – умереть от старости, и совсем другое – кончить свою жизнь взаперти, от голода. Это же, видать, страшное мучение. «Боже ты мой, - размышлял он, – совсем плохо получается.»
И услыхал вдруг шаги, узнал по голосам бабку Любу и младшего.
– Он старый, – говорила соседка. – Он там где-нибудь. Анна его любила. Ты приоткрой двери, пускай живет и ходит. Будет хоть живая душа, мышей стращать есть кому. А взять чего – тут никто не польститься, и я пригляжу, не бойся. И дом внутрях ветерком станет обвеваться, а то без человека, взаперти, в нем нехорошо становится, затхло. Ворота на крючок закроете, ничего.
Вошел на кухню младший, увидев Тимофея, вздохнул и сказал:
– Ладно, давай пока тут за хозяина. Может, доживешь до нас.
И погладил кота по спине.
«Спасибо, – ответил мысленно Тимофей. – Может доживу, дай тебе Бог здоровья».
Они ушли, приоткрыв немного двери подложив под них, чтоб не захлопнуло ветром и не распахнуло во всю ширь, и Тимофей остался жить один в пустом доме. Весна набирала силу, потеплело, и холод его больше не одолевал. Мышей в доме и дворе водились еще, но остались в основном хитрые, и Тимофею, неповоротливому от старости, редко удавалось изловить одну-другую. Поначалу кот голодал, а потом приспособился пробираться через лаз во двор к бабке Любе, стал питаться в сарае из корыта вместе с ее курами. Размоченный хлеб, смешанный с вареной искрошенной картошкой – не так уж и плохо, жить можно.
Тимофей подумывал, что лучше, конечно, умереть поскорей, чем переживать такое унижение – питаться с курами, но смерть пока еще не брала его, а кончать самоубийством – считал подобную затею абсолютной глупостью.
Когда он приноровился ходить за пропитанием в сарай к бабке Любе, странное получилось дело. Соседка всегда вроде относилась к нему неплохо, понимала, что кот он серьезный и умный – сообщил даже о смерти своей хозяйки и провожать ее вышел за ворота, – бабка Люба и помянуть ему покойную велела дать, и попросила младшего не закрывать из-за Тимофея двери дома, но тут, в собственном дворе, когда замечала его у куриного корыта, то делалась недовольная и махала рукой:
– Ну вот, опять приперся. Накормишь вас всех…
И лишь однажды, спохватившись, поругала сама себя: дескать, чего я на него держу сердце, он же один в пустом доме, сирота, считай…
«Да-а, – размышлял с грустью Тимофей, – видать, доброй-то легко быть, пока у тебя ничего не съели…»
В ворах и нахлебниках он никогда особо не числился, сам себя уважал и привык, чтоб его уважали, и потому становилось ему неудобно и стыдно возле куриного корыта при таком бабкином отношении. Тимофей и рад был бы не ходить в соседский сарай, да куда ж денешься – смерть не берет, а есть иногда очень хочется. «Продолжала бы жить бабка Анна, – кручинился он, – она бы меня пожалела, а то и пожалеть по-настоящему уж некому…»
Общение с курами тоже оказалось не очень-то приятным. Они существовали без петуха – тот отравился чем-то и умер, – поэтому, наверно, стали равнодушными, подозрительными и злыми. Их было пять, и когда Тимофей ел с ними вместе из корыта, куры квохтали с ненавистью, каждой хотелось побольнее клюнуть кота, да мешала боязнь получить сдачи. «То, что вы осатанели без петуха – это понятно, – думал Тимофей. – Но главное в том, что кто-то не ваш ест из вашего корыта. Не проедаете ведь корм, остается, а все равно вон как зобы-то от злости раздуваются. А если бы я, к примеру, тоже разозлился и цапнул одну-другую как следует за горло? Тогда бы сразу зауважали, тогда бы стояли в сторонке стеснительно: ешь, мол, ешь, а мы уж как-нибудь потом. Господи, да почему ж это нынче мирным живым существам крошку от себя уделить жалеют, а тем, кто может за горло цапнуть – все пожалуйста, ешь хоть вместе с корытом?...»
Куры были противны Тимофею, но и тут приходилось терпеть, иного выхода не было.
Так он прожил почти все лето. Спал Тимофей по ночам чаще всего на кровати бабки Анны и, может, поэтому постоянно видел ее в своих старческих снах – всегда добрую и радостную. Но иногда не спалось, особенно почему-то в ясные звездные ночи. И тогда Тимофей выходил во двор, тяжко и медленно взбирался по оголенной и подгнившей из-за обветшавшей кровли стропилине сарая наверх и сидел на самом коньке, подолгу глядя в необъятное звездное небо, из глубины которого веяло могучей сжимающей сердце тайной.
«Говорят, когда помрешь, душа улетает туда, – оцепенело думал Тимофей. – Неужели и моя душа тоже улетит? Если так, то как же тогда встретимся мы тогда с бабкой Анной в этих невозможных глубинах и просторах?...» И ему становилось тоскливо и страшно оттого, что они с бабкой Анной могут где-нибудь там разминуться, что его, Тимофея, маленькая незаметная душа будет летать и летать сиротливо среди звездной неохватной бездны, ненужная никому.
Силуэт Тимофея четко обрисовывался на фоне ночного неба, и, разглядев этот силуэт, взбирался иногда к нему на крышу, какой-нибудь молодой любопытный кот. Дескать, чего это старик торчит столько времени на одном месте, может, и мне будет интересно.
Он садился рядом и тоже смотрел туда, куда смотрит Тимофей. Однако ничего интересного молодой там не находил – небо было как небо и звезды как звезды.
Тимофей поначалу не обращал внимания – пускай себе сидит, – но потом его начинало понемногу угнетать это праздное любопытство, и, повернувшись к молодому, он произносил негромко: «Мру».
«А-а, вон оно в чем дело…» – разочарованно думал молодой. И спускался с крыши, жалея, что без толку потерял время, уходил по своим интересным ночным делам.
Тимофей ждал – может, приедут младший сын бабки Анны с женой, дадут поесть чего-либо настоящего. Но они почему-то все не ехали.
И вдруг однажды он услыхал голоса в доме бабки Любы – давно уже не слышно было там столько разных голосов. Тимофей подошел к забору и посмотрел в щель. Выходили во двор время от времени старухи, женщины помоложе – носили в дом воду и еще что-то. И вскоре он понял, что бабка Люба тоже умерла, собираются ее хоронить. Тимофей отошел от забора и, грустный, потерянный, долго сидел на своем крыльце.
«Старухи умирают, – с тоской размышлял он, – а меня смерть не берет и не берет…». И заплакал потихоньку внутренними своими слезами – и оттого, что жалко было бабку Любу, которая хоть и не любила, когда он питался у ее кур, но все же относилась к нему неплохо, и оттого, что никак не берет его смерть.
Потом Тимофей слышал, как ловили в соседском дворе и зарубали кур для поминок, и стало ему еще муторней. «Злые, конечно, были существа, жадные, – думал он, – но все-таки ведь терпели меня, если б не они, то мучиться мне от голода. И…жалко их, ясное дело, вполне могли бы еще существовать дальше. И чем теперь питаться? Господи Боже, когда же моя-то очередь умирать?..»
Пока готовились к похоронам, выбрасывали на помойку кое-какие отходы – попадались среди них даже и мясные, - и Тимофей, в общем-то был сыт. Лазил он в соседский двор только утром пораньше и вечером, когда темнело – кто знает, какие там люди, может им не понравится.
У бабки Любы был сын, которого звали Андреем, но Тимофей плохо помнил его, потому что Андрей приезжал редко, не каждое даже лето. Еще сына называли кандидатом наук. Тимофей не знал, что это такое, но понимал, что человек, видать, не так себе, здешним не чета.
Вечером, накануне похорон Тимофей заглянул в щель забора и увидел постаревшего и седого сына бабки Любы, с трудом, но узнал его. Тот сидел на ступеньке крыльца, склонив голову и обхватив ее ладонями. Тимофею стало жалко Андрея, хотелось перелезть туда, во двор, подойти и потереться тихонько о ноги опечаленного человека. Но потом подумалось: не стоит мешать, пускай уж лучше посидит человек один, подумает покрепче. Да еще неизвестно, как отнесется, может, в горе-то саданет ногой под ребра – и лежи тогда, мучайся от боли. И через забор-то обратно не перелезешь.
На другой день отнесли бабку Любу на кладбище и вернулись поминать. Потолкались, поговорили немного во дворе, а потом стало тихо – вошли все в дом. Тимофей сидел у себя на крыльце. Он к этому времени сильно проголодался и думал: «Тоже надо бы помянуть бабку Любу, а то непорядок получается. Но как помянуть? Народ в основном чужой, могут не понять, опасное дело».
И все-таки перетащился с трудом через лаз, устроился ждать на соседском крыльце. Может, поймут. «Плохо, ох как плохо, - сжималось у него от стыда сердце. – Нищим ведь становлюсь. А вообще-то почему это – нищим? – попытался Тимофей оправдать свое ожидание перед чужой дверью. – Я же просто помянуть хочу. Соседка умерла, не помянуть – грех…» Однако, успокоить ему себя не удалось, наоборот стало еще стыдней и тоскливей.
Пока в доме поминали, дважды выскакивала во двор бойкая румяная женщина с ведром, выливала помои. Это была Клавдия, которая жила без мужа на другой стороне улицы, Тимофей хорошо ее знал, и она знала его. Но сейчас, в запарке, Клавдия не обратила на унылого кота никакого внимания и действовала с такой поспешной решимостью, что Тимофей счел за лучшее не попадать ей под ноги, посторонился под лавку и глядел оттуда.
Потом он опять уселся на видном месте, а вскоре стали выходить из дома люди и какой-то мужик, раздосадованный, видимо тем, что мало удалось выпить, увидев кота, без промедления пнул его ногой. Тимофей, превозмогая боль, забился под лавку. Бежать он боялся – сил мало, догонят, чего доброго, добавят еще. На лавку сели мужики, стали закуривать. Говорили они громко, спорили о какой-то перестройке, а о бабке Любе никто уж и не вспоминал.
Тимофей сидел в углу под лавкой, со страхом глядя на их огромные ноги и думал: «Вот так-то. Помянули, напились-наелись и забыли, зачем пришли сюда – горланят, будто на свадьбе. Я, если бы помянул, то не забыл бы про бабку Любу, желал и желал бы, чтоб земля ей была пухом. Я, конечно, и сейчас желаю ей этого, но голод все-таки здорово мешает. И бок еще к тому же болит – какой же злой оказался мужик…»
Постепенно от близости ног мужиков и от страха перед ними, от тупой боли в боку чувство голода притупилось у Тимофея, и потеряв всякую надежду помянуть соседку, он уже мечтал только об одном – как бы поскорей отсюда выбраться и утащиться в свой дом, лечь там на кровать и спрятаться в темном сне.
Наконец, распрощались, разошлись все, и, убедившись, что опасности больше никакой нет, Тимофей выбрался из-под лавки, потащился к забору. Карабкаясь к лазу, он сорвался, упал и одолеть преграду удалось лишь со второго раза. Дома Тимофей сиротливо свернулся калачиком на бабкиной кровати и сразу заснул. Однако и во сне продолжали одолевать его тревоги и страх.
Утром ломило все тело, разогнуться было трудно, не то, что потянуться по-настоящему, и к тому же опять обострилось чувство голода. Тимофей, пересилив немощь, неловко съехал с кровати и поплелся во двор – время раннее, удобное, и надо поскорей наведаться на соседскую помойку. Авось, выбросили туда вчера после поминок гору всякой всячины, и крысы, а так же коты и кошки которым не очень-то сытно живется дома, может еще не все успели растащить.
Тимофей удачно преодолел лаз, но во дворе покойной бабки Любы ждало его разочарование. На помойке копались вороны и грачи, и при первом же взгляде стало ясно, что опоздали и они, настоящее пиршество вершилось тут ночью. Тимофей, тем не менее шуганул птиц, и те, взлетев, расселись на крыше сарая, неприязненно взирали оттуда на него. Он с трудом разгрыз одну за другой несколько подходящих косточек, однако голода это совсем не утолило. «Докатился, дальше некуда, - думал уныло Тимофей. – Копаюсь на помойке, сравнялся уже с воронами. Ну кому нужна такая жизнь?» Грачей он еще как-то терпел, а ворон выносить не мог за их нахальство, хитрость и жадную неразборчивость.
Брезгливо встряхнув лапами, кот отошел от помойки подальше и стал умываться – тщательно, прилагая все свои последние силы. Хлопнули дверью, и Тимофей замер, словно парализованный – на крыльце появился Андрей, сын покойной соседки, кандидат наук. Он, как и в прошлый раз, сел на ступеньку, опустил седую голову и сжал ее ладонями. И опять Тимофею стало жалко его. Повинуясь этому чувству, не опасаясь больше за себя, кот подошел к крыльцу, уселся у нижней ступеньки и стал смотреть на Андрея.
Тот поначалу не замечал кота, но потом поднял голову, и неожиданно встретив его неподвижный сочувственный взгляд, вздрогнул:
– Господи… Ты откуда здесь? И смотрит… чего в душу-то смотришь?
– Мру, – тихо сказал Тимофей.
– Мрешь? Понятно. Ну да, похоже, старик ты совсем – сразу заметно.
– Мр-ру…
– Хм, есть, что ли, хочешь? Вид у тебя, брат… И потерянный и в то же время мудрый какой-то вид. Странный ты кот. Наверняка ведь кот, а? Ну ладно, пошли.
И Тимофею стало хорошо оттого, что Андрей сразу догадался и насчет его старости, и о том, что он кот, и о том, что ему хочется есть. «Кандидат наук… – подумал Тимофей. – Наверно, они все такие понятливые». И еще более безбоязненно вошел за Андреем в дом, стеснительно остановился сразу за порогом.
– Да ты не стесняйся, – сказал Андрей. – Проходи, проходи.
Тимофей подошел поближе.
– Хм, – усмехнулся кандидат наук, – да ты, оказывается, все понимаешь.
– «Хм, – передразнил его мысленно Тимофей, выходит, и кроме вас, кандидатов, кое-кто кое-что понимать умеет. А насчет поесть можно бы и побыстрей».
И, словно услышав его ответ, Андрей вытащил из холодильника едва ли не целый батон колбасы и отвалил ножом увесистый ломоть. При виде этого куска, от давно забытого колбасного духа у Тимофея помутилось в голове, и слюну сдержать кот не смог – она закапала на пол.
– Я тебе пожалуй помельче сделаю, – сказал Андрей. – А то еще не справишься – зубы-то уж небось не те.
И стал резать ломоть на маленькие кусочки.
«Правильно, – одобрял Тимофей. – Правильно, только побыстрей, дорогой ты мой…»
Есть он старался не спеша, тщательно прожевывая каждый кусочек, однако голод все же брал свое, и время от времени Тимофей забывал не спешить, глотал колбасу с жадностью, в какой-то момент даже чуть было не подавился.
– Да ты не торопись, – сказал кандидат наук, – ешь спокойно. Мало будет – еще дам.
«Тебе бы покопаться по помойкам, – подумал между делом Тимофей, – тогда бы я посмотрел, спокойно ты станешь есть или нет».
Потом хозяин налил в блюдце вчерашних поминальных щей – Тимофей с удовольствием съел и их. Тут уж он не торопился. И только после этого почувствовал себя окончательно сытым. «Удалось-таки помянуть бабку Любу, – думалось ему. – Слава тебе Господи, удалось, царствие ей небесное. Он опьянел от вкусной еды, тело связала истома. Хотелось лечь прямо здесь и уснуть. Однако надо было и честь знать. Тимофей подошел к кандидату, потерся немного о его ноги благодарно и направился к двери. «Умоюсь уж дома», – решил он.
– Куда же ты так сразу? – сказал Андрей. – Посидел бы со мной. Кис, ксс, звать-то тебя хоть как? Ну куда же ты?
И Тимофей вернулся – действительно, неудобно уходить так вот сразу. Он уселся чинно у ног кандидата и, пересиливая дрему, стал умываться.
– Ну, молодец, – восхищенно погладил его погладил его Андрей. – Молодец, брат, умеешь понимать. Вдвоем-то нам с тобой все полегче будет.
«Вдвоем, конечно, легче, – согласился Тимофей. – У тебя еда хорошая, может хоть умру-то не от голодной смерти. Если не надоем, то буду к тебе каждый день ходить. А то кто вас, кандидатов, знает – нынче одно настроение, а завтра встанешь не стой ноги да и отфутболишь за дверь.»
Не успел Тимофей умыться по-настоящему, как пришла Клавдия – помочь Андрею окончательно прибрать все в доме после похорон. Она увидела Тимофея и удивилась:
– Ты гляди-ка, Тимофей здесь.
– Так его, значит, Тимофеем зовут? – сказал Андрей. – Появился вот, понимаешь, откуда-то – старый, голодный. И смотрит в душу.
– Это покойной бабки Анны, соседки вашей, кот. Он там, в пустом доме, с весны один живет, ну и наголодался – ясное дело.
– Один в пустом доме? Н-да, несладко, видать, ему.
– Ему-то чего несладкого? Кот – он и есть кот. Это вот когда человек один…
«Эк она перед ним плечами-то дергает, – подумал про Клавдию Тимофей. – Будет теперь изо всех сил стараться понравиться – наскучалась без мужика-то. Плохо, если Клавдия понравится кандидату – он тогда отвлечется от меня и забудет покормить».
Но, судя по всему, Андрею было не до Клавдии, чувствовалось: ему хочется, чтоб она поскорей ушла. Клавдия, однако, не уходила, начала не спеша наводить порядок в избе. И под их разговоры Тимофей заснул незаметно для себя. А когда проснулся, Андрей уже сидел один за столом, все так же – обхватив седую голову ладонями.
– Вот такие дела-то, брат… – сказал он Тимофею, заметив, что тот проснулся. – Выходит, родня мы с тобой – ты один в пустом доме, и я один в пустом доме.
«Может и родня, – подумал Тимофей, – да не совсем. Ты кандидат, тебе небось где угодно дадут поесть.»
– Для чего нынче живет человек? – продолжал Андрей. Неужели только для того, чтобы стать в конце концов начисто одиноким и завыть от тоски волком? Взять хоть мою распроклятую жизнь. Ну что тут? Прожили бок о бок четверть века, а к чему пришли? К полному непониманию друг друга. К враждебному даже непониманию. Шли к нему, шли и шли. И плевать ей на все мои заботы-беды, плевать ей уже и на то, что у меня умерла мать. Нету больше матери. Она, может, единственная, кто понимал… Тоже… маялась одна в пустом доме…
«А ты бы приезжал почаще. – Тимофей вдруг почувствовал раздражение. – Мать-то, глядишь, и пожила бы подольше, и мне маялась по стольку времени одна в пустом доме. А то ходят где-то там в кандидатах, носа сюда не кажут, а потом… Плакаться-то легче всего».
– Да я тоже хорош. – Андрей словно бы уловил мысли Тимофея. – До конца не прощу себе – плохо обогревал мать, ох, плохо… Больше-то она меня грешного, обогревала. Эх, мама, бедная ты моя…
И по лицу Андрея покатились крупные слезы.
«А ведь прочувствовал все-таки. – Раздражение у Тимофея сразу же прошло, и опять ему стало жалко сына бабки Любы. – Почувствовал, по-настоящему, и тяжело сейчас мужику, понятное дело…»
– Вот, брат Тимофей… – Андрей размазывал кулаком по лицу слезы. – Вот только когда начинаем все понимать. Когда и матери уже нет, и на самого дети смотрят как на посторонний ненужный предмет. Вот теперь мы понимаем. Поздно, ох как поздно…
Понемногу Андрей успокоился и долго сидел молча. А Тимофея охватила вдруг тревога: «Торчу здесь столько времени, заснул даже в чужом доме, а про свой совсем забыл. Вылезет там какая-нибудь нахальная мышь и начнет хозяйничать, им только дай волю. Нет, так нельзя, а то становлюсь уже кем-то вроде приживальщика». Он заторопился к двери и произнес громко:
– Нау!
– Куда же ты? – очнувшись встрепенулся Андрей. – Чего там одному? Оставайся со мной. Может, поешь еще?
– Нау! – настойчиво повторил Тимофей.
– Ну, коль такое дело, то иди, что ж тут поделаешь.
Андрей проводил его, даже спустился следом с крыльца и, наблюдая, с каким трудом вскарабкался кот к своему лазу, сокрушенно покачал головой.
– Ты приходи, – сказал Андрей перед тем, как Тимофей спрыгнул к себе во двор. – Приходи давай, не забывай меня.
И Тимофей стал ходить к кандидату. Утром, когда тот, по расчетам, просыпался, кот, перебравшись через лаз, устраивался на соседском крыльце и терпеливо ждал. Лазить через забор становилось все тяжелее, и Тимофей иногда рассуждал мрачно: «Хоть бы догадался сделать лазейку внизу. Про мать свою вроде все осознал, пусть и с опозданием, а мою старость никак понять не может. Конечно, бабка Люба была человек, а я что – мелкое существо, я для него вроде забавы…»
Кандидат вскоре появлялся на крыльце и восклицал обрадовано:
– А-а, Тимофей пришел! Привет, брат, привет! Пошли, сейчас будем завтракать.
«Вот насчет завтрака – это ты молодец», – одобрял Тимофей.
Приготовив что-либо наскоро, Андрей сначала давал поесть коту, а уж потом садился за стол сам…
Наступила осень, становилось все холоднее, в Тимофеевой избе уже погуливал знобящий ветерок. А у Андрея был, наверное, отпуск. Он мало куда выходил из дома – лишь в магазин да к матери на могилу – и все время что-то писал, читал. Тимофей старался не мешать кандидату – возвращался после завтрака к себе и не являлся до вечера. Вечером, после ужина, кандидату хотелось поговорить и, обращаясь к коту, он доверительно излагал ему свои сокровенные мысли, большей частью невеселые.
Тимофею тоже было невесело – интереса к жизни совсем уж почти не стало, еду он принимал от кандидата и речи его выслушивал вынужденно, надвигались большие холода, а смерть все не брала и не брала. Иногда, правда, она подступала совсем близко. Тимофей даже ощущал ее леденящее дыхание, но потом почему-то отступала. Случалось это с Тимофеем и в доме соседа.
– Мру, – говорил он в такие моменты. – Мр-ру…
– Эх, Тимофей, – отвечал кандидат, не вникнув как следует в его состояние, – все мы, брат, мрем, только все по-разному. Одни вон от водки мрут – едва ль не через день их на кладбище таскают на плечах, а другие ходят, дышат, пьют-едят, вкусно, дела какие-то, вроде бы нужные, делают. А человека-то в них давно уж и нет, человек давно преставился, осталась одна оболочка. Как так можно – без интереса, без родства к ближнему? И что, брат, из этого следует? Поневоле согласишься с Экклезиастом: все суета сует и томленье духа. Как там у него еще? Эх, раньше-то ведь от начала до конца знал наизусть. Ага, вот послушай: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал, что и это – томленье духа, потому что во многой мудрости много печали, а кто умножает познание, тот умножает скорбь…»
«Ну, вошел в раж, – думал Тимофей, – понесло, мужика. Какой-то Экклезиаст… Это от одиночества. Лучше бы уж стакнулся с Клавдией, и не полезли бы тогда в голову никакие Экклезиасты. Странный народ – люди. От одиночества в такой раж могут войти – всем чертям станет тошно. Только вот насчет томления духа – это ты, кандидат, брось. Томленье-то вот оно – у меня перед смертью, потому что жить по-настоящему нету больше сил, а жизнь-то хороша, очень хороша, несмотря на ее гадства да пакости. А у тебя-то какое томленье. Дурь да обида. Да еще, конечно, горе…»
Реагировал Тимофей на речи кандидата подобным образом только изредка, в основном же слушал равнодушно.
Андрею было легче с Тимофеем – чувствовал, может, подспудно, что кот понимает его, и каждый раз уговаривал:
– Ну чего ты ходишь туда, в пустой дом? Оставайся совсем, живи у меня.
«А ты-то чего тут живешь, в пустом доме? – хмурился Тимофей. – Пошли жить ко мне, я не против. Себя они понимают, а других понять – на это их не хватает». И уходил, с трудом перетаскивая свое старое непослушное тело через лаз.
Однажды, находясь у кандидата, Тимофей почувствовал, что смерть совсем близко и больше уже не отступит.
– Мру, – сказал он. – Мр-ру…
И потащился из последних сил к выходу, боясь, что может умереть здесь, в чужом доме.
– Куда же ты? – не понял поначалу Андрей. – Ничего еще не ел, а уже уходишь.
– Мр-ру… – повторил едва слышно Тимофей.
И Андрей догадался наконец, бросился к двери, быстро распахнул ее. У Тимофея хватило сил лишь спуститься потихоньку с крыльца, а к забору он уже мог только ползти. Подполз, и собрав последние силы, попытался вскарабкаться к лазу, но только скользнул когтями по доске и упал.
– Господи… – смотрел ошеломленно Андрей. – Господи ты Боже мой…
Он взял Тимофея на руки, понес через свой двор. Пробежав улицей, откинул на соседских воротах крючок, вошел и бережно опустил кота на его родном крылечке. И Тимофей пополз дальше – в сени, потом на кухню через приоткрытую дверь, в переднюю к бабкиной старой кровати. Андрей не знал, как поступить теперь, чем помочь, растерянно шел следом.
У кровати Тимофей передохнул немного, уткнувшись носом в пол, и попытался влезть на нее. Однако не удалось и это – он зацепился когтями за ветхое покрывало, пахнущее бабкой Анной, и повис беспомощно. Андрей поднял Тимофея и уложил на кровать.
– Мру, – приспособив голову на вытянутых лапах и глядя мутнеющими глазами снизу вверх на Андрея, в последний раз тихо сказал Тимофей.
У него еще хватило сил лизнуть Андрею руку. Потом он закрыл глаза и умер.
– Господи ты Боже мой... – сквозь стиснутые зубы хрипло произнес Андрей. – Господи...
Он опустился на кровать рядом с умершим Тимофеем и долго сидел, по привычке склонив седую голову и обхватив ее ладонями.
...Хоронил Андрей Тимофея на меже между огородами – своим и покойной бабки Анны. Вырыл небольшую могилку, опустил в нее закрытую картонную коробку, в которой лежал Тимофей, и, закопав, устроил аккуратный холмик – такой же формы, как делают на кладбище.
Чуть дальше на меже стоял клен с пожелтевшей листвой. Ударил вдруг порыв свежего осеннего ветра, сорвал с клена много листьев, и они закружились, полетели вдаль над землей. А один лист задержался и плавно опустился на свежую могилу.
А потом упала на нее слеза одинокого человека.


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"
























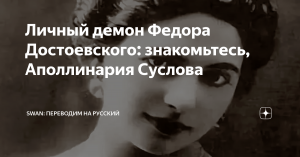


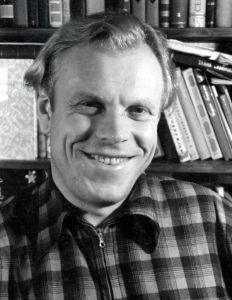


























 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Александр Ананичев
Александр Ананичев
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский