I
По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов. Было ему около тридцати пяти лет, и звали его Георгием Иванычем.
К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.
Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.
У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я – отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов.
Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург – не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.
В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», – и все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз.
После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.
Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, – очевидно, не считал меня человеком.
Только один раз я видел его сердитым. Однажды, – это было через неделю после того, как я поступил к нему, – он вернулся с какого-то обеда часов в девять, лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:
– У нас в комнатах чем-то воняет.
– Нет, воздух чист, – ответил я.
– А я тебе говорю, что воняет, – повторил он раздраженно.
– Я каждый день отворяю форточки.
– Не рассуждай, болван! – крикнул он.
Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.
– В самом деле, какой дурной запах! – сказала она, поднимая брови. – Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.
Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.
– Черт их возьми! – пробормотал он. – Хотят, чтоб я имел чудовищную память!
Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:
– Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.
Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.
– Зинаида Федоровна дома? – спросил я.
– Это я, – сказала дама.
– Письмо от Георгия Иваныча.
Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.
– Кланяйтесь и благодарите, – сказала она, кончив читать. – Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? – спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.
– Какие-то два господина, – ответил я. – Что-то пишут.
– Кланяйтесь и благодарите, – повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.
Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.
II
Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела, или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.
Оттого ли, что я не воровал вместе с нею, или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, нелакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял, и случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:
– Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.
Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.
Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:
– Поля, вы в бога веруете?
– А то как же!
– Стало быть, вы веруете, – продолжал я, – что будет Страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?
Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.
В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к «ты» и к постоянному лганью (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова нелегко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости – тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.
III
По четвергам у нас бывали гости.
Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральных карт. Поля уже с утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.
Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навыкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.
Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженые усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, не уверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, клянчить, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» – и затем следовали скабрезные пошлости – знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.
Третий гость – Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруткова: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощеньких детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон – он шел, ставили перед ним вино – пил, не ставили – не пил; бранили при нем жен – и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было, и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо:
Что день грядущий мне готовит? —
но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля.Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог как следует постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.
Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать, или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии – ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни – ирония, поднимал ли кто вопрос о народе – ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во Французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь – не продашь». И все в таком роде, и все смешно.
От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: На дела благотворительности и другая – На физиологические потребности . Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки; она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицерика», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.
В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.
IV
Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.
– Георгий Иваныч встал? – спросила она.
И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей, – я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.
– Это Зинаиде Федоровне, – сказала девушка.
И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» – и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:
– Степан, дайте Георгию Иванычу одеться.
Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался: очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед своим «внутренним оком». Одевался, умывался и потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.
Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.
– Мне все еще не верится, – сказала она. – Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.
С выражением девочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.
– Вы мне простите, – сказал Орлов, кивнув на газеты. – Читать за кофе – это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать и слушать.
– Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?
– Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.
– Отчего? Вы имели время приготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.
– Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.
– И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и – конец.
– Да, конечно.
– Ах, милый мой! – сказала она, зажмуривая глаза. – Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию, – продолжала она по-французски. – Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, потому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.
Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» – и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек.
– В вас сильно бьется романтическая жилка, – перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.
Она засмеялась и продолжала рассказывать, не дотрагиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.
– Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, – рассказывала она, – но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это, с точки зрения бога, нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом, через полицию». А немного погодя, гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось, что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите, – одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распоряжаться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой! Подряд две ночи не спала!
Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.
– У тебя уютная квартира, но, боюсь, для двоих она будет мала, – говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты. – Какую ты дашь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.
Во втором часу она переоделась в комнате рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный промежуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли, между прочим, великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.
Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что ею совершено что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась новою жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.
– Нет выше блага, как свобода! – говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. – Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но, как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.
Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался, и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О да!»
– Степан, найдите поскорее хорошего повара, – обратилась она ко мне.
– Не следует торопиться с кухней, – сказал Орлов, холодно поглядев на меня. – Надо сначала перебраться на новую квартиру.
Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дрязгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них – это дурной тон, мещанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа – она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего – ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...
V
Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отменить четверги.
Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.
– И барыня дома? – спросил у меня шепотом Кукушкин.
– Никак нет, – ответил я.
Он вошел с хитрыми, маслеными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.
– Честь имею поздравить, – сказал он Орлову, дрожа всем телом от льстивого, угодливого смеха. – Желаю вам плодитися и размножатися, аки кедры ливанстие.
Гости отправились в спальню и поострили там насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.
– Чему посмеяхомся, тому же и послужиша, – несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами. – Тише! – зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом. – Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.
И покатился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но я ошибся. Его доброе худощавое лицо сияло от удовольствия. Когда садились играть в карты, он, картавя и захлебываясь от смеха, говорил, что Жоржиньке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что, собственно, произошло.
– Но как же муж? – спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.
– Не знаю, – ответил Орлов.
Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:
– Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбляться друг в друга и нарушать седьмую заповедь сколько угодно – это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?
– А разве это не все равно?
– Гм... – задумался Пекарский. – Так вот что я тебе скажу, друг мой любезный, – продолжал он с видимым напряжением мысли, – если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим... как это называется?.. с этим романтизмом согласиться я не могу.
Орлов ничего не ответил. Он был не в духе, и ему не хотелось говорить. Пекарский, продолжая недоумевать, постучал пальцами по столу, подумал и сказал:
– Я все-таки вас обоих не понимаю. Ты не студент, и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты мог бы устроить для нее отдельную квартиру.
– Нет, не мог бы. Почитай-ка Тургенева.
– Зачем мне его читать? Я уже читал.
– Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы его идее, – сказал Орлов, иронически щуря глаза. – Край света – это licentia poеtica [1]: весь свет со всеми своими краями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире – значит отказывать ей в ее высоком назначении и не разделять ее идеалов. Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай.
– При чем тут Тургенев, не понимаю, – сказал тихо Грузин и пожал плечами. – А помните, Жоржинька, как он в «Трех встречах» идет поздно вечером где-то в Италии и вдруг слышит: Vieni pensando a me segretamente! [2] – запел Грузин. – Хорошо!
– Но ведь она не насильно к тебе переехала, – сказал Пекарский. – Ты сам этого захотел.
– Ну, вот еще! Я не только не хотел, но даже не мог думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переедет ко мне, то я думал, что она мило шутит.
Все засмеялись.
– Я не мог хотеть этого, – продолжал Орлов таким тоном, как будто его вынуждали оправдываться. – Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освобождать Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством иллюзий. Я не поеду к женщине, если заранее не уверен, что она будет красива, увлекательна; и сам я не поеду к ней, если я не в ударе. И лишь при таких условиях нам удается обмануть друг друга, и нам кажется, что мы любим и что мы счастливы. Но могу ли я хотеть медных кастрюлей и нечесаной головы, или чтобы меня видели, когда я неумыт и не в духе? Зинаида Федоровна в простоте сердца хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь. Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную жизнь и следить за каждым моим шагом и в то же время искренно уверять, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при мне и в купе и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать.
– А ты сделай ей внушение, – сказал Пекарский.
– Как? Ты думаешь, она поймет меня? Помилуй, мы мыслим так различно! По ее мнению, уйти от папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине – это верх гражданского мужества, а по-моему, это ребячество. Полюбить, сойтись с мужчиной – это значит начать новую жизнь, а по-моему, это ничего не значит. Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жены плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком, и с другой стороны – можно отказываться от наслаждений любви и в то же время быть глупым, злым животным. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например французский рабочий, тратит в день на обед десять су, на вино к обеду пять су и на женщину от пяти до десяти су, а свой ум и нервы он целиком отдает работе. Зинаида же Федоровна отдает любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил ее, что у нее в жизни ничего больше не осталось.
– Ты ей ничего не говори, – сказал Пекарский, – а просто найми для нее отдельную квартиру. Вот и все.
– Это легко говорить...
Немного помолчали.
– Но она мила, – сказал Кукушкин. – Она прелестна. Такие женщины воображают, что будут любить вечно, и отдаются с пафосом
– Но надо иметь голову на плечах, – сказал Орлов, – надо рассуждать. Все опыты, известные нам из повседневной жизни и занесенные на скрижали бесчисленных романов и драм, единогласно подтверждают, что всякие адюльтеры и сожительства у порядочных людей, какова бы ни была любовь вначале, не продолжаются дольше двух, а много – трех лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие – ничего больше, как желание одурачить себя и меня. Она и мила и прелестна – кто спорит? Но она перевернула телегу моей жизни; то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьезного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом. Она и мила и прелестна, но почему-то теперь, когда я еду со службы домой, у меня бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встречу у себя дома какое-то неудобство вроде печников, которые разобрали все печи и навалили горы кирпича. Одним словом, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своих нервов. А это скверно.
– И она не слышит этого злодея! – вздохнул Кукушкин. – Милостивый государь, – сказал он театрально, – я освобожу вас от тяжелой обязанности любить это прелестное создание! Я отобью у вас Зинаиду Федоровну!
– Можете... – сказал небрежно Орлов.
С полминуты Кукушкин смеялся тонким голоском и дрожал всем телом, потом проговорил:
– Смотрите, я не шучу! Не извольте потом разыгрывать Отелло!
Все стали говорить о неутомимости Кукушкина в любовных делах, как он неотразим для женщин и опасен для мужей и как на том свете черти будут поджаривать его на угольях за беспутную жизнь. Он молчал и щурил глаза и, когда называли знакомых дам, грозил мизинцем – нельзя-де выдавать чужих тайн. Орлов вдруг посмотрел на часы.
Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузин, охмелевший от вина, одевался в этот раз томительно долго. Он надел свое пальто, похожее на те капоты, какие шьют детям в небогатых семьях, поднял воротник и стал что-то длинно рассказывать; потом, видя, что его не слушают, перекинул через плечо свой плед, от которого пахло детской, и с виноватым, умоляющим лицом попросил меня отыскать его шапку.
– Жоржинька, ангел мой! – сказал он нежно. – Голубчик, послушайтесь меня, поедемте сейчас за город!
– Поезжайте, а мне нельзя. Я теперь на женатом положении.
– Она славная, не рассердится. Начальник добрый мой, поедем! Погода великолепная, метелица, морозик... Честное слово, вам встряхнуться надо, а то вы не в духе, черт вас знает...
Орлов потянулся, зевнул и посмотрел на Пекарского.
– Ты поедешь? – спросил он в раздумье.
– Не знаю. Пожалуй.
– Разве напиться, а? Ну, ладно, поеду, – решил Орлов после некоторого колебания. – Погодите, схожу за деньгами.
Он пошел в кабинет, а за ним поплелся Грузин, волоча за собою плед. Через минуту оба вернулись в переднюю. Пьяненький и очень довольный Грузин комкал в руке десятирублевую бумажку.
– Завтра сочтемся, – говорил он. – А она добрая, не рассердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее, бедную. Ах, милый человек! – радостно засмеялся он вдруг и припал лбом к спине Пекарского. – Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, сухарь сухарем, а женщин небось любит...
– Прибавьте: толстых, – сказал Орлов, надевая шубу. – Однако поедемте, а то, гляди, на пороге встретится.
– Vieni pensando a me segretamente! – запел Грузин.
Наконец уехали. Орлов дома не ночевал и вернулся на другой день к обеду.
VI
У Зинаиды Федоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцом. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всем комнатам, растерянно оглядывая столы и окна, но часы как в воду канули.
Вскоре после этого, дня через три, Зинаида Федоровна, вернувшись откуда-то, забыла в передней свой кошелек. К счастью для меня, в этот раз не я помогал ей раздеваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то в передней его уже не оказалось.
– Странно! – недоумевала Зинаида Федоровна. – Я отлично помню, вынула его из кармана, чтобы заплатить извозчику... и потом положила здесь около зеркала. Чудеса!
Я не крал, но мною овладело такое чувство, как будто я украл и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обедать, Зинаида Федоровна сказала Орлову по-французски:
– У нас завелись духи. Я сегодня потеряла в передней кошелек, а сейчас, гляжу, он лежит у меня на столе. Но духи не бескорыстно устроили такой фокус. Взяли себе за работу золотую монету и двадцать рублей.
– То у вас часы пропадают, то деньги... – сказал Орлов. – Отчего со мною никогда не бывает ничего подобного?
Через минуту Зинаида Федоровна уже не помнила про фокус, который устроили духи, и со смехом рассказывала, как она на прошлой неделе заказала себе почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адрес и магазин послал бумагу на старую квартиру к мужу, который должен был заплатить по счету двенадцать рублей. И вдруг она остановила свой взгляд на Поле и пристально посмотрела на нее. При этом она покраснела и смутилась до такой степени, что заговорила о чем-то другом.
Когда я принес в кабинет кофе, Орлов стоял около камина спиной к огню, а она сидела в кресле против него.
– Я вовсе не в дурном настроении, – говорила она по-французски. – Но я теперь стала соображать, и мне все понятно. Я могу назвать вам день и даже час, когда она украла у меня часы. А кошелек? Тут не может быть никаких сомнений. О! – засмеялась она, принимая от меня кофе. – Теперь я понимаю, отчего я так часто теряю свои платки и перчатки. Как хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка, и у нее не такой... отталкивающий вид.
– Вы не в духе. Завтра вы будете в другом настроении и поймете, что нельзя гнать человека только потому, что вы подозреваете его в чем-то.
– Я не подозреваю, а уверена, – сказала Зинаида Федоровна. – Пока я подозревала этого пролетария с несчастным лицом, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жорж, что вы мне не верите.
– Если мы с вами различно думаем о каком-нибудь предмете, то это не значит, что я вам не верю. Пусть вы правы, – сказал Орлов, оборачиваясь к огню и бросая туда папиросу, – но волноваться все-таки не следует. Вообще, признаться, я не ожидал, что мое маленькое хозяйство будет причинять вам столько серьезных забот и волнений. Пропала золотая монета, ну, и бог с ней, возьмите у меня их хоть сотню, но менять порядок, брать с улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнет, – все это длинно, скучно и не в моем характере. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть может, имеет слабость к перчаткам и платкам, но зато она вполне прилична, дисциплинированна и не визжит, когда ее щиплет Кукушкин.
– Одним словом, вы не можете с ней расстаться... Так и скажите.
– Вы ревнуете?
– Да, я ревную! – сказала решительно Зинаида Федоровна.
– Благодарю.
– Да, я ревную! – повторила она, и на глазах у нее заблестели слезы. – Нет, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать. – Она взяла себя за виски и продолжала с увлечением: – Вы, мужчины, бываете так гадки! Это ужасно!
– Ничего я не вижу тут ужасного.
– Я не видела, не знаю, но говорят, что вы, мужчины, еще в детстве начинаете с горничными и потом уже по привычке не чувствуете никакого отвращения. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жорж, ты, конечно, прав, – сказала она, подходя к Орлову и меняя свой тон на ласковый и умоляющий, – в самом деле, я сегодня не в духе. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мне противна, и я боюсь ее. Мне тяжело ее видеть.
– Неужели нельзя быть выше этих мелочей? – сказал Орлов, пожимая в недоумении плечами и отходя от камина. – Ведь нет ничего проще: не замечайте ее, и она не будет противна, и не понадобится вам из пустяка делать целую драму.
Я вышел из кабинета и не знаю, какой ответ получил Орлов. Как бы то ни было, Поля осталась у нас. После этого Зинаида Федоровна ни за чем уже не обращалась к ней и, видимо, старалась обходиться без ее услуг; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своим браслетом и треща юбками, то она вздрагивала.
Я думаю, что если бы Грузин или Пекарский попросили Орлова рассчитать Полю, то он сделал бы это без малейшего колебания, не утруждая себя никакими объяснениями; он был сговорчив, как все равнодушные люди. Но в отношениях своих к Зинаиде Федоровне он почему-то даже в мелочах проявлял упрямство, доходившее подчас до самодурства. Так уж я и знал: если что понравилось Зинаиде Федоровне, то наверное не понравится ему. Когда она, вернувшись из магазина, спешила похвалиться перед ним обновками, то он мельком взглядывал на них и холодно говорил, что чем больше в квартире лишних вещей, тем меньше воздуха. Случалось, уже надевши фрак, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись с Зинаидою Федоровной, он вдруг из упрямства оставался дома. Мне казалось тогда, что оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастным.
– Почему же вы остались? – говорила Зинаида Федоровна с напускною досадой и в то же время сияя от удовольствия. – Почему? Вы привыкли по вечерам не сидеть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня изменяли вашим привычкам. Поезжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.
– А разве вас винит кто-нибудь? – говорил Орлов.
С видом жертвы он разваливался у себя в кабинете в кресле и, заслонив глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась из рук, он грузно поворачивался в кресле и опять заслонял глаза, как от солнца. Теперь уж ему было досадно, что он не ушел.
– Можно войти? – говорила Зинаида Федоровна, нерешительно входя в кабинет. – Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.
Помню, в один из вечеров она вошла так же вот нерешительно и некстати и опустилась на ковер у ног Орлова, и по ее робким, мягким движениям видно было, что она не понимала его настроения и боялась.
– А вы все читаете... – начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему. – Знаете, Жорж, в чем еще тайна вашего успеха? Вы очень образованны и умны. Это у вас какая книга?
Орлов ответил. Прошло в молчании несколько минут, показавшихся мне очень длинными. Я стоял в гостиной, откуда наблюдал обоих, и боялся закашлять.
– Я хотела что-то сказать вам... – проговорила тихо Зинаида Федоровна и засмеялась. – Сказать? Вы, пожалуй, станете смеяться и назовете это самообольщением. Видите ли, мне ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этот вечер провести вместе. Да? Можно так думать?
– Думайте, – сказал Орлов, заслоняя глаза. – Истинно счастливый человек тот, кто думает не только о том, что есть, но даже о том, чего нет.
– Вы сказали что-то длинное, я не совсем поняла. То есть вы хотите сказать, что счастливые люди живут воображением? Да, это правда. Я люблю по вечерам сидеть в вашем кабинете и уноситься мыслями далеко, далеко... Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух!
– Я в институте не был, не проходил этой науки.
– Вы не в духе? – спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку. – Скажите – отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня...
Прошло в молчании еще несколько длинных минут.
– Отчего вы переменились? – сказала она тихо. – Отчего вы не бываете уже так нежны и веселы, как на Знаменской? Прожила я у вас почти месяц, но мне кажется, мы еще не начинали жить и ни о чем еще не поговорили как следует. Вы всякий раз отвечаете мне шуточками или холодно и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?
– Я всегда говорю серьезно.
– Ну, вот давайте говорить. Ради бога, Жорж... Давайте?
– Давайте. Но о чем?
– Будем говорить о нашей жизни, о будущем... – сказала мечтательно Зинаида Федоровна. – Я все строю планы жизни, все строю – и мне так хорошо! Жорж, я начну с вопроса: когда вы оставите вашу службу?..
– Это зачем же? – спросил Орлов, отнимая руку от лба.
– С вашими взглядами нельзя служить. Вы там не на месте.
– Мои взгляды? – спросил Орлов. – Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смею вас уверить.
– Опять шуточки, Жорж!
– Нисколько. Служба не удовлетворяет меня, быть может, но все же для меня она лучше, чем что-нибудь другое. Там я привык, там люди такие же, как я; там я не лишний, во всяком случае, и чувствую себя сносно.
– Вы ненавидите службу, и вам она претит.
– Да? Если я подам в отставку, стану мечтать вслух и унесусь в иной мир, то, вы думаете, этот мир будет мне менее ненавистен, чем служба?
– Чтобы противоречить мне, вы готовы даже клеветать на себя, – обиделась Зинаида Федоровна и встала. – Я жалею, что начала этот разговор.
– Что же вы сердитесь? Ведь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живет, как хочет.
– Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которые противны вашим убеждениям, – продолжала Зинаида Федоровна, в отчаянии всплескивая руками, – подчиняться, поздравлять начальство с Новым годом, потом карты, карты и карты, а главное, служить порядкам, которые не могут быть вам симпатичны, – нет, Жорж, нет! Не шутите так грубо. Это ужасно. Вы идейный человек и должны служить только идее.
– Право, вы принимаете меня за кого-то другого, – вздохнул Орлов.
– Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вам противна, вот и все, – проговорила сквозь слезы Зинаида Федоровна.
– Вот что, моя милая, – сказал Орлов наставительно, поднимаясь в кресле. – Вы сами изволили заметить, человек я умный и образованный, а ученого учить – только портить. Все идеи, малые и великие, которые вы имеете в виду, называя меня идейным человеком, мне хорошо известны. Стало быть, если службу и карты я предпочитаю этим идеям, то, вероятно, имею на то основание. Это раз. Во-вторых, вы, насколько мне известно, никогда не служили и суждения свои о государственной службе можете черпать только из анекдотов и плохих повестей. Поэтому нам не мешало бы условиться раз навсегда: не говорить о том, что нам давно уже известно, или о том, что не входит в круг нашей компетенции.
– Зачем вы со мной так говорите? – проговорила Зинаида Федоровна, отступая назад, как бы в ужасе. – Зачем? Жорж, опомнитесь, бога ради!
Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела задержать слезы, но вдруг зарыдала.
– Жорж, дорогой мой, я погибаю! – сказала она по-французски, быстро опускаясь перед Орловым и кладя голову ему на колени. – Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... В детстве ненавистная, развратная мачеха, потом муж, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом... И эта страшная, наглая горничная! – продолжала она, рыдая. – Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!
Я не ожидал, что эти слова и этот плач произведут на Орлова такое сильное впечатление. Он покраснел, беспокойно задвигался в кресле, и на лице его вместо иронии показался тупой, мальчишеский страх.
– Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вам, – растерянно забормотал он, трогая ее за волосы и плечи. – Простите меня, умоляю вас. Я был не прав и... ненавижу себя.
– Я оскорбляю вас своими жалобами и нытьем... Вы честный, великодушный... редкий человек, я сознаю это каждую минуту, но меня все дни мучила тоска...
Зинаида Федоровна порывисто обняла Орлова и поцеловала его в щеку.
– Только не плачьте, пожалуйста, – проговорил он.
– Нет, нет... Я уже наплакалась, и мне легко.
– Что касается горничной, то завтра же ее не будет, – сказал он, все еще беспокойно двигаясь в кресле.
– Нет, она должна остаться, Жорж! Слышите? Я уже не боюсь ее... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы – редкий... необыкновенный человек!
Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезинками на ресницах, сидя на коленях у Орлова, она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминание детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке. Она увлекалась и своим рассказом, и близостью любимого человека, и оттого, вероятно, что недавние слезы очистили и освежили ее душу, голос ее звучал необыкновенно чисто и искренно. А Орлов играл ее каштановыми волосами и целовал ее руки, беззвучно прикасаясь к ним губами.
Затем пили в кабинете чай, и Зинаида Федоровна читала вслух какие-то письма. В первом часу пошли спать.
В эту ночь у меня сильно болел бок, и я до самого утра не мог согреться и уснуть. Мне слышно было, как Орлов прошел из спальни к себе в кабинет. Просидев там около часа, он позвонил. От боли и утомления я забыл о всех порядках и приличиях в свете и отправился в кабинет в одном нижнем белье и босой. Орлов в халате и в шапочке стоял в дверях и ждал меня.
– Когда тебя зовут, ты должен являться одетым, – сказал он строго. – Подай другие свечи.
Я хотел извиниться, но вдруг сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косяк.
– Вы больны? – спросил Орлов.
Кажется, за все время нашего знакомства это он в первый раз сказал мне «вы». Бог его знает, почему. Вероятно, в нижнем белье и с лицом, искаженным от кашля, я плохо играл свою роль и мало походил на лакея.
– Если вы больны, то зачем же вы служите? – сказал он.
– Чтобы не умереть с голода, – ответил я.
– Как все это, в сущности, пакостно! – тихо проговорил он, идя к своему столу.
Пока я, накинув на себя сюртук, вставлял и зажигал новые свечи, он сидел около стола и, протянув ноги на кресло, обрезывал книгу.
Оставил я его углубленным в чтение, и книга уже не валилась у него из рук, как вечером.
VII
Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживает воспитанный во мне с детства страх – показаться чувствительным и смешным; когда мне хочется ласкать и говорить нежности, я не умею быть искренним. Вот именно от этого страха и с непривычки я никак не могу выразить с полной ясностью, что происходило тогда в моей душе.
Я не был влюблен в Зинаиду Федоровну, но в обыкновенном человеческом чувстве, какое я питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова.
Работая по утрам сапожною щеткой или веником, я с замиранием сердца ждал, когда, наконец, услышу ее голос и шаги. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и надевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась на мое плечо, потом ждать, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях, розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика, – если б вы знали, как все это было для меня важно! Мне хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. Я мечтал и за обедом, и на улице, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спал. Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезились жена, детская, тропинки в саду, домик...
Я знал, что если бы я полюбил ее, то не посмел бы рассчитывать на такое чудо, как взаимность, но это соображение меня не беспокоило. В моем скромном, тихом чувстве, похожем на обыкновенную привязанность, не было ни ревности к Орлову, ни даже зависти, так как я понимал, что личное счастье для такого калеки, как я, возможно только в мечтах.
Когда Зинаида Федоровна по ночам, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядела в книгу, не перелистывая страниц, или когда вздрагивала и бледнела оттого, что через комнату проходила Поля, я страдал вместе с нею, и мне приходило в голову – разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, сделать поскорее так, чтобы она узнала все то, что говорилось здесь в четверги за ужином, но – как это сделать? Все чаще и чаще мне приходилось видеть слезы. В первые недели она смеялась и пела свою песенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой месяц у нас в квартире была унылая тишина, нарушаемая только по четвергам.
Она льстила Орлову и, чтобы добиться от него неискренней улыбки или поцелуя, стояла перед ним на коленях, ласкалась, как собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нее на душе было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мне казалось странным, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего? Мне особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, ненужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах и когда венецианским и брюссельским кружевницам платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом; и мне было странно, что Зинаида Федоровна не сознает этого, мне было досадно. Но стоило ей только уйти из дому, как я все извинял, все объяснял и ждал, когда позвонит мне снизу швейцар.
Относилась она ко мне как к лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и в то же время не замечать ее; мне приказывали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия. Хозяева считали неприличным говорить со мной больше, чем это принято; если б я, прислуживая за обедом, вмешался в разговор или засмеялся, то меня, наверное, сочли бы сумасшедшим и дали бы мне расчет. Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, как обращаться с новою лампой или что-нибудь вроде, то лицо у нее было необыкновенно ясное, доброе и приветливое, и глаза смотрели мне прямо в лицо. При этом мне всякий раз казалось, что она с благодарностью вспоминает, как я носил ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ее фаворитом и ненавидевшая меня за это, говорила с язвительной усмешкой:
– Иди, тебя твоя зовет.
Зинаида Федоровна относилась ко мне как к существу низшему и не подозревала, что если кто и был в доме унижен, так это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдал за нее и раз двадцать на день спрашивал себя, что́ ожидает ее впереди и чем все это кончится. Дела с каждым днем заметно становились хуже. После того вечера, когда говорили о службе, Орлов, не любивший слез, стал, видимо, бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Федоровна начинала спорить или умолять или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он все реже и реже ночевал дома и еще реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих приятелей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Федоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами. Обед приносили из ресторана, квартирного вопроса Орлов просил не поднимать впредь до возвращения из-за границы, а о путешествии говорил, что нельзя ехать раньше, чем у него отрастут длинные волосы, так как таскаться по отелям и служить идее нельзя без длинных волос.
В довершение всего к нам в отсутствие Орлова стал наведываться по вечерам Кукушкин. В поведении его не было ничего особенного, но я все никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну. Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше церковного и что, в сущности, все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Федоровне и поклониться ей в ножки.
VIII
Рождественские Святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизующему какую-то губернию.
– Не хочется ехать, да не придумаешь отговорки! – сказал он с досадой. – Надо ехать, ничего не поделаешь.
От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.
– Надолго? – спросила она.
– Дней на пять.
– Я, признаться, рада, что ты едешь, – сказала она, подумав. – Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.
Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он несвободен.
– Я поеду сегодня вечером, – сказал он и стал читать газеты.
Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вок– зал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.
В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукою и поцеловал в лоб и в губы.
– Будь умницей, не скучай без меня, – проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул. – Храни тебя создатель.
Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.
– Прости мне наши недоразумения, – сказала она по-французски. – Муж и жена не могут не ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнее.
Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на средине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешительно спускаться вниз.
У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает, как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?
Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:
– Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!
Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.
– Вот что, Степан, – сказал он, подходя ко мне. – Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.
Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.
– Не опоздали к поезду? – спросила Зинаида Федоровна.
– Никак нет. Приказали кланяться.
Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего, и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был не плохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, сгодилось, очевидно, то, что первое пришло в голову; удастся обман – хорошо, не удастся – беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.
В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали «ура», Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого лежанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.
– Нужно отправить телеграмму, – сказала она и улыбнулась. – Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.
Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».
Я послал эту телеграмму и на другой день утром отдал расписку.
IX
Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.
– Зажилась, пора и честь знать! – говорила она с восторгом. – Самой бы надо понимать...
Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас недолго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза, – флаконы, черепаховые шпильки, платки, ботинки. На другой день Нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:
– Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!
За обедом она хотела налить себе супу, но не могла – дрожали руки. И губы у нее дрожали. Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.
– Вы, Поля, можете выйти отсюда, – сказала она. – Достаточно одного Степана.
– Ничего-с, постою-с, – ответила Поля.
– Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем... совсем! – продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении. – Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!
– Без приказания барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.
– Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! – сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.
– Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.
– Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! – крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке. – Вы воровка! Слышите?
Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, показалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан, – как бы говорили они, – а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».
– Важная барыня, подумаешь! – доносилось до моего слуха из комнаты Поли. – Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!
Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.
– Телеграммы не приносили? – спросила она.
– Никак нет.
– Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому, – сказала она мне вслед, – мне страшно оставаться одной.
Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы. Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкафах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки – нет ли в них телеграммы.
Когда, наконец, в субботу позвонили снизу и на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал!
– Отчего ты не телеграфировал? – говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости. – Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О боже мой!
– Очень просто! Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву, я не получал твоих телеграмм, – сказал Орлов. – После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет, а теперь спать, спать и спать. Замаялся в вагоне.
Видно было, что он не спал всю ночь, вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей, потом послышался громкий вздох Орлова и его голос.
– Боже мой! – сказал он по-французски. – Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной?
– Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей.
– Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите иметь характера... Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек: на каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов.
– Ну, будет, будет! – сказала испуганно Зинаида Федоровна. – Перестанем говорить об этом... Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве... Что в Москве?
X
На другой день – это было 7 января, день Иоанна Крестителя – Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравить его с ангелом. Нужно было ехать к двум часам, а когда он кончил одеваться, было только половина второго. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидой Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей:
– Ради бога, ради всего святого, не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому! И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и с азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы! Как бы одолжили!
– Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь.
– Я вам даю полную свободу, будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку, не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах: о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец. Высший свет бранят всегда, чтобы противупоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны, но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший, и это не было бы ложью и кривляньем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств – потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.
– Мужик и купец кормят вас.
– Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шапку, значит, у них не хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший – оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Ну-с, что же касается теперь ненормальностей брака, – продолжал Орлов, взглянув на часы, – то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных, – одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас все, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете очертя голову мужчин и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мне, будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам.
Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик, и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал.
– Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом, – говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной. – Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью!
– Ну, и прекрасно.
– Если вы честный, порядочный человек, то вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня и вас над тысячами людей, которые хотели бы поступить так же, как я, но не решаются из малодушия или мелких расчетов. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмехаетесь над честным порывом из страха, чтобы какой-нибудь невежда не заподозрил, что вы честный человек. Вы боитесь показывать меня своим знакомым, для вас нет выше наказания, как ехать вместе со мною по улице... Что? Разве это не правда? Почему вы до сих пор не представили меня вашему отцу и вашей кузине? Почему? Нет, мне это надоело, наконец! – крикнула Зинаида Федоровна и топнула ногой. – Я требую того, что мне принадлежит по праву. Извольте представить меня вашему отцу!
– Если он вам нужен, то представьтесь ему сами. Он принимает ежедневно по утрам от десяти до половины одиннадцатого.
– Как вы низки! – сказала Зинаида Федоровна, в отчаянии ломая руки. – Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидеть вас. О, как вы низки!
– Мы всё ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути. Вся суть в том, что вы ошиблись и не хотите в этом сознаться вслух. Вы воображали, что я герой и что у меня какие-то необычайные идеи и идеалы, а на поверку-то вышло, что я самый заурядный чиновник, картежник и не имею пристрастия ни к каким идеям. Я достойный отпрыск того самого гнилого света, из которого вы бежали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, так как ошиблись вы, а не я.
– Да, я сознаюсь: я ошиблась!
– Вот и прекрасно. До главного договорились, слава богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до вас я не могу, так как слишком испорчен; унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком. Остается, стало быть, одно...
– Что? – быстро спросила Зинаида Федоровна, притаив дыхание и ставши вдруг бледною, как бумага.
– Остается позвать на помощь логику...
– Георгий, за что вы меня мучаете? – сказала Зинаида Федоровна вдруг по-русски надтреснувшим голосом. – За что? Поймите мои страдания...
Орлов, испугавшийся слез, быстро пошел в кабинет и, не знаю зачем, – желал ли он причинить ей лишнюю боль или вспомнил, что это практикуется в подобных случаях, – запер за собою дверь на ключ. Она вскрикнула и побежала за ним вдогонку, шурша платьем.
– Это что значит? – спросила она, стучась в дверь. – Это... это что значит? – повторила она тонким, обрывающимся от негодования голосом. – А, вы вот как? Так знайте же, я ненавижу, презираю вас! Между нами все уже кончено! Все!
Послышался истерический плач, с хохотом. В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орлов пробрался из кабинета в переднюю через другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надел шинель и цилиндр и вышел.
Прошло полчаса, час, а она все плакала. Я вспомнил, что у нее нет ни отца, ни матери, ни родных, что здесь она живет между человеком, который ее ненавидит, и Полей, которая ее обкрадывает, – и какою безотрадной представилась мне ее жизнь! Я, сам не знаю зачем, пошел к ней в гостиную. Она, слабая, беспомощная, с прекрасными волосами, казавшаяся мне образцом нежности и изящества, мучилась как больная; она лежала на кушетке, пряча лицо, и вздрагивала всем телом.
– Сударыня, не прикажете ли сходить за доктором? – спросил я тихо.
– Нет, не нужно... пустяки, – сказала она и посмотрела на меня заплаканными глазами. – У меня немножко голова болит... Благодарю.
Я вышел. А вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и отдал ему письмо. Когда я всякий раз возвращался обратно с письмом, она бранила меня, умоляла, совала мне в руку деньги – точно в горячке. И ночью она не спала, а сидела в гостиной и разговаривала сама с собой.
На другой день Орлов вернулся к обеду, и они помирились.
В первый четверг после этого Орлов жаловался своим приятелям на невыносимо тяжелую жизнь; он много курил и говорил с раздражением:
– Это не жизнь, а инквизиция. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощении, опять слезы и вопли, а в итоге – у меня нет теперь собственной квартиры, я замучился и ее замучил. Неужели придется жить так еще месяц или два? Неужели? А ведь это возможно!
– А ты с ней поговори, – сказал Пекарский.
– Пробовал, но не могу. Можно смело говорить какую угодно правду человеку самостоятельному, рассуждающему, а ведь тут имеешь дело с существом, у которого ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слез, они меня обезоруживают. Когда она плачет, то я готов клясться в вечной любви и сам плакать.
Пекарский не понял, почесал в раздумье свой широкий лоб и сказал:
– Право, нанял бы ты ей отдельную квартиру. Ведь это так просто!
– Ей нужен я, а не квартира. Да что говорить? – вздохнул Орлов. – Я слышу только бесконечные разговоры, но не вижу выхода из своего положения. Вот уж воистину без вины виноват! Не назывался груздем, а полезай в кузов. Всю свою жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы и вдруг, словно на смех, попал в самые настоящие герои. Уверяю честным словом, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимые доказательства, но мне не верят. Почему не верят? Должно быть, в самом деле у меня в физиономии есть что-нибудь геройское.
– А вы поезжайте ревизовать губернии, – сказал Кукушкин со смехом.
– Да только это и остается.
Через неделю после этого разговора Орлов объявил, что его опять командируют к сенатору, и в тот же день вечером уехал со своими чемоданами к Пекарскому.
XI
На пороге стоял старик лет шестидесяти, в длинной до земли шубе и в бобровой шапке.
– Дома Георгий Иваныч? – спросил он.
Сначала я подумал, что это один из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими получками, но когда он вошел в переднюю и распахнул шубу, я увидал густые брови и характерно сжатые губы, которые я так хорошо изучил по фотографиям, и два ряда звезд на форменном фраке. Я узнал его: это был отец Орлова, известный государственный человек.
Я ответил ему, что Георгия Иваныча нет дома. Старик крепко сжал губы и в раздумье поглядел в сторону, показывая мне свой сухой, беззубый профиль.
– Я оставлю записку, – сказал он. – Проводи меня.
Он оставил в передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошел в кабинет. Тут он сел в кресло перед письменным столом и, прежде чем взяться за перо, минуты три думал о чем-то, заслонив глаза рукою, как от солнца, – точь-в-точь как это делал его сын, когда бывал не в духе. Лицо у него было грустное, задумчивое, с выражением той покорности, какую мне приходилось видеть на лицах только у людей старых и религиозных. Я стоял позади, глядел на его лысину и на ямку в затылке, и для меня было ясно, как день, что этот слабый, больной старик теперь в моих руках. Ведь во всей квартире, кроме меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мне только употребить немножко физической силы, потом сорвать часы, чтобы замаскировать цели, и уйти черным ходом, и я получил бы неизмеримо больше, чем мог рассчитывать, когда поступал в лакеи. Я думал: едва ли когда представится мне более счастливый случай. Но вместо того чтобы действовать, я совершенно равнодушно посматривал то на лысину, то на мех и покойно размышлял об отношениях этого человека к своему единственному сыну и о том, что людям, избалованным богатством и властью, вероятно, не хочется умирать...
– Ты давно служишь у моего сына? – спросил он, выводя на бумаге крупные буквы.
– Третий месяц, ваше высокопревосходительство.
Он кончил писать и встал. У меня еще оставалось время. Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое грустное лицо и холодный блеск звезд вызывали во мне только мелкие, дешевые и ненужные мысли о бренности всего земного, о скорой смерти...
– Прощай, братец! – сказал старик, надел шапку и вышел.
Нельзя уже было сомневаться: во мне произошла перемена, я стал другим. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный, сырой угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?
Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море – всюду, куда хватало мое воображение. Когда вернулась Зинаида Федоровна, я бросился отворять ей и с особенною нежностью снял с нее шубу. В последний раз!
Кроме старика, в этот день приходило к нам еще двое. Вечером, когда совсем уже стемнело, неожиданно пришел Грузин, чтобы взять для Орлова какие-то бумаги. Он открыл стол, достал нужные бумаги и, свернув их в трубку, приказал мне положить в передней около его шапки, а сам пошел к Зинаиде Федоровне. Она лежала в гостиной на софе, подложив руки под голову. Прошло уже пять или шесть дней, как Орлов уехал на ревизию, и никому не было известно, когда он вернется, но она уже не посылала телеграмм и не ожидала их. Поли, которая все еще жила у нас, она как будто не замечала. «Пусть!» – читал я на ее бесстрастном, очень бледном лице. Ей уже, как Орлову, из упрямства хотелось быть несчастной; она, назло себе и всему на свете, по целым дням лежала неподвижно на софе, желая себе только одного дурного и ожидая только дурное. Вероятно, она воображала себе возвращение Орлова и неизбежные ссоры с ним, потом его охлаждение, измены, потом, как они разойдутся, и эти мучительные мысли доставляли ей, быть может, удовольствие. Но что бы она сказала, если бы вдруг узнала настоящую правду?
– Я вас люблю, кума, – говорил Грузин, здороваясь и целуя ей руку. – Вы такая добрая! А Жоржинька-то уехал, – солгал он. – Уехал, злодей!
Он со вздохом сел и нежно погладил ее по руке.
– Позвольте, голубка, посидеть у вас часок, – сказал он. – Домой мне идти не хочется, а к Биршовым еще рано. Сегодня у Биршовых день рождения их Кати. Славная девочка!
Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он медленно, с видимою неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил робко:
– А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь... закусить? Я еще не обедал.
У нас ничего не было. Я сходил в ресторан и принес ему обыкновенный рублевый обед.
– За ваше здоровье, голубчик! – сказал он Зинаиде Федоровне и выпил рюмку водки. – Моя маленькая, ваша крестница, кланяется вам. Бедняжка, у нее золотушка! Ах, дети, дети! – вздохнул он. – Что ни говорите, кума, а приятно быть отцом. Жоржиньке непонятно это чувство.
Он еще выпил. Тощий, бледный, с салфеткой на груди, точно в передничке, он с жадностью ел и, поднимая брови, виновато поглядывал то на Зинаиду Федоровну, то на меня, как мальчик. Казалось, что если бы я не дал ему рябчика или желе, то он заплакал бы. Утолив голод, он повеселел и стал со смехом рассказывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно. После обеда оба сидели в гостиной при свете одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотела спросить его о чем-то, но не решалась. Так прошло с полчаса. Грузин поглядел на часы.
– А пожалуй, что мне и пора.
– Нет, посидите... Нам поговорить надо.
Опять помолчали. Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» – но, по обыкновению, тотчас же встал и встряхнул головой.
– Сыграйте, кум, что-нибудь, – попросила Зинаида Федоровна.
– Что же? – спросил он, пожав плечами. – Я все уже перезабыл. Давно бросил.
Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского, так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда – не умное и не глупое, и мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной.
– А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку, – сказал он. – Я слышал, как ее играли на виолончели.
Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл «Лебединую песню» Сен-Санса. Сыграл и повторил.
– Мило ведь? – сказал он.
Взволнованная Зинаида Федоровна остановилась около него и спросила:
– Кум, скажите мне искренно, по-дружески: что вы обо мне думаете?
– Что же сказать? – проговорил он, поднимая брови. – Я люблю вас и думаю о вас одно только хорошее. Если же вы хотите, чтоб я говорил вообще по интересующему вас вопросу, – продолжал он, вытирая себе рукав около локтя и хмурясь, – то, милая, знаете ли... Свободно следовать влечениям своего сердца – это не всегда дает хорошим людям счастье. Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь жестока, груба и беспощадна в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе. Я так думаю.
– Куда мне! – печально улыбнулась Зинаида Федоровна. – Я уже утомилась, кум. Я так утомилась, что не пошевельну пальцем для своего спасения.
– Ступайте, кума, в монастырь.
Это он сказал шутя, но после его слов у Зинаиды Федоровны, а потом и у него самого на глазах заблестели слезы.
– Ну-с, – сказал он, – сидели-сидели да поехали. Прощайте, кумушка милая. Дай бог вам здоровья.
Он поцеловал ей обе руки и, нежно погладив их, сказал, что непременно побывает еще на днях. Надевая в передней свое пальто, похожее на детский капотик, он долго шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел.
– Прощай, голубчик! – сказал он грустно и вышел.
Никогда не забуду того настроения, какое оставил после себя этот человек. Зинаида Федоровна все еще продолжала в волнении ходить по гостиной. Не лежала, а ходила – уж одно это хорошо. Я хотел воспользоваться этим настроением, чтоб откровенно поговорить с ней и тотчас уйти, но едва я успел проводить Грузина, как послышался звонок. Это пришел Кукушкин.
– Дома Георгий Иваныч? – спросил он. – Вернулся? Ты говоришь: нет? Экая жалость! В таком случае пойду поцелую хозяйке ручку и – вон. Зинаида Федоровна, можно? – крикнул он. – Я хочу вам ручку поцеловать. Извините, что так поздно.
Он просидел в гостиной недолго, не больше десяти минут, но мне казалось, что он сидит уже давно и никогда не уйдет. Я кусал себе губы от негодования и досады и уже ненавидел Зинаиду Федоровну. «Почему она не гонит его от себя?» – возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним.
Когда я подавал ему шубу, он в знак особого ко мне расположения спросил меня, как это я могу обходиться без жены.
– Но, я думаю, ты не зеваешь, – сказал он, смеясь. – У тебя с Полей, должно быть, тут шуры-амуры... Шалун!
Несмотря на свой житейский опыт, я тогда мало знал людей, и очень возможно, что я часто преувеличивал ничтожное и вовсе не замечал важного. Мне показалось, что Кукушкин хихикает и льстит мне недаром: уж не надеется ли он, что я, как лакей, буду болтать всюду по чужим лакейским и кухням о том, что он бывает у нас по вечерам, когда нет Орлова, и просиживает с Зинаидой Федоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдут до ушей его знакомых, он будет конфузливо опускать глаза и грозить мизинцем. И разве сам он, – думал я, глядя на его маленькое медовое лицо, – не будет сегодня же за картами делать вид и, пожалуй, проговариваться, что он уже отбил у Орлова Зинаиду Федоровну?
Та ненависть, которой так недоставало мне в полдень, когда приходил старик, теперь овладела мной. Кукушкин вышел, наконец, и я, прислушиваясь к шарканью его кожаных калош, чувствовал сильное желание послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но сдержал себя. А когда шаги затихли на лестнице, я вернулся в переднюю и, сам не зная, что делаю, схватил сверток бумаг, забытый Грузиным, и опрометью побежал вниз. Без пальто и без шапки я выбежал на улицу. Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер.
– Ваше превосходительство! – крикнул я, догоняя Кукушкина. – Ваше превосходительство!
Он остановился около фонаря и оглянулся с недоумением.
– Ваше превосходительство! – проговорил я, задыхаясь. – Ваше превосходительство!
И, не придумав, что сказать, я раза два ударил его бумажным свертком по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь, – до такой степени я ошеломил его, – он прислонился спиной к фонарю и заслонил руками лицо. В это время мимо проходил какой-то военный доктор и видел, как я бил человека, но только с недоумением посмотрел на нас и пошел дальше.
Мне стало стыдно, и я побежал обратно в дом.
XII
С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. Бежать! Но, прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову.
«Оставляю вам свой фальшивый паспорт, – начал я, – прошу оставить его себе на память, фальшивый человек, господин петербургский чиновник!
Вкрасться в дом под чужим именем, наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь, все видеть и слышать, чтобы потом непрошено изобличить во лжи, – все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства. Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать, – я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию».
Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не все ли равно?
Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.
Вероятно, оттого, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар. Горело лицо, ломило ноги... Тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждою мыслью в мозгу движется ее тень.
«Я болен, слаб, нравственно угнетен, – продолжал я, – я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унизить вас, но теперь мне не кажется, что я имею на это право. Вы и я – оба упали, и оба уже никогда не встанем, и мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке: как ни стучи – не разбудишь! Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят, я продолжаю писать, почему-то волнуюсь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу задать вам, стоит передо мной ясно, как огненный.
Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить нетрудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы, но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам и что я обманул себя. К тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы; личного счастья я не знал и не знаю, приюта у меня нет, воспоминания мои тяжки, и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали, вы? Какие роковые, дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом, отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других оттого, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же с какою нежною, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, от боли и беспокойства, как рано ваша душа спряталась в халат, какого труса разыграли вы перед действительною жизнью и природой, с которою борется всякий здоровый и нормальный человек. Как вам мягко, уютно, тепло, удобно – и как скучно! Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме, но вы стараетесь спрятаться и от этого врага: вы по восьми часов в сутки играете в карты.
А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили смолоду поставить ее в рамки; вы вооружились ироническим отношением к жизни, или как хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей, и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею не прав, а вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром, недаром вы так боитесь слез!
Кстати, ваши отношения к женщине. Бесстыдство мы унаследовали с плотью и кровью и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны все идеи, вы не могли не увидеть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее, и, чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваши отношения к ней. Разве холодные, скабрезные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о десяти су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч., – разве все это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низко к грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы – слабый, несчастный, несимпатичный человек».
В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячею головой опять пошел к столу.
«Но вот вопрос, – продолжал я. – Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к тридцати – тридцати пяти годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?
Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что, если бы чудом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?.. Сладкие мечты жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день и жизнь дается не дважды, – хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их...»
Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию и пошел в кабинет. Было темно. Я нащупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я натыкался на мебель и производил шум.
– Кто там? – послышался тревожный голос из гостиной.
И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи.
XIII
В потемках я по крайней мере с полминуты царапал дверь, нащупывая ее, потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец я остановился и проговорил через силу:
– Он не вернется!
Она быстро встала на ноги и смотрела на меня, не понимая.
– Он не вернется! – повторил я, и у меня страшно застучало сердце. – Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского.
Она поняла и поверила мне – это я видел по ее внезапной бледности и по тому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое, она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо... Проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жара лицом, быть может пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово:
– Вас не спрашивают. Подите отсюда прочь.
– О, верьте мне! – сказал я с увлечением, протягивая к ней руки. – Я не лакей, я такой же свободный, как и вы!
Я назвал себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал или ошибся, или сказал глупость, теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор; но я продолжал с увлечением:
– Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского, и я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись... Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашею любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты! Бегите отсюда! Бегите!
– Ну, что ж? – проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам. – Ну, что ж? Пусть.
Глаза ее были полны слез, губы дрожали, и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презренною, смешною; она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка
– Ну, что ж? – повторила она и опять провела рукой по волосам. – Пусть. Он воображает, что я умру от унижения, а мне... смешно. Напрасно он прячется. – Она отошла от рояля и сказала, пожав плечами: – Напрасно.. Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела.. и только ждала его приезда, чтоб окончательно объясниться.
Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно, но я видел, как вздрагивали ее голова и плечи и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки... В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче слышались оскорбление, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом; я уже забыл про свою болезнь и про все на свете, ходил по гостиной и бормотал растерянно:
– Что же это за жизнь?.. О, нельзя так жить! Нельзя! Это – безумие, преступление, а не жизнь!
– Какое унижение! – говорила она сквозь плач. —Жить вместе.. улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна.. О, какое унижение!
Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила:
– Они смеялись?
– Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы начитались. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смешной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде. Да что о них говорить? – сказал я с нетерпением. – Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты.
Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел.
– Что же мы ждем? – спросил я уныло. – Уже третий час.
– Ничего я не жду, – сказала она. – Я пропала.
– Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обдумаем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь... Куда вы намерены ехать отсюда?
Вдруг в передней раздался звонок. У меня екнуло сердце. Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся? Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передней со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная, как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу.
– Кто это пришел? – спросила она тихо.
– Поля, – отвечал я.
Она провела рукой по волосам и в изнеможении закрыла глаза.
– Я сейчас уеду отсюда, – сказала она. – Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который час?
– Без четверти три.
XIV
Когда мы немного погодя вышли из дому, на улице было темно и безлюдно. Шел мокрый снег, и влажный ветер хлестал по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель, и уже несколько дней извозчики ездили на колесах. Под впечатлением черной лестницы, холода, ночных потемок и дворника в тулупе, который опросил нас, прежде чем выпустил за ворота, Зинаида Федоровна совсем ослабела и пала духом. Когда мы сели в пролетку и накрылись верхом, она, дрожа всем телом, торопливо заговорила о том, как она мне благодарна.
– Я не сомневаюсь в вашем доброжелательстве, но мне стыдно, что вы беспокоитесь... – бормотала она. – О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня был Грузин, я чувствовала, что он лжет и что-то скрывает. Ну, что ж? Пусть. Но все-таки мне совестно, что вы так беспокоитесь.
У нее оставались еще сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, я приказал извозчику ехать по Сергиевской; остановивши его у подъезда Пекарского, я вылез из пролетки и позвонил. Когда вышел швейцар, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Федоровна, спросил, дома ли Георгий Иваныч.
– Дома, – ответил он. – С полчаса как приехал. Должно, уж спит. А тебе что?
Зинаида Федоровна не выдержала и высунулась из пролетки.
– А давно Георгий Иванович живет здесь? – спросила она.
– Уже третью неделю.
– И никуда не уезжал?
– Никуда, – ответил швейцар и посмотрел на меня с удивлением.
– Передай ему завтра пораньше, – сказал я, – что к нему из Варшавы сестра приехала. Прощай.
Затем мы поехали дальше. В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей. Мне стало казаться, что мы давно уже едем, давно страдаем и что я давно уже слышу, как дрожит дыхание у Зинаиды Федоровны. Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться от этого полубреда, выглянул из-под верха и увидел рассвет, все образы прошлого, все туманные мысли вдруг слились у меня в одну ясную, крепкую мысль: я и Зинаида Федоровна погибли уже безвозвратно. Это была уверенность, как будто синее холодное небо содержало в себе пророчество, но через мгновение я думал уже о другом и верил в другое.
– Что же я теперь? – говорила Зинаида Федоровна голосом, сиплым от холода и сырости. – Куда мне идти, что делать? Грузин сказал: ступайте в монастырь. О, я пошла бы! Переменила бы одежду, свое лицо, имя, мысли... все, все и спряталась бы навеки. Но меня не пустят в монастырь. Я беременна.
– Мы завтра поедем с вами за границу, – сказал я.
– Нельзя это. Муж не даст мне паспорта.
– Я провезу вас без паспорта.
Извозчик остановился около двухэтажного деревянного дома, выкрашенного в темный цвет. Я позвонил. Принимая от меня небольшую легкую корзинку, – единственный багаж, который мы взяли с собой, – Зинаида Федоровна как-то кисло улыбнулась и сказала:
– Это мои bijoux [3]...
Но она так ослабела, что была не в силах держать эти bijoux. Нам долго не отворяли. После третьего или четвертого звонка в окнах замелькал свет и послышались шаги, кашель, шепот; наконец щелкнул замок, и в дверях показалась полная баба с красным, испуганным лицом. Позади ее, на некотором расстоянии, стояла маленькая худенькая старушка со стрижеными седыми волосами, в белой кофточке и со свечой в руках. Зинаида Федоровна вбежала в сени и бросилась к этой старушке на шею.
– Нина, я обманута! – громко зарыдала она. – Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!
Я отдал бабе корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыдания и крик: «Нина!» Я сел в пролетку и приказал извозчику ехать не спеша к Невскому. Нужно было подумать и о своем ночлеге.
На другой день, перед вечером, я был у Зинаиды Федоровны. Она сильно изменилась. На ее бледном, сильно похудевшем лице не было уже и следа слез, и выражение было другое. Не знаю, оттого ли, что я видел ее теперь при другой обстановке, далеко не роскошной, и что отношения наши были уже иные, или, быть может, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и нарядною, как всегда; фигура у нее стала как будто мельче, в движениях, в походке, в ее лице я заметил излишнюю нервность, порывистость, как будто она спешила, и не было прежней мягкости даже в ее улыбке. Я был одет теперь в дорогую пару, которую купил себе днем. Она окинула взглядом прежде всего эту пару и шляпу в моей руке, потом остановила нетерпеливый, испытующий взгляд на моем лице, как бы изучая его.
– Ваше превращение мне все еще кажется каким-то чудом, – сказала она. – Извините, я с таким любопытством осматриваю вас. Ведь вы необыкновенный человек.
Я рассказал ей еще раз, кто я и зачем жил у Орлова, и рассказывал об этом дольше и подробнее, чем вчера. Она слушала с большим вниманием и, не дав мне кончить, проговорила:
– Там у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вот ответ.
На листке, который она подала мне, почерком Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорее забыть уважающего вас Г. О.
P. S. Посылаю ваши вещи».
Сундуки и корзины, присланные Орловым, стояли тут же в гостиной, и среди них находился также и мой жалкий чемодан.
– Значит... – сказала Зинаида Федоровна и не договорила.
Мы помолчали. Она взяла записку и минуты две держала ее перед глазами, и в это время лицо ее приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выражение, какое у нее было вчера в начале нашего объяснения; на глазах у нее выступили слезы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые слезы.
– Слушайте, – сказала она, порывисто поднимаясь и отходя к окну, чтобы я не видел ее лица. – Я решила так: завтра же уеду с вами за границу.
– И прекрасно. Я готов ехать хоть сегодня.
– Вербуйте меня. Вы читали Бальзака? – спросила она вдруг, обернувшись. – Читали? Его роман «Père Goriot» [4] кончается тем, что герой глядит с вершины холма на Париж и грозит этому городу: «Теперь мы разделаемся!» – и после этого начинает новую жизнь. Так и я, когда из вагона взгляну в последний раз на Петербург, то скажу ему: «Теперь мы разделаемся!»
И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шутке и почему-то вздрогнула всем телом.
XV
В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. Пришлось с первого же дня лечь в постель и пролежать недели две. Каждое утро, пока я был болен, приходила ко мне из своего номера Зинаида Федоровна, чтобы вместе пить кофе, и потом читала мне вслух французские и русские книги, которых мы много накупили в Вене. Эти книги были мне давно уже знакомы или же неинтересны, но около меня звучал милый, добрый голос, так что, в сущности, содержание всех их для меня сводилось к одному: я не одинок. Она уходила гулять, возвращалась в своем светло-сером платье, в легкой соломенной шляпе, веселая, согретая весенним солнцем, и, севши у постели, нагнувшись низко к моему лицу, рассказывала что-нибудь про Венецию или читала эти книги – и мне было хорошо.
Ночью мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью, – лучшего выражения не придумаешь. Яркое, горячее солнце, бьющее в открытые окна и в дверь на балконе, крики внизу, плесканье весел, звон колоколов, раскатистый гром пушки в полдень и чувство полной, полной свободы делали со мной чудеса; я чувствовал на своих боках сильные, широкие крылья, которые уносили меня бог весть куда. А какая прелесть, сколько порой радости от мысли, что с моею жизнью теперь идет рядом другая жизнь, что я слуга, сторож, друг, необходимый спутник существа молодого, красивого и богатого, но слабого, оскорбленного, одинокого! Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника. Раз я слышал, как она за дверью шепталась с моим доктором, и потом вошла ко мне с заплаканными глазами, – это плохой знак, – но я был растроган, и у меня стало на душе необыкновенно легко.
Но вот мне позволили выходить на балкон. Солнце и легкий ветерок с моря нежат и ласкают мое больное тело. Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственною грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу! Вот если взглянуть прямо через канал, то видно взморье и на горизонте на просторе солнце рябит по воде так ярко, что больно смотреть. Тянет душу туда, к родному, хорошему морю, которому я отдал свою молодость. Жить хочется! Жить и – больше ничего!
Через две недели я стал ходить, куда мне угодно. Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона, – наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва. А во Дворце дожей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фальеро. Хорошо быть художником, поэтом, драматургом, думал я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в мистицизм! Эх, к этому безмятежному спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу, хотя бы кусочек какой-нибудь веры.
Вечером ели устриц, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одном месте, под ней чуть слышно хлюпает вода. Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных огней. Недалеко от нас в гондоле, увешанной цветными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна, бледная, с серьезным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, крепко стиснув губы и руки. Она думает о чем-то и не пошевельнет даже бровью и не слышит меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающий взгляд и до невероятного унылые, жуткие и, как снег, холодные воспоминания, а кругом гондолы, огни, музыка, песня с энергическим страстным вскриком: «Jam-mo!.. Jam-mo!..» – какие житейские контрасты! Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием: «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она – злосчастная, брошенная, а я – верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник, не способный уже ни на что, как только кашлять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой... но кому и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашивается?
После вечерней прогулки мы каждый раз пили чай в ее номере и разговаривали. Мы не боялись трогать старых, еще не заживших ран, – напротив, я почему-то даже испытывал удовольствие, когда рассказывал ей о своей жизни у Орлова или откровенно касался отношений, которые мне были известны и не могли быть от меня скрыты.
– Минутами я вас ненавидел, – говорил я. – Когда он капризничал, снисходил и лгал, то меня поражало, как это вы ничего не видите, не понимаете, когда все так ясно. Целуете ему руки, стоите на коленях, льстите...
– Когда я... целовала руки и стояла на коленях, я любила... – говорила она, краснея.
– Неужели было так трудно разгадать его? Хорош сфинкс! Сфинкс – камер-юнкер! Я ни в чем вас не упрекаю, храни бог, – продолжал я, чувствуя, что я грубоват, что у меня нет светскости и той деликатности, которая так нужна, когда имеешь дело с чужою душой; раньше, до знакомства с ней, я не замечал в себе этого недостатка. – Но как вы могли не угадать? – повторял я, но уже тише и неувереннее.
– Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы, – говорила она в сильном волнении. – Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить на обыкновенный аршин, ваши нравственные требования отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю вас, и если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы; говорю я прежний вздор просто оттого, что еще не успела износить своих старых платьев и предрассудков. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Теперь даже смешно все это, – говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал. – Все эти любви только туманят совесть и сбивают с толку. Смысл жизни только в одном – в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову, и чтобы она – крак! Вот в чем смысл. В этом одном, или же вовсе нет смысла.
Я рассказывал ей длинные истории из своего прошлого и описывал свои в самом деле изумительные похождения. Но о той перемене, какая произошла во мне, я не обмолвился ни одним словом. Она с большим вниманием слушала меня всякий раз и в интересных местах потирала руки, как будто с досадой, что ей не удалось еще пережить такие же приключения, страхи и радости, но вдруг задумывалась, уходила в себя, и я уже видел по ее лицу, что она не слушает меня.
Я закрывал окна, выходящие на канал, и спрашивал: не затопить ли камин?
– Нет, бог с ним. Мне не холодно, – говорила она, вяло улыбаясь, – я только ослабела вся. Знаете, мне кажется, что за последнее время я страшно поумнела. У меня теперь необыкновенные, оригинальные мысли. Когда я, например, думаю о прошлом, о своей тогдашней жизни... ну, о людях вообще, то все это сливается у меня в одно – в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и к тому же еще морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чахотку, а эту вот свою вторую жену, мою мачеху, любил страстно, без памяти... Натерпелась я! Ну, да что говорить! Так вот все, говорю я, сливается в один образ... И мне досадно: зачем мачеха умерла? Хотелось бы теперь встретиться с ней!..
– Зачем?
– Так, не знаю... – отвечала она со смехом, красиво встряхивая головой. – Спокойной ночи. Выздоравливайте. Как только поправитесь, займемся нашими делами... Пора.
Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:
– Как думаете, Поля все еще живет у него?
– Вероятно.
И я уходил к себе. Так мы прожили месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. В тот же день мы уехали во Флоренцию.
XVI
Дело происходило уже осенью в Ницце. Однажды утром, когда я зашел к ней в номер, она сидела в кресле, положив ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрыв лицо руками, и плакала горько, навзрыд, и ее длинные, непричесанные волосы падали ей на колени. Впечатление чудного, удивительного моря, которое я только что видел, про которое хотел рассказать, вдруг оставило меня, и сердце мое сжалось от боли.
– О чем вы? – спросил я; она отняла одну руку от лица и махнула мне, чтоб я вышел. – Ну, о чем вы? – повторил я и в первый раз за все время нашего знакомства поцеловал у нее руку.
– Нет, нет, ничего! – проговорила она быстро. – Ах, ничего, ничего... Уйдите... Видите, я не одета.
Я вышел в страшном смущении. Покой и беспечальное настроение, в каком я так долго находился, были отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам, умолять, чтобы она не плакала в одиночку, а делилась бы со мной своим горем, и ровный шум моря заворчал в моих ушах уже как мрачное пророчество, и я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери. О чем, о чем она плачет? – спрашивал я, вспоминая ее лицо и страдальческий взгляд. Я вспомнил, что она беременна. Она старалась скрыть свое положение и от людей и от себя самой. Дома она ходила в просторной блузе или в кофточке с преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась в корсет так сильно, что два раза во время прогулок с ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся о том, что ей не мешало бы посоветоваться с доктором, она вся покраснела и не сказала ни слова.
Когда я потом вошел к ней, она была уже одета и причесана.
– Полно, полно! – сказал я, видя, что она готова опять заплакать. – Давайте-ка лучше пойдем к морю и потолкуем.
– Не могу я говорить. Простите, я теперь в таком настроении, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Владимир Иванович, когда в другой раз захотите войти ко мне, то предварительно постучите в дверь.
Это «предварительно» прозвучало как-то особенно, не по-женски. Я вышел. Возвращалось проклятое, петербургское настроение, и все мои мечты свернулись и сжались, как листья от жара. Я чувствовал, что я опять одинок, что близости между нами нет. Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорвет и унесет ветер. Я прогулялся по скверу, где играла музыка, зашел в казино; тут я оглядывал разодетых, сильно пахнущих женщин, и каждая взглядывала на меня так, как будто хотела сказать: «Ты одинок, и прекрасно...» Потом я вышел на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса, на левом берегу в лиловатой мгле горы, сады, башни, дома, на всем играет солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то...
XVII
Она по-прежнему приходила ко мне по утрам пить кофе, но мы уже не обедали вместе; ей, как она говорила, не хотелось есть, и питалась она только кофе, чаем и разными пустяками вроде апельсинов и карамели.
И разговоров у нас по вечерам уже не было. Не знаю, почему так. После того, как я застал ее в слезах, она стала относиться ко мне как-то слегка, подчас небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшным, удивительным, героическим и что возбуждало в ней зависть и восторг, теперь не трогало ее вовсе, и обыкновенно, выслушав меня, она слегка потягивалась и говорила:
– Да, было дело под Полтавой, сударь мой, было.
Случалось даже, что я не встречался с ней по целым дням. Бывало, постучишься робко и виновато в ее дверь – ответа нет; постучишься еще раз – молчание... Стоишь около двери и слушаешь; но вот мимо проходит горничная и холодно заявляет: «Madame est partie» [5]. Затем ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь... Какие-то англичане, полногрудые дамы, гарсоны во фраках... И когда я долго смотрю на длинный полосатый ковер, который тянется через весь коридор, мне приходит на мысль, что в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль и что уже не в моих силах изменить эту роль; я бегу к себе в номер, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мне хочется жить и что чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо, тем она ближе ко мне и тем сильнее и больней я чувствую наше родство. Пусть я «сударь мой», пусть этот легкий, пренебрежительный тон; пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мне теперь страшно одному.
Потом я опять выхожу в коридор, с тревогой прислушиваюсь... Я не обедаю, не замечаю, как наступает вечер. Наконец часу в одиннадцатом слышатся знакомые шаги и на повороте около лестницы показывается Зинаида Федоровна.
– Прогуливаетесь? – спрашивает она, проходя мимо. – Вы бы лучше шли наружу... Спокойной ночи!
– Но разве мы уже не увидимся сегодня?
– Уже поздно, кажется. Впрочем, как хотите.
– Скажите, где вы были? – спрашиваю я, входя за нею в номер.
– Где? В Монте-Карло. – Она достает из кармана штук десять золотых монет и говорит: – Вот, сударь мой. Выиграла. Это в рулетку.
– Ну, вы не станете играть.
– Отчего же? Я и завтра опять поеду.
Я воображал, как она с нехорошим, болезненным лицом, беременная, сильно затянутая, стоит около игорного стола в толпе кокоток, выживших из ума старух, которые жмутся у золота, как мухи у меда, вспоминал, что она уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня...
– Я не верю вам, – сказал я однажды. – Вы не поедете туда.
– Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.
– Дело не в проигрыше, – сказал я с досадой. – Разве вам не приходило на мысль, когда вы там играли, что блеск золота, все эти женщины, старые и молодые, крупье, вся обстановка, что все это – подлая, гнусная насмешка над трудом рабочего, над кровавым потом?
– Если не играть, то что же тут делать? – спросила она. – И труд рабочего, и кровавый пот – это красноречие вы отложите до другого раза, а теперь, раз вы начали, то позвольте мне продолжать; позвольте мне поставить ребром вопрос: что мне тут делать и что я буду делать?
– Что делать? – сказал я, пожав плечами. – На этот вопрос нельзя ответить сразу.
– Я прошу ответа по совести, Владимир Иваныч, – сказала она, и лицо ее стало сердитым. – Раз я решилась задать вам этот вопрос, то не для того, чтобы слышать общие фразы. Я вас спрашиваю, – продолжала она, стуча ладонью по столу, как бы отбивая такт, – что я должна здесь делать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?
Я молчал и смотрел в окно на море. Сердце у меня страшно забилось.
– Владимир Иваныч, – сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. – Владимир Иваныч, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем... зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали и зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом – убеждения не всегда в нашей власти, но... но, Владимир Иваныч, бога ради, зачем вы неискренни? – продолжала она тихо, подходя ко мне. – Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды, а молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?
– Трудно сознаваться в своем банкротстве, – проговорил я, оборачиваясь, но не глядя на нее. – Да, я не верю, утомился, пал духом... Тяжело быть искренним, страшно тяжело, и я молчал. Не дай бог никому пережить то, что я пережил.
Мне показалось, что я сейчас заплачу, и я замолчал.
– Владимир Иваныч, – сказала она и взяла меня за обе руки. – Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти. Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек. Попасть в ложное положение... играть какую-то нелепую роль... мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.
Принесли чай.
– Ну, что же? – спросила Зинаида Федоровна, подавая мне стакан. – Что вы мне скажете?
– Не только свету, что в окне, – ответил я. – И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна.
– Так вот укажите мне их, – живо сказала она. – Я об этом только и прошу вас.
– И еще я хочу сказать, – продолжал я. – Служить идее можно не в одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись, изверились в одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем.
– Мир идей! – проговорила она и насмешливо поглядела мне в лицо. – Так уж лучше мы перестанем... Что уж тут...
Она покраснела.
– Мир идей! – повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. – Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу: я должна сделаться вашею любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека – значит не понимать идей. Надо начинать с этого... то есть с любовницы, а остальное само приложится.
– Вы раздражены, Зинаида Федоровна, – сказал я.
– Нет, я искренна! – крикнула она, тяжело дыша. – Я искренна.
– Вы искренни, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.
– Я заблуждаюсь! – засмеялась она. – Кто бы говорил, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Ведь любите?
Я пожал плечами.
– Да, пожимайте плечами! – продолжала она насмешливо. – Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили, потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, духовном родстве... Но, главное, почему вы до сих пор были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие, собственно, идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга, так бы уж я и знала. Отравилась бы тогда, как хотела, и не было бы теперь этой нудной комедии... Э, да что говорить! – она махнула на меня рукой и села.
– Вы говорите таким тоном, как будто подозреваете во мне бесчестные намерения, – обиделся я.
– Ну, да уж ладно. Что уж тут. Я не намерения подозреваю в вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идей и любви, у вас ничего не было. Теперь идеи и любовь, а в перспективе – я любовница. Таков уж порядок вещей и в жизни и в романах... Вот вы бранили его, – сказала она и ударила ладонью по столу, – а ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.
– Он не презирает идей, а боится их, – крикнул я. – Он трус и лжец.
– Ну, да уж ладно! Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману, а вы...
– Бога ради, зачем вы это говорите? – ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя к ней. – Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм, нельзя так отчаиваться, выслушайте меня, – продолжал я, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у меня в голове и, казалось, могла еще спасти нас обоих. – Слушайте меня. Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится, и я теперь крепко понял мозгом, своей изболевшей душой, что назначение человека или ни в чем, или только в одном – в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!
Дальше я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился.
– Мне жить хочется! – проговорил я искренно. – Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вот этого моря, вашей близости! О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Вы только что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица...
Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать мне говорить:
– Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные.
Она налила себе чаю, но не дотронулась до него, пошла в спальню и легла.
– Я полагаю, нам бы лучше прекратить этот разговор, – сказала она мне оттуда. – Для меня все уже кончено, и ничего мне не нужно... Что ж тут разговаривать еще!
– Нет, не все кончено!
– Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоело... Будет.
Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. Когда потом, поздно ночью, я подошел к ее двери и прислушался, мне явственно послышался плач.
На другой день утром лакей, подавая мне платье, сообщил с улыбкой, что госпожа из тринадцатого номера родит. Я кое-как оделся и, замирая от ужаса, поспешил к Зинаиде Федоровне. В ее номере находились доктор, акушерка и пожилая русская дама из Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступил порог, как из комнаты, где лежала она, послышался тихий, жалобный стон, и точно это ветер донес мне его из России, я вспомнил Орлова, его иронию, Полю, Неву, снег хлопьями, потом пролетку без фартука, пророчество, какое я прочел на холодном утреннем небе, и отчаянный крик: «Нина! Нина!»
– Вы сходите к ней, – сказала дама.
Я зашел к Зинаиде Федоровне с таким чувством, как будто я был отцом ребенка. Она лежала с закрытыми глазами, худая, бледная, в белом чепчике с кружевами. Помню, два выражения были на ее лице: одно равнодушное, холодное, вялое, другое детское и беспомощное, какое придавал ей белый чепчик. Она не слышала, как я вошел, или, быть может, слышала, но не обратила на меня внимания. Я стоял, смотрел на нее и ждал.
Но вот лицо ее покривилось от боли, она открыла глаза и стала глядеть в потолок, как бы соображая, что с ней... На ее лице выразилось отвращение.
– Гадко, – прошептала она.
– Зинаида Федоровна, – позвал я слабо.
Она равнодушно, вяло поглядела на меня и закрыла глаза. Я постоял немного и вышел.
Ночью Дарья Михайловна сообщила мне, что родилась девочка, но что роженица в опасном положении; потом по коридору бегали, был шум. Опять приходила ко мне Дарья Михайловна и с отчаянным лицом, ломая руки, говорила:
– О, это ужасно! Доктор подозревает, что она приняла яд! О, как нехорошо ведут себя здесь русские!
А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась.
XVIII
Прошло два года. Обстоятельства изменились, я опять приехал в Петербург и мог жить тут, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительным и весь ушел в отеческое или, вернее, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мне Соня, дочь Зинаиды Федоровны. Я кормил ее из своих рук, купал, укладывал спать, не сводил с нее глаз по целым ночам и вскрикивал, когда мне казалось, что нянька ее сейчас уронит. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни с течением времени становилась все сильнее и раздражительнее, но широкие мечты остановились около Сони, как будто нашли в ней, наконец, именно то, что мне нужно было. Я любил эту девочку безумно. В ней я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею.
Судьба Сони пугала меня. Отцом ее был Орлов, в метрическом свидетельстве она называлась Красновскою, а единственный человек, который знал об ее существовании и для которого оно было интересно, то есть я, уже дотягивал свою песню. Нужно было подумать о ней серьезно.
На другой же день по приезде в Петербург я отправился к Орлову. Отворил мне толстый старик с рыжими бакенами и без усов, по-видимому немец. Поля, убиравшая в гостиной, не узнала меня, но зато Орлов узнал тотчас же.
– А, господин крамольник! – сказал он, оглядывая меня с любопытством и смеясь. – Какими судьбами?
Он нисколько не изменился: все то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой кости. Очевидно, читал до моего прихода. Он усадил меня, предложил сигару и с деликатностью, свойственною только отлично воспитанным людям, скрывая неприятное чувство, какое возбуждали в нем мое лицо и моя тощая фигура, заметил вскользь, что я нисколько не изменился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я оброс бородою. Поговорили о погоде, о Париже. Чтобы поскорее отделаться от тяжелого неизбежного вопроса, который томил и его и меня, он спросил:
– Зинаида Федоровна умерла?
– Да, умерла, – ответил я.
– От родов?
– Да, от родов. Доктор подозревал другую причину смерти, но... и для вас и для меня покойнее думать, что она умерла от родов.
Он вздохнул из приличия и помолчал. Пролетел тихий ангел.
– Так-с. А у меня все по-старому, никаких особенных перемен, – живо заговорил он, заметив, что я оглядываю кабинет. – Отец, как вы знаете, в отставке и уже на покое, я все там же. Пекарского помните? Он все такой же. Грузин в прошлом году умер от дифтерита. Ну-с, Кукушкин жив и частенько вспоминает о вас. Кстати, – продолжал Орлов, застенчиво опуская глаза, – когда Кукушкин узнал, кто вы, то стал везде рассказывать, что вы будто учинили на него нападение, хотели его убить, и он едва спасся.
Я промолчал.
– Старые слуги не забывают своих господ... Это очень мило с вашей стороны, – пошутил Орлов. – Однако не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.
– Нет, благодарю. Я к вам по очень важному делу, Георгий Иваныч.
– Я не охотник до важных дел, но вам рад служить. Что прикажете?
– Видите ли, – начал я, волнуясь, – со мной в настоящее время находится здесь дочь покойной Зинаиды Федоровны... До сих пор я занимался ее воспитанием, но, как видите, не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена.
Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово, мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько «важное дело», как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти.
– Да, об этом надо подумать, – сказал он, заслоняя глаза, как от солнца. – Благодарю вас. Вы говорите, девочка?
– Да, девочка. Чудная девочка!
– Так. Это, конечно, не мопс, а человек... понятно, надо серьезно подумать. Я готов принять участие и... и очень обязан вам.
Он встал, прошелся, кусая ногти, и остановился перед картиной.
– Об этом надо подумать, – сказал он глухо, стоя ко мне спиной. – Я сегодня побываю у Пекарского и попрошу его съездить к Красновскому. Думаю, что Красновский не будет долго ломаться и согласится взять эту девочку.
– Но, простите, я не знаю, при чем тут Красновский, – сказал я, тоже вставая и подходя к картине в другом конце кабинета.
– Но ведь она носит его фамилию, надеюсь! – сказал Орлов.
– Да, он, быть может, обязан по закону принять к себе этого ребенка, я не знаю, но я пришел к вам, Георгий Иваныч, не для того, чтобы говорить о законах.
– Да, да, вы правы, – живо согласился он. – Я, кажется, говорю вздор. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудим, ко взаимному удовольствию. Не одно, так другое, не другое, так третье, а так или иначе этот щекотливый вопрос будет решен. Пекарский все устроит. Вы будете добры, оставите мне свой адрес, и я сообщу вам немедленно то решение, к какому мы придем. Вы где живете?
Орлов записал мой адрес, вздохнул и сказал с улыбкой:
– Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом! Но Пекарский все устроит. Это «вумный» мужчина. А вы долго прожили в Париже?
– Месяца два.
Мы помолчали. Орлов, очевидно, боялся, что я опять заговорю о девочке, и, чтобы отвлечь мое внимание в другую сторону, сказал:
– Вы, вероятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроение я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азиат, лошадиный смех – это мило и характерно, – продолжал он, иронически улыбаясь. – И основная мысль, пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. То есть, – замялся он, – спорить не с самою мыслью, а с вашим отношением к вопросу, с вашим, так сказать, темпераментом. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость, – тут вы совершенно правы. Но что вы так близко принимаете это к сердцу, волнуетесь и приходите в отчаяние, – это не резон, тут вы совсем не правы.
– Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как погибает сам и вокруг гибнут другие.
– Кто говорит! Я вовсе не проповедую равнодушия, а хочу только объективного отношения к жизни. Чем объективнее, тем меньше риску впасть в ошибку. Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин. Мы ослабели, опустились, пали, наконец, наше поколение всплошную состоит из неврастеников и нытиков, мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении, но виноваты в этом не вы и не я: мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба целого поколения. Тут, надо думать, причины большие, общие, имеющие с точки зрения биологической свой солидный raison d’être [6]. Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть может, это нужно и полезно для тех поколений, которые будут жить после нас. Ни единый волос не падает с головы без воли отца небесного, – другими словами, в природе и в человеческой среде ничто не творится так себе. Все обосновано и необходимо. А если так, то чего же нам особенно беспокоиться и писать отчаянные письма?
– Так-то так, – сказал я, подумав. – Я верю, следующим поколениям будет легче и видней; к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того... Я верю и в целесообразность и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»?
– Ну, что делать! – вздохнул Орлов, поднимаясь и как бы давая понять, что разговор наш уже кончен.
Я взялся за шапку.
– Только полчаса посидели, а сколько вопросов решили, подумаешь! – говорил Орлов, провожая меня до передней. – Так я позабочусь о том... Сегодня же повидаюсь с Пекарским. Будьте без сумления.
Он остановился в ожидании, пока я оденусь, и, видимо, чувствовал удовольствие от того, что я сейчас уйду.
– Георгий Иваныч, возвратите мне мое письмо, – сказал я.
– Слушаю-с.
Он пошел в кабинет и через минуту вернулся с письмом. Я поблагодарил и вышел.
На другой день я получил от него записку. Он поздравлял меня с благополучным решением вопроса. У Пекарского есть знакомая дама, писал он, которая держит пансион, что-то вроде детского сада, куда принимаются даже очень маленькие дети. На даму можно положиться вполне, но, прежде чем входить с нею в соглашение, не мешает переговорить с Красновским – этого требует формальность. Советовал мне немедленно отправиться к Пекарскому и, кстати, прихватить с собою метрическое свидетельство, если таковое имеется. «Примите уверение в искреннем уважении и преданности вашего покорного слуги...»
Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.
1893


 Конкурс "Русская Голгофа"
Конкурс "Русская Голгофа"



















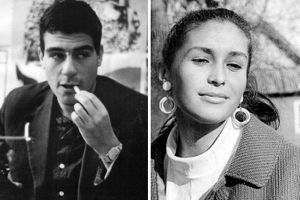

































 Дмитрий Юдкин
Дмитрий Юдкин
 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Николай Боголюбов
Николай Боголюбов
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Станислав Воробьев
Станислав Воробьев
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Олег Кашицин
Олег Кашицин
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Леонид Петухов
Леонид Петухов
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов
 Виталий Даренский
Виталий Даренский