Нашу семью отвезли в Ягуновку. Здесь расстреливали. Люди сами себе выкопали яму. Их расстреляли и закопали в этой яме. В числе этих людей был и мой отец.
Док. 30
Кирсанова Прасковья Савельевна родилась в 1915 г. в д. Покровка Чулымского района нынешней Новосибирской области. Рассказ записал внук Цицкунов Александр в 2002 г.
Семья наша состояла из 17 душ. Сыновья у деда женились, но не делились, вели общее хозяйство. Жили все очень дружно, никогда никто не ссорился и не бранился. У всех была своя работа и обязанность. Все работали и друг другу помогали. Хозяйство было большое, было все: коров всегда не меньше пяти, которые каждый год давали по молодому потомству; овец не считано; куры; гуси; свиньи; два коня — один рабочий, другой выездной; пасека, от которой было меду столько, что если не продавали, то мед прокисал. «Кулаком» мой отец не был, его можно было назвать крупным середняком. Почему не «кулак»? Так были семьи и покрепче нашей. Жили мы так, не тужили, пока однажды не подозвал меня отец и сказал: «Не будешь ты больше с нами жить, отдаю тебя в няньки, в чужую семью, в чужой город». Залилась я горючими слезами, не знала я, чем отцу не угодила. Почему так жестоко он со мной поступает? Было мне тогда 10 лет. Все мои слезы остались не услышанными. Отвез меня отец в город Новосибирск в семью инженера работать нянькой. А сейчас я понимаю, почему он так поступил. Потому, что пожалел меня, не захотел, чтобы видела я весь ужас, который происходил с нашей семьей. Как за пару лет вся семья развалилась, обнищала, растерялась. Кто куда делся во время ужаса коллективизации и раскулачивания. Да потом еще и война задавила остатки семьи. Еще при жизни моей в семье помню, как однажды на конях приехали трое мужиков в военной форме. Стали они отбирать нашего коня. Долго спорили с отцом и братьями. Старший брат — Афанасий, вцепился в коня и не отдавал его. Тогда один из военных так хватил брата бичом, что скрутило его. Упал он на землю и встать не мог, только ползал по земле и плакал. Все плакали, и я плакала, хоть и не понимала, почему коня отбирают и о чем спорит отец с теми на конях. А коня так и увели. Да он через два дня вернулся с оборванной уздечкой. За ним прискакали уже двое, а не трое. Конь их почуял и стал беситься. Тогда к нему пошел дед мой Данила и стал что-то ему говорить. Конь его только и слушался, очень уж был ретивый. Но на этот раз конь и его не стал слушаться, все бесился и ржал. Все опять плакали. Тогда дед размахнулся и сильно ударил коня промеж глаз. Конь тут же и помер. Разозлились военные, долго бранили деда. Да делать нечего. Так и ускакали восвояси. Когда началась коллективизация, оказалось, что у нас слишком много добра на одну семью. Тогда собрал отец всех братьев и сказал: «Чтобы все не потерять, разделим мы всем семьям поровну». Не хотели братья расходиться в разные стороны, так ведь другого выхода не было. Разделилась наша семья на шесть семей: отец с матерью, пятеро братьев с женами и детьми. Хозяйство поделили между всеми поровну. Каждому досталось по чуть-чуть, а меня — в няньки. В семье инженера жилось мне хорошо, хозяин меня любил, так как была я исполнительная и трудолюбивая. Работа моя заключалась в том, что я нянчила двух девочек-двойняшек. Так жила я целых два года, думала, что забыл уже отец про меня. Но вот наступил долгожданный день, приехал за мной отец. А хозяин стал уговаривать отца, чтобы оставил он меня у них еще пожить и говорил: «Оставь нам эту умницу, мы ее в школу учиться отправим». Кстати, за эти два года научилась я читать, писать и считать. Не оставил отец меня, да сама я рада — не рада, что домой поеду, всю семью увижу. Когда мы ехали домой, вижу я, что со всем не в нашу деревню, а гораздо дальше. Спрашиваю отца: «Куда мы едем?», а он отвечает: «Дома все узнаешь». Приехали мы на станцию Раскатиха. Зашли в маленький домик. Там встретила меня мать и дед Данила. В первый же день я поняла, что все не так, как прежде: хозяйство маленькое, а на столе вообще ничего нет, как будто и хозяйства нет. Работать приходилось с утра до ночи, чтобы хотя бы не умереть с голоду. А случилось вот что. После того, как разделилась вся наша семья, у всех всего оказалось не очень много. Думали, оставят нас в покое. Но не оставили. Приходилось отдавать государству почти последнее. Если была корова, ее не отбирали, зато молока мы все равно не пили, а пили «обрат», то есть то, что оставалось после перегонки в масло (сепарированное). Потому как каждый день нужно было отдавать сметану (не помню сколько). Не забирали только то, что нужно было, чтобы с голоду не умереть. В таком положении оказались все наши семь семей, которые раньше жили вместе и горя не знали. Ели, сколько хотели. Да разве только наши семьи. Все семья, которые мы знали, жили также бедно, как мы. И не имело значение, были ли они раньше богаты или бедны. А раньше-то бедны были только пьяницы, да бездельники. А все остальные имели все, что хотели. Только работай справно. А тут все вкалывали с утра до ночи и были нищими. Вот что натворила коллективизация. Нет ни богатых, ни бедных! Все равны, все голодранцы! Хоть и не видела я, как за два года обнищали все, кого раньше видела холенными и радостными, все равно вижу перед глазами весь этот ужас сейчас. В итоге вся наша крепкая, дружная семья исчезла, пропала. Как и не было ее вовсе.
Док. 31
Марковская Вера Григорьевна родилась в 1915 г. в д. Карбелкино Промышленновского района нынешней Кемеровской области. Рассказ записал правнук Марковский Александр в 1999 г. (г. Белово)
Семья родителей состояла из 9 чел. Моя собственная семья только из 4 чел. В колхоз родители вступили сами. Тогда крестьян хорошо агитировали. Говорили, что в колхозе будут машины, а, значит, и хорошие урожаи. Всем, мол, легче станет. Желание объединиться образовалось у многих. Провели собрание и решили создать колхоз. Наобещали нам горы золотые. А получили шиш! Только скотину отобрали. Да сгубили ее. Наша семья была середняцкая. Мы имели хороший дом, коров, лошадей, свиней. Но, конечно, поменьше, чем у кулаков. Бедняки же ничего этого не имели. Они и не хотели его иметь, не умели вести свое собственное хозяйство. Чаще всего ходили работать в наем. До коллективизации каждый крестьянин мог иметь хорошее хозяйство. Ведь земля и покосы выдавались на каждого члена семьи. А потом всю землю забрали в колхоз. Колхозникам же оставили только землю под огороды. Разве ж это земля? С нее не прокормишься. Когда вступали в колхоз, то обещали, что мы будем в нем получать все для жизни. А получать-то стало нечего. В колхозе все было не организованно. Потому и урожая не было, зерна не было, и скотина дохла. При проведении коллективизации раскулачивали кулаков и середняков. Ничего лишнего брать с собой не разрешали. Только одежду, которая была на людях одета. Поэтому люди старались, как можно больше надеть одежды на себя. Можно сказать, в чем люди были, в том их и отправляли. В сани разрешали сажать только детей. Никаких вещей брать нельзя. Нельзя было взять даже еду. Люди оставляли все нажитое: и дом, и хозяйство, и технику. Как-то сразу изменилась жизнь. Раньше в деревне все жили дружно и вредности друг другу не устраивали. Бывало иногда, что один другого шутейно подкалывал. Но отношения между людьми оставались хорошими. А во время коллективизации начались доносы. Какая уж тут дружба! Раскулаченных из нашей деревни отправляли в Томскую область, в глухую тайгу, на голое место. Заставили работать на лесоповале. Выселенные обустраивались сами. Кто как мог. Рыли землянки или строили домишки. Почему-то никуда не сбегали. Да и куда ты побежишь? Некуда было бежать. А вместе и выжить легче. В деревне об их жизни знали. Была переписка, да и родственники иногда к ним ездили. Правда, все это стало потом, когда власти разрешили. Сколько же они, бедные, пережили! Кругом дичь по тайге бегала, а им охотиться нельзя. Да и чем охотиться? Ружей-то держать не разрешали. Им даже рыбу ловить запрещали. Только тайно ставили капканы на зайцев. Никто против коллективизации не протестовал. Что же, к примеру, я буду протестовать? Земли ведь нет. А жить надо. Значит, и я вынуждена идти в колхоз. Если будешь выступать, то тебя отправят куда надо. Народ был запуган. Куда начальство пошлет, туда и ехали, туда и шли. С активистами, которые внедряли идеи коммунизма, крестьяне были тише воды, ниже травы. Боялись их! Угождали им! Снимали шапочку перед ними. Одно сказать, каких людей тогда сгубили! Весь передовой класс был тогда посажен и убит! Жизнь колхозника не приведи Господи! С весны до осени работали от рассвета до заката. Никаких выходных не полагалось. Обещанных машин не было. Работали вручную: сеяли, пололи, жали. Не хватало лошадей, пахали на коровах. Часто сеять было нечем… В своем личном хозяйстве работали только по ночам, после работы в колхозе. Обрабатывали свои небольшие огороды, ухаживали за скотиной. Многое здесь делали дети и старики. Зимой, конечно, на свое хозяйство уходило больше времени. Но налоги были большими. Брали яйцами шерстью, молоком, мясом, картошкой. Денег за работу не давали. Считали по трудодням. Мы получали по ним 150–200 гр. зерна, которое сами и мололи. Разве можно было прожить на эти граммы? До коллективизации на наших столах было все. Никто не голодал. А теперь еда стала бедная. Кроме овощей, грибов и ягод ничего больше и не видели. Жили только с огорода. Про мясо вообще забыли. Мололи боярку, черемуху, пекли из них лепешки. Муки не было. Собирали травы, корешки. Конечно, это был голод. Перед самой войной стол стал немного побогаче. Но все равно, это не то, что до колхозов. Мы даже во время войны не голодали так сильно, как в 30-е годы. С одеждой тоже было плохо. Из льна и шерсти пряли пряжу, вязали, ткали. Покупных вещей мы, считай, и не носили. Один ребенок подрос, передавали другому. И так до тех пор, пока не дойдет до последнего. Конечно, некоторые потихоньку приворовывали в колхозе. Но не друг у друга. Боже избавь, взять чужое, соседское! Это стыдно! Был закон «о колосках». По нему было так: подберешь колхозный колосок, за него ответишь. За 1 кг зерна давали пять лет. У нас одну женщину судили за то, что она насыпала в карман горстку зерна. О! С этим было очень строго.
Док. 32
Ленцева Мария Наумовна родилась в 1915 г. в д. Подъяково нынешней Кемеровской области. Жук Ольга Григорьевна родилась в 1916 г. в Белоруссии. Беседу записала Лопатина Наталия в 1999 г. (спецэкспедиция фонда «Исторические исследования»), (п. Щегловский)
Жук: Я родилась в Белоруссии. В Сибирь мы сбежали от коллективизации. Родители никак не хотели вступать в колхоз. Как-то вечером отца пришли арестовывать, но не нашли. Он сидел в подполье. Накануне добрые люди предупредили его, и он спрятался. А ночью мы уехали из деревни. Подались в Сибирь. Здесь жила мамина сестра. С тех пор здесь и живем.
Ленцева: А я родилась в Подъяково. В единоличниках наша семья жила небогато: было всего 2–3 лошади, корова, овечки, косилка, плуг. Я помню, что мы только-только начали разживаться, как колхозы разграбили нас. Мы голые и босые остались. Ох и жалко было отдавать нажитое. Но отец сказал твердо: «Дети, нам надо заходить в колхоз. Иначе нас до корня разорят». В колхоз мы зашли. Лошадей, овечек, машины, плуги, — все-все отдали. Сколько же мы работали в том колхозе! Я и пахала, и боронила, и мешки таскала, и на лесозаготовки зимой ездила, и на лесосплаве весной была. Куда пошлют, что заставят — все делала. За работу нам палочки писали трудодни. А получали мы на эти трудодни фигу. Первые два года хоть мало, но все-таки давали хлеб, а потом перестали. Все сдавали государству. А вы, колхозники, живите, как знаете. Так и жили. Питались очень плохо: где тошнотики из мерзлой картошки съедим, где саранки выручали. Ягода, грибы. На колхозном поле была общая кухня. Но что там варили! Сварят противного киселя из овсянки, и питайся этим варевом. Животы болели. Ни в какой декрет по рождению детей мы сроду не ходили. Кто его нам даст? Если бы были декреты, какая нормальная баба стала рожать в поле? Ей о дите надо думать, а не о работе. А когда из Подъяково всех мужиков на войну забрали, мы, женщины, всю работу делали: сами сено косили, сами метали, сами пахали и сеяли. Там, где кони на севе пройти не могли, мы мешки на плечи взваливали и давай. Мало кто вернулся с войны. Реву-то сколько было! После войны мне повезло. Как с мужиком своим сошлась, в колхозе больше не работала. Муж работал в Щегловском подсобном хозяйстве и в колхоз меня больше не пустил. Он сказал мне: «Ты вот год работаешь, а тебе ни грамма хлеба не дают, ни деньгами не платят. Зачем работать? Сиди дома и расти детей». Ведь это правда! Нам ничего не платили.
Жук: А ведь, скажи, как ни трудно было работать, мы песни пели. Пели по дороге и на работу, и с работы.
Ленцева: Да, подруга, пели. В войну так трудно было, и то мы песни пели и играли. И вот что интересно! Мы самогонку гнали, а пили не сильно. Всей деревней праздновали Рождество, Масленку, Пасху, Троицу. Если праздновали, то гуляли неделю. Ходили толпой из дома в дом. Но это было до колхозов. Гуляли, пока Советская власть не запретила. Кончились наши праздники. В Бога мы все верили! Молились. С верой в Бога жили и наши родители, и их родители жили. Но Бог чем-то помешал советской власти. Заставили от него отказаться. Мы как чокнутые стали. Работали и работали. Знали одну только работу. Жили, как не знаю кто! Как лето, — все дети, как мураши, на поле работают, траву дергают. Никто их сильно не насиловал, как нас, но работать заставляли. Ребятня вся работала. У нас даже ни паспортов, ни справок, ни метрик не было. Нам эти паспорта не давали, чтобы мы не разбежались. Сюда вот в Щегловку к мужу переехала, так насилу паспорт выправила. Но и без документов люди как-то умудрялись убежать из колхоза.
Жук: Советскую власть трудно обмануть… Мы власть уважали!
Ленцева: А то как же! Попробуй, не уважь! Если останешься дома, не пойдешь на работу, за тобой тут же прибегут и выгонят в поле. Собирайся, кричат, сейчас же! А работали мы день и ночь. Днем косили, жали, а ночью скирдовали или молотили. У нас тогда с этим строго было. Я как-то сильно заболела. Не смогла идти на лесозаготовку. Мы, колхозники, обязаны были не только хлеб растить, но и «кубатуру гнать», дорогу строить. Мы многое, что обязаны были делать. И ничего за это не платили — ни нам, ни даже колхозу. Обязаны — и все! Не вышла я как-то на работу из-за болезни. Фельдшер выписал мне справку об освобождении. Эту справку я отдала своему председателю. А он заматерился и сказал, что эта бумажка ему только в уборной может пригодиться. Наш бригадир Висильчук тут же написал на меня бумагу в органы. Там было написано, что я — такая-сякая, перебегаю из бригады в бригаду, ему, мол, не подчиняюсь. Такая бумага тогда была все одно, что приговор. Вызвали меня куда надо. Ой, как же я боялась идти. Внутри у меня все дрожало! Шла и думала, что же со мной теперь сделают?! Что сейчас будет?! Меня там спросили: «Сколько ты выработала трудодней?» А я, сдуру: «Я их не считала. Зачем они мне, палочки да палочки!» Меня арестовали, посадили в Барзаскую тюрьму. Оказывается, я что-то лишнее сболтнула. Четверо суток и просидела. После тюрьмы да болезни оклемалась немного, и меня отправили на всю зиму на лесозаготовки «кубатуру гнать». Когда была на лесозаготовках, узнала, что председатель, из-за которого я в тюрьму попала (Захаркин его фамилия), выстрелил в одного мужика. Тогда подписывали на заем. Каждый колхозник должен был купить облигацию за 1000 рублей! Это вроде как государство у нас занимает, а потом отдаст. Деньги огромные! Где их взять? На трудодни ведь нам копейки приходились. Мужичок этот и говорит председателю: «Дайте мне коней, я солому отвезу, продам и заем выплачу». А председатель стал орать, выхватил наган, стрельнул. Арестовали того Захаркина. Говорят, в тюрьме его шибко лупасили. Жена его кровавые рубахи из тюрьмы приносила. Потом, когда председателя выпустили, кто-то убил его уже на свободе. Вот так Бог покарал за издевательство над людьми. Вообще-то председатели у нас были разные. Я всех уже не упомню.
Жук: Я-то в колхозе не работала. Коллективизация в Белоруссии раньше, чем в Сибири, началась. Мы сюда приехали, уже зная, что это такое. У отца брат был коммунистом. Он сказал отцу: «Никифор, поедешь в Сибирь, не вздумай единолично устраиваться. Колхозы и до Сибири дойдут». Мы приехали в Сибирь. Здесь, в Сутункином Логу, жила мамина сестра. Она нас и приняла. Мы поселились в тайге, где уже жило семь семей. Стали корчевать. Посадили картошку, просо, дом поставили. Таежная земля не пригодна для посадок, и все замерзало. Решили бросить. Отец подался в Кемерово на шахту «Бутовку», устроился на работу. Нам коллективизация стала уже не страшна. Сама же я перебралась в Щегловский совхоз, работала на свиноферме. Утром приду, свиней накормлю, уберу и — домой. После обеда опять хрюшек иду кормить. Свинарник рядом с домом был. У нас не то, что в колхозе — никого на работу не гоняли, платили деньгами, а не палочками, доставалось — по рублю в день. На лесозаготовки не посылали. Послушаю, как в колхозе жили, так не приведи, Господи! Как же людей мучили-то! Ты думаешь только в вашем колхозе так? Моя тетка в Балахоновском колхозе работала, это 4 км от Подъяково, над ними там также издевались! Ой-ей- ей! Мужа у нее забрали, она с двумя детьми малыми осталась. Свекра за что-то расстреляли. Отца сослали на 10 лет.
Ленцева: Я, вот, тебе и говорю, что ты жизни не знаешь, поскольку в колхозе не работала. Жила, как у Христа за пазухой! Ой, не приведи, Господь, никому такой жизни, как у колхозника! Из-за работы я света белого не видела. Голодные ходили, холодные. И так, без конца! Знаешь, какая норма у нас была на покосе? Тридцать соток на женщину! Мы косили группой из 3–4 женщин. Подсчитала, какой величины для нас было дневное поле? Поработаем, сядем под березку, посидим-посидим, наплачемся. И опять идем косить. Плакали от такой жизни! А налоги! Отцу пришлось корову за налоги сдать. Сдавали молоко, масло, яйца, шерсть. Вырастишь скотину, а сам ею не пользуешься.
Жук: И кто только нам такую жизнь устроил?!
Ленцева: Кто его знает! По-русски сказать... Начальство! И откуда только на нашу голову такие начальники брались?! В войну я конюхом работала. Как-то из Барзаса приехало начальство ночью проверять — работают ли колхозники ночью или спят. Зашли ко мне, увидели, что не сплю, за конями хожу. Поехали на свинарник, а там все спят. Долго потом разбирались. Строжились. И что было строжиться? Плохо ли работаешь, хорошо ли, — все равно все одинаково получали… Дядька мой еще до колхозов дом хороший построил. А мой отец ему и говорит: «Заходи в колхоз, заходи. Разорят тебя с таким домом!» Не послушал дядька. Забрали у него дом, всю скотину. И самого забрали. Без вести сгинул. За что спрашивается? За то, что хотел, чтоб его семья жила в добротном доме и в достатке? Он ведь этот дом своим потом заработал. Когда начались колхозы, мы с подругой на сушилке работали. Знаешь, сколько вот этими руками я таких домов сожгла? Ох, и напилились мы тогда с подругой! Привезут хороший дом, в нем бы жить да жить. Или стайку, какую. Ты в ней хоть сейчас скотину держи! А мы ее на дрова пускаем, зерно сушим. Рука не поднималась такое добро изводить. Мы знали, что все это конфискованные кулацкие дома и догадывались, где теперь их хозяева. И кому все это с нами надо было сделать?!
Жук: И сейчас хорошего мало. Но жить можно.
Ленцева: Главное колхозов нет! Нам деньги по пенсии дают. Мы едим, лежим, гуляем. На работу нас не гоняют.
«Эта беседа была опубликована: “Колхознички-канареечки, поработай год без копеечки” — “С тобой” (областная газета) — 1999, 19 дек.; “Заря” (газета Кемеровоского района) 1999, 18 дек. Публикация вызвала полемику: Степан Анищенко «Правда ваша, но не вся» // Заря. 2000. 15 апр.; Наталия Лопатина «Чтобы пышно жить!» // Заря. 2000. 29 апр.); Матрена Савинцева. “Не надо хаять колхозы” //Заря. 2000, 27 мая» [532] (с. 136).
«После революции 1905–1907 гг. среди большевиков появились группы богоискателей и богостроителей (А.В. Луначарский, А.А. Богданов). Они считали, что коммунизм, как научная идея, непонятен народу. Поэтому коммунизму надо придать форму веры, форму религии. И в этом виде внести в народ... в 20-е годы именно в форме религии и распространялись идеи коммунизма в народе. Человек не может иметь две веры. Потому и отбирали у советского человека христианскую веру, закрывая церкви, репрессируя священников, жестко преследуя за веру… Родители, воспитывающие детей в вере в Бога, могли быть осуждены по ст. 58.10 (контрреволюционная пропаганда)» [532] (с. 137).
Док. 33
Кузьмина Анна Васильевна родилась в 1916 г. д. Свидировка Тяжинского района нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Кулемина Наталья в 1999 г. (с. Сандайское Тяжинского района Кемеровской области)
У бати с матушкой нас было шестеро горемычных. Жили в середняках, пока батя не умер. Самому старшему из нас было 14 лет. Постепенно распродали коней, коров. Стали жить бедно. Сварит мать чугунок картошки, высыплет на стол... Вот и радуйся, благодари Боженьку за обед. Репу ели пареную, капусту квашеную, молоко кислое и свежее. Это вы сейчас нос воротите от такой пищи. Не знаю, чего и хотите-то. А тогда все это ели за милую душу, не брезговали. Одевались очень и очень просто: чуни одни на двоих, холщовые домотканные рубахи. А о выходной одежде и не слыхивали. Когда коллективизация началась, я еще в девках была. Много ли понимала? Сидели мы с подружками как-то вечерком на лавочке. Подъехала машина с работниками НКВД. Прогнали нас и стали одну семью «кулачить». Они богато жили! Забрали всех: и стариков, и молодых, и даже ребенка. Увезли их куда-то. Потом приехали за добром. А вот Авдоньиных раскулачили (они за речкой жили) по-другому: забрали только добро, а самих оставили. Мы радовались, что нас не тронули. Да, мы, слава Богу, и не кулаки были. Думали, что так и надо. А зачем надо? Мы вообще ничего не знали. Главное, чтоб меня не тронули. В колхозе работали с утра до ноченьки. Все делали вручную: жали серпами, косили косами, собирали в снопы. Работа очень тяжелая, непосильная. Получали крошки: 300 грамм ржи за трудодень. Мы трудодни палочками называли. Особенно трудно было нам, женщинам. Никого не интересовало, что ты тяжела ходишь, родишь скоро. Не интересовало заболела ли ты, дитя ли у тебя малое занедужило. Все идут на работу, и ты идешь, хоть и беременная. Приучили нас старики любить землю. Не можем мы без нее. Вот и сейчас стара стала, а все в земельке повозиться охота. Так вот в поле и тянет. Давно, правда, я поля со спелой пшеницей не видела.
Док. 34
N Мария Александровна (фамилию просила не называть) родилась в 1916 г. в с. Красный бор Кемеровской области. Рассказ записала Циммерман Оксана в 2000 г.
Нашу семью можно было отнести к середнякам, то есть, жили не то чтобы богато, но и не бедно. Наемным трудом не пользовались, всю тяжелую крестьянскую работу выполняли своими собственными руками. Отношение к беднякам было разное. С одной стороны, их было жалко. Ведь многие из них стали такими из-за засухи, неурожаев и других стихийных бедствий. Но, с другой стороны, многие из них были людьми, любившими выпить, ленивыми. Кулаками считали людей, имевших большое хозяйство, лошадей, нанимавших батраков. Односельчане кулаков не любили, завидовали их жизни. С ними власти разбирались очень быстро: приходило несколько человек, отнимали все имущество, скотину, технику. А семью выселяли из деревни, как говорили, на Колыму или на Север. С собой они почти ничего не могли взять. Разве что кое-какую одежду. И что-нибудь из еды. О них в деревне больше никто ничего не слышал. Никаких вестей или писем от них в деревню не поступало. Родители рассказывали, что из города приезжали коммунисты, собирали их на собрания и обещали хорошую жизнь в колхозах. К тем, кто особо противился колхозам, применялось запугивание, угрожали ссылкой, тюрьмой, лагерями. Охотно в колхоз шли в основном бедняцкие семьи. Ведь у них же ничего своего не было. Им терять было нечего. Середняки уже шли более неохотно. Им приходилось сдавать в колхоз лошадей, коров, свиней, нередко даже домашнюю птицу, часть собранного урожая, сено. Конечно, не всем нравились новые порядки… Рабочий день у колхозника на ферме или в поле начинался рано... Оплата велась по трудодням или, как у нас говорили, по «палочкам»… Оплаты деньгами не было. Давали зерно, муку, корм для скотины и т.д. Но очень мало. Прожить на это нельзя… В эти времена трудно приходилось крестьянам, так как они почти все сдавали государству по налогам… Без боли не могу вспоминать время, когда вовсе есть нечего было. Приходилось питаться тем, что найдешь в лесу: грибы, ягоды, орехи. В хлеб добавляли гнилую картошку и отруби.
Док. 35
Дубская Елизавета Михайловна родилась в 1916 г. в д. Журавли (нынешнего Кемеровского района). Рассказ записала Устинова Александра в 2001 г. (г. Кемерово)
Коллективизацию я воспринимаю как вредительство против народа. Ничего мы поделать не могли против власти. Раскулачивали более зажиточных, самых работящих. Забирали тех, кто жил хорошо, имел хозяйство. Власть относилась к кулакам плохо. Их нигде не принимали. Даже их дети считались врагами народа, и им не разрешалось учиться в учебных заведениях. Кулаков с семьями стали ссылать в Нарым. Все отбирали. В деревнях всех мужчин забирали, а оставшихся расстреливали. Нашу семью тоже хотели сослать в Нарым. Но отвезли в Ягуновку. Здесь расстреливали. Люди сами себе выкопали яму. Их расстреляли и закопали в этой яме. В числе этих людей был и мой отец. В Нарыме почти все угнанные из нашей деревни умерли. В живых остались только немногие... Через несколько лет после раскулачивания стали искать врагов народа. Напишут на соседа заявление, и человека сажали. Брата так посадили. За связь с Америкой. А он даже не знал, что такое Америка. 10 лет и просидел. Его допрашивали, пытали, ставили коленями на соль. Стоял, пока не падал без сознания. Однажды так очнулся, а ему зачитали приговор. Брат остался живой, вышел. До коллективизации мы питались хорошо. Одевались тоже неплохо: холщевье было, тулупы, дохи, шубы. Хозяйство было хорошее: 5 коров, 10 лошадей, овцы, куры, гуси, утки. Хлеб сами выращивали, продукты все были свои. Во время коллективизации жили плохо. Лучше и не вспоминать! Были сильные голоды. После колхозов власть все зерно попрятала. Все сгноили, людям ничего не дали. И питались люди лебедой, гнилую картошку собирали. Когда началась война, все мужики пошли воевать. В деревню привезли радио, повесили. Весь народ собрался. Все послушали, а утром отправили мужиков, собрав им на подводы поесть. До города шли пешком. Немного их вернулось с войны. Почти в каждой семье были похоронки. Больше погибли первые. Остались живыми только те, которые ушли на фронт позже. Брали на фронт до 50 лет. У колхозников было свое хозяйство, за счет которого и выживали. Скотина была (корова, поросенок, овцы), но лошадей не было. Разрешалось держать только одну корову в одном дворе. Налоги были высокие, особенно в годы войны. В войну даже лишней рукавицы не свяжешь. Времени уходило много на содержание хозяйства: корову подоить, покормить скотину. Все успевали делать. Ты спрашиваешь, кто в колхозе жил «справно». Палачи и жили. Сами не работали, а жили хорошо. Люди на них батрачили.
«В д. Ягуново действительно был лагерь, в котором расстреливали. Видимо, это был первый лагерь уничтожения. Из него не вышел ни один заключенный. Последнюю партию заключенных, по свидетельству очевидцев, сожгли в заколоченном бараке. На этом месте в 90-е годы поставили обелиск» [532] (с. 144).
Док. 36
Чечевский Николай Остапович и Чечевская (Боброва) Ефросинья Федоровна родились в 1917 г. Рассказ записала Лопатина Наталия в 1999 г. (спецэкспедция фонда «Исторические исследования»), (п. Щегловский Кемеровской области)
Николай Остапович: В семь лет я остался сиротой и жил у кулаков (плачет). Хозяев я называл «тетька», «дядька». У них все делал: полы мыл, с детьми водился. За это они меня кормили, одевали... Меня взял другой мужик — Чувим Иван Полисандрович... Я у него три года прожил. Он в тайге жил, шишкарил, рыбу мешками домой возил, хозяйство держал. Когда колхозы пошли, он мне говорит: «Иди, Коля, в колхоз, и я пойду». Я ведь у него как в батраках ходил, и его из-за меня могли раскулачить и сослать… Я в колхозе работал с двенадцати лет. Поскольку жить было негде, квартировался у старичка. Он меня на коня посадит, хлеба, сала даст и отправит боронить колхозные поля. У нас были бригадиры, молодые ребята, здоровенные. Хорошие, не из кулаков. Они — начальство! Что нам прикажут, то мы и делаем. Вот, мы парнишек десять работаем, а они за нами наблюдают. На ночь они уезжают домой, а нам не разрешали, мы жили на пашне в избушке. Помню, как раскулачивали. Собраний бедноты не было. Покажут на кого-нибудь, что он кулак, что держит работника, вот и все. И необязательно собираться. Слово бедняка вес имело, а кулака никто не слушал. Их выселяли вместе с ребятишками малыми и брать ничего не разрешали. Подгонят к дому кулака телегу или сани, имущество кулаков туда погрузят и увозят, скот в колхоз передавали. А их без всего увозили в тайгу, где чуть небо видать, в Нарым. Люди плакали, причитали. У нас в деревне мельник жил. Он коня, коров, свиней держал. Дом большой круглый. Когда его раскулачивали, народу, как всегда, собралось. Скот уже угнали, их вот-вот повезут. А их сын (мы с ним вместе бегали) залез на забор и причитает: «Ой, маменька, зачем ты меня родила? Лучше бы в зыбке удавила». Их увезли, мельницу передали в колхоз. Я одно время жил у председателя колхоза. Вот тогда я хорошо питался, не голодал, хотя в деревне голодно было. Председатель отправлял меня на колхозный склад за продуктами. Своих детей не посылал, чтобы «не светиться». Мне кладовщик положит в сани муки, мяса еще чего-нибудь. Я это привезу домой к председателю. Они всей семьей едят и меня кормят. Потом в колхозе мука закончилась. Тогда председатель стал посылать на мельницу своих ребят. На мельнице был кассовый сбор — за центнер намолоченной муки надо было отдать 5–6 кг. Вот мельник и отдавал им какую-то часть того кассового сбора. И тут-то меня перестали кормить. Говорили: «С колхоза бери». А в колхозе был только жмых. Женщины жмых намнут, смешают с рожью, которую брали из другого колхоза, и пекли лепешки. Мне давали в колхозе полкило подсолнухами и литр молока. Я тогда в колхозе пас свиней с одним богачом (по моим понятиям), он на обед сало ест, а я — молоко. В Щегловку я попал в 1932 г. Здесь в 1931 г. стали строить совхоз. Вот наши ребята и подались сюда. Убежали от голода… Женился я после войны. Жена учила ребятишек, и мы жили в школе. Детки ходили через нашу кухню в свой учебный класс. Это не совсем школа была. Это было строение, крытое соломой, без света. В нем во время дождя невозможно было находиться. Как дождь, мы под столом прятались, так как он воду не пропускал. Мы в этой школе жили до 50-х годов…
Ефросинья Федоровна: Вы спрашиваете, какая у нас была свадьба. Что Вы, какая свадьба? Жрать нечего было! Я с мамой жила. Николай с друзьями приехал, мы сошлись — и все! Друзья уехали, а он остался. Я работала учительницей младших классов. Закончила в городе 10-месячные курсы. Нас с подружкой распределили по окончании курсов в Щегловский совхоз. Мы сюда приехали, увидели здешнюю жизнь, ужаснулись. Давай плакать! Пришли в контору, стали упрашивать, чтобы нам выдали документы. Но нам их не отдали. Так я здесь и осталась. Человек ко всему привыкает.
Николай Остапович: Я не жил, а существовал! Вся жизнь — борьба за элементарное существование.
Так что не только дети «кулаков» большевикам были без надобности, а потому миллионами зверски уничтожались голодом и холодом в пересылочных холодных вагонах для скота и брошенные на смерть без жилья, одежды и пропитания в необитаемых северных районах Сибири, но и дети бедняков. Большевикам, судя по всему, вообще русские дети не требовались. Потому хоть теперь, когда половина России уже отдана под перезаселение инородцами, наконец становится куда как более понятной направленность политики советских партии и правительства. Эта направленность именуется лишь единственным термином: геноцид.
532. Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. Коллективизация и раскулачивание в воспоминаниях очевидцев. М., 2006.
Алексей Алексеевич Мартыненко


 Конкурс "Воскресающая Русь"
Конкурс "Воскресающая Русь"











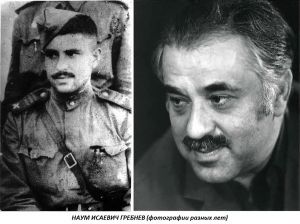





































 Андрей Черноморский
Андрей Черноморский
 Иван Жук
Иван Жук
 Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева
 Павел Турухин
Павел Турухин
 Вадим Бергаментов
Вадим Бергаментов
 Тимофей Крючков
Тимофей Крючков
 Олег Зарубин
Олег Зарубин
 Евгений Шевцов
Евгений Шевцов
 Игорь Горбачев
Игорь Горбачев
 Александр Трубин
Александр Трубин
 Валерий Шамбаров
Валерий Шамбаров
 Анатолий Евсеенко
Анатолий Евсеенко
 Сергей Рассказов
Сергей Рассказов
 Игорь Гревцев
Игорь Гревцев
 Николай Зиновьев
Николай Зиновьев
 Владимир Крупин
Владимир Крупин
 Марина Хомякова
Марина Хомякова
 Павел Рыков
Павел Рыков
 Никита Брагин
Никита Брагин
 Владимир Хомяков
Владимир Хомяков
 Андрей Сошенко
Андрей Сошенко
 Сергей Моисеев
Сергей Моисеев
 Георгий Боровиков
Георгий Боровиков
 Олег Платонов
Олег Платонов
 Юрий Кравцов
Юрий Кравцов